
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Robin Skynner John Cleese 20 страница
Робин. Это помещает принцип в скорлупу.
Джон. Насколько все это применимо к миру спорта, где основной ценностью является «спортивность» — стремление победить соперника «в рамках правил»? Эта формулировка допускает несколько толкований...
Робин. Я бы сказал, что здоровое отношение к игре, помимо чистого удовольствия от физической активности и применения своих навыков, состоит в состязании со стоящим оппонентом, который требует напряжения всех сил, потому что он «достойный соперник». При нездоровом, параноидальном подходе соперника считают врагом, который должен быть сокрушен и, по возможности, унижен и раздавлен.
Джон. В основном чем более узко сфокусирован человек на победе, тем менее он здоров?
Робин. В основном да. Победа любой ценой имеет весьма сомнительную ценность!
Джон. То есть чем менее здоровы игроки, тем более цинично они будут манипулировать правилами и даже смотреть сквозь пальцы на обман.
Робин. Видишь ли, для человека этого уровня поражение ощущается так, будто он раздавлен, уничтожен. Он не понимает, что от игры получаешь больше удовольствия, если играть в нее с другим настроем, — и испытывать при этом гораздо меньше тревоги и страха!
Джон. Мы вновь говорим о цельности.
Робин. Да. Более здоровый человек понимает, что результат является только частью игры. Поэтому он заботится еще и о том, чтобы его поведение отражало его личные ценности, поддерживало его дружеские отношения с соперником и увеличивало всеобщее удовольствие от игры.
Джон. Это имеет отношение и к «объединительному подходу», так? Некоторые наиболее трогательные переживания в моей жизни связаны с мгновениями высокого спортивного духа. Ты знаешь, как электризует атмосферу игры, когда один из игроков неожиданно демонстрирует, что он понимает превосходство «честной игры» над победой. Потому что подобное уважение к правилам подчеркивает факт принадлежности игроков к общей культуре. Это напоминает всем: то, что разделяет игроков менее важно, чем то, что их объединяет. И когда игрок это демонстрирует, то в настроении толпы происходит чудесная перемена. Атмосфера на стадионе вдруг совершенно меняется. Все мелкие, ограниченные страсти уходят, и воодушевленная толпа ревом выражает свою поддержку. Все так же желая победы, но в то же время осознавая, что соперники тоже «неплохие ребята» и что в конце концов значение имеет только сама игра.
Робин. А в отсутствии паранойи возникает еще больше веселья. К сожалению, в последние годы во всех видах спорта получило распространение одержимое отношение к победе. Рискну предположить, что в авангарде этого были теннисисты конца семидесятых — начала восьмидесятых.
Джон. Меня всегда поражало, что некоторых ведущих игроков считают достойными обожания в основном из-за того, что они поляризуют зрителей — их либо любят, либо ненавидят. Что может быть и хорошо с коммерческой точки зрения, но плохо для всех молодых людей, ищущих образец для подражания, потому что эта параноидальная поляризация зрителей кажется
15* 227
мне отражением такого же раскола в психике игроков, принимающих в этом участие.
Робин. И конечно же, это порочный круг. Если раскол в психике игроков достаточно глубок для того, чтобы подобным образом поляризовать толпу, то толпа, в свою очередь, будет поощрять этот раскол и чувствовать разочарование, если игроки не ведут себя неподобающим образом и не оскорбляют рефери. Поэтому становится все труднее и труднее отойти от этого параноидального поведенческого шаблона и, как ты подметил, молодые люди в конце концов начинают считать это «нормальным» и перенимают такое поведение. Я думаю, что спортивные соревнования и игры были гораздо здоровее, когда победа рассматривалась лишь как часть чего-то большего. Старые британские идеалы «честной игры» и «достойного поражения» были достойны всяческого восхищения и произрастали из гораздо более взрослого и цельного мировоззрения.
Джои. Я вдруг подумал о том, что мы обсуждали все это, не упоминая об огромных деньгах, которые в наши дни приносит победа. Может быть, деньги как раз и являются той ценностью, о которой я должен был спросить тебя прежде всего. Они имеют громадное значение в общественном взаимодействии, однако, в отличие от других ценностей и мифов, представляются мне изначально нейтральными в нравственном смысле. Я имею в виду, что деньги просто способствуют товарообмену, сами по себе не являясь однозначно хорошими или плохими. И все же о них существуют миллионы мифов, и огромное количество человеческих ценностей и черт поведения определяются деньгами. Как ты представляешь себе отношение к старым добрым аморальным деньгам на разных уровнях душевного здоровья?
Робин. Это огромная тема. Но давай посмотрим на нее в свете трех показателей здоровья, которые мы уже обсуждали. Во-первых, исключительно здоровые люди воспринимают мир очень четко и реалистично. Поэтому у них больше шансов ясно понять, что деньги — средство для получения вещей, необходимых для создания условий жизни, которые человек считает наиболее удовлетворительными для себя. И здоровые люди яснее представляют себе, что на самом деле является удовлетворительным, так что они достаточно точно понимают, сколько денег им для этого нужно. И вряд ли будут тратить много времени на то, чтобы заработать больше!
Джон. То есть если люди тратят много времени на то, чтобы добыть больше денег, чем им действительно нужно, они демонстрируют нездоровое поведение.
Робин. Да.
Джон. А если они так поступают, то это должно быть связано с символической ценностью, которую для них имеют деньги.
Робин. Правильно. Для некоторых людей деньги изначально являются символом их власти или статуса — их положения в иерархии; для некоторых, особенно для отдельных пуритан, обладание деньгами выражает нравственные добродетели; а для некоторых, страдавших от настоящей бедности в молодые годы, они символизируют защиту от возврата в это нищенское состояние.
Для многих людей, страдавших от недостатка любви и эмоциональной защищенности в детстве, деньги становятся их заменителем, источником ощущения безопасности и вознаграждением, над которым они обладают полной властью. Это одна из причин, почему многие люди не испытывают ощущения довольства; они никогда не могут удовлетворить свою потребность в деньгах, которая в основе своей является эмоциональной.
Джон. Есть ли какие-нибудь чисто психиатрические аспекты в непреодолимой тяге к накоплению, которые со своей точки зрения представляют особый интерес?
Робин. Я никогда не встречал среди таких людей ни одного счастливого человека!
Джон. То есть можно сказать, что чем более непреодолимой является тяга человека к деньгам и чем больше она основывается на некоей неосознаваемой символической ценности, тем более низкий уровень душевного здоровья человек проявляет?
Робин. Да, я бы с этим согласился.
Джон. Итак, один аспект душевного здоровья при рассмотрении денег — реалистичное восприятие. Каков второй аспект, проливающий свет на презренный металл?
Робин. Наш старый приятель — цельность. Это просто означает, что здоровые люди применяют тот же подход и к деньгам — считая их частью своей жизни (как поступают со своим внутренним миром), а не обращаясь с ними как с чем-то отдельным, изолированным от всего.
Джон. То есть циничное отношение «бизнес есть бизнес» не для них?
Робин. Нет, даже если рабочая обстановка и становится временами очень жесткой и беспощадной, более здоровые люди все равно стараются придерживаться собственных ценностей.
Джон. Но в деловом мире всегда найдется несколько по-настоящему гадких людей, не так ли? Я сам встречал парочку...
Робин. Их хватает. Но не забывай, что «здоровяки» реалисты. Они предпримут все необходимые меры предосторожности, имея дело с кем-то, кого считают неразборчивым в средствах. Но это же справедливо и в остальной их жизни.
Джон. Приятно осознавать, что лучшие из средневековых подходов до сих пор живы. А каково третье мерило здоровья, освещающее отношение к деньгам?
Робин. Наиболее очевидное — «объединительный подход». Более здоровые люди щедрее делятся деньгами — примерно так же, как они делятся своим теплом, дружелюбием и доброжелательностью.
Джон. Не правда ли, интересно, какую неприязнь вызывает человек, не ставящий выпивку, когда до него дойдет черед! Но могу предположить, что люди интуитивно чувствуют, что это служит проявлением более глубокого отношения этого человека к своим друзьям.
Робин. Подобное поведение обычно отражает общую тенденцию, не так ли? Если оно имеет постоянный характер, то скорее всего проявляется и в других аспектах поведения человека. Ты, наверное, не решишься вступить в деловые отношения с человеком,
который не стесняется использовать для своей выгоды арифметическую ошибку продавца в магазине.
Джон. Есть еще последний аспект денег-как-ценности, который я хотел бы затронуть, — материалистический. Я никак не могу составить окончательное мнение об этом, несмотря на все свои материалистические наклонности! Позволь рассказать тебе историю. Давид Путнэм однажды сказал мне, что три первых человека, с которыми он отобедал после того, как возглавил «Коламбиа Пик-черс», различными способами попытались довести до его сведения, что они стоят больше ста миллионов долларов. Он много размышлял об этом и пришел к выводу, что они не просто старались произвести на него впечатление своей мощью; он почувствовал, что они пытались донести до него понимание их ценности, и деньги являлись практически единственным средством, при помощи которого они могли бы это сделать. Естественным следствием этого является то, что они могли на каком-то уровне чувствовать, что находились бы на довольно низком уровне иерархии, если бы их ценность измерялась при помощи любого другого критерия. Как по-твоему, что заставляет людей пытаться основывать собственную самооценку на величине своих материальных накоплений?
Робин. Как ты сказал, они, должно быть, ощущают, что обделены другими качествами, если вынуждены выставлять напоказ состояние своего банковского счета. Хотя здесь ты, как и Путнэм, говоришь о США, в частности о Лос-Анджелесе, и в особенности о киноиндустрии. А как мы знаем, у людей, обретающихся в этих кругах, деньги являются общепринятым мерилом статуса по причинам, о которых говорил в главе 3.
Джон. Людей влечет накопление богатства, потому что они не способны разглядеть значение других ценностей?
Робин. Не обязательно. Некоторые могут копить богатство, чтобы обрести свободу и ресурсы для других вещей — как для собственных свершений, так и для чужих. Но если человека заботит только делание денег, я могу предположить, что он серьезно обделен в других отношениях. И не осознает своей глобальной обделенности.
Джон. То есть, перефразируя Оскара Уайльда, материалист — это человек, который всему знает цену и ничего не ценит?
Робин. И не осознает того, как много не знает!
Джон. Тогда можешь ли ты сказать, что материализм является образчиком узкого, буквалистского мышления, характеризующего менее здоровый подход к толкованию ценностей?
Робин. Да, могу. Ограниченность взглядов, когда человек не видит леса, только деревья.
Джон. Что ж, я попытаюсь приблизительно подвести предварительный итог. Мы рассмотрели, что каждый человек интерпретирует мир в соответствии со своим уровнем душевного здоровья. И мне кажется, что чем менее мы здоровы, тем более ограничены и буквальны мы в своих толкованиях буквы закона; а чем мы здоровее, тем большее влияние на нас оказывает более широкая идея, скрывающаяся за частной формулировкой мифа, который мы пытаемся толковать.
Робин. Ты действительно ухватил самую суть.
Джон. Мне вот что пришло в голову. Люди все время говорят о том, что ценности изменяются, не так ли? Ну, знаешь: «Люди верили в X— теперь больше не верят». Или: «Люди не беспокоились об этом — теперь их это тревожит». Но, в сущности, дело не в том, что изменилась сама ценность. Никто никогда не утверждал, что верность «плоха» или что притеснение есть «благо». То есть на самом-то деле все время изменяется толкование ценности, правда?
Робин. Я думаю, что здесь есть два аспекта. Во-первых, все те ценности, об утрате которых постоянно скорбят, в основе своей не изменились, они оставались теми же на протяжении всей истории. И я не сомневаюсь, что жалобы об их утрате также раздавались на протяжении всей истории. Но вторым моментом является то, что присутствуют некоторые колебания в степени нашего уважения к ним и в том, насколько узким и буквальным или широким и всеобъемлющим является наше понимание этих ценностей в любой заданный исторический отрезок. Это соответствует колебаниям в обществе между настроением, ориентированным на более узкий, эгоистичный и краткосрочный подход к жизни и на более объединяющие, «традиционные» ценности, рассматривающие общество как единое целое и проявляющие заботу о благополучии всех классов, а также будущих поколений.
Джон. Осталась еще одна вещь, о которой я хотел спросить у тебя в связи с ценностями. И она неимоверно велика! Или, может быть, нет...
Робин. О чем ты говоришь? Джон. Слово на букву «Р». Робин. Религия? Джон. Да.
Робин. Почему ты так стесняешься этого?
Джон. Ну, если бы мы сейчас затеяли действительно серьезную дискуссию о религии, то большинство наших читателей просто выкинули бы эту книжку в ведро, не так ли? Я имею в виду, что в наши дни это просто не разрешено рассматривать как серьезную тему. Даже незначительный интерес бросает на тебя тень подозрения, если только ты не пытаешься подняться в иерархии консервативной партии.
Робин. Я думаю, что здесь произошли большие перемены. В пятидесятых, когда я стажировался в психиатрии, я помню, как болтал со своей группой в больничной столовой и у нас состоялось весьма откровенное и подробное обсуждение сексуальных извращений — что в те дни в разнополой компании за больничными стенами вызвало бы реакцию шока пополам с ужасом. И я поймал себя на мысли, что аналогичная реакция шока вперемешку с ужасом возникла бы у моих коллег, если бы кто-то столь же открыто начал обсуждать духовные переживания. Но с тех пор эта тема наверняка стала более открытой для обсуждения. Ни у кого не возникает задних мыслей, если человек говорит о медитации или отшельничестве. Я думаю, ты несколько отстал от жизни.
Джон. Возможно... Надеюсь, что ты прав, потому что я хочу расспросить тебя о религиозных ценностях. Думаю, большинство
согласится, что наши мирские ценности либо непосредственно происходят от них, либо по меньшей мере находятся под их мощным влиянием. Хотя на самом деле это просто оправдание моей попытки выяснить возможность «различных толкований на разных уровнях душевного здоровья» применительно к религии.
Робин. Почему ты хочешь исследовать именно это?
Джон. Ну, я обнаружил у себя растущий интерес к религии и слегка этим обеспокоен. Я хочу сказать, что большинство людей готовы простить мне мое участие в групповой психотерапии; но если сейчас я начну признаваться в серьезном отношении к религии, то они подумают, что я по-настоящему свихнулся.
Робин. Ты преувеличиваешь для большего комического эффекта?
Джон. Нет. Или не очень. Ты понимаешь, о чем я говорю, Робин. Упомяни на званом обеде о чем-нибудь вроде «силы» в космосе, и если люди догадаются, что ты не гравитацию имеешь в виду, то их улыбки сразу застынут, а глаза начнут бегать.
Робин. Ты считаешь, что люди настолько неудобно себя чувствуют по отношению к религии?
Джон. Я не думаю, я знаю это. Большинство в Великобритании считают, что та версия религии, которую им предлагают, вряд ли может вызвать особый интерес у смышленых людей. А если это ранит чувства какой-либо Церкви, то я хотел бы указать на два момента. Во-первых, правота моих слов отражается в малочисленности людей, посещающих церковь, в те дни, когда так много людей озираются вокруг в поисках чего-нибудь, несущего смысл; и во-вторых, я вообще не имею в виду отдельных представителей Церкви — как правило, я считаю их открытыми и готовыми к участию и восхищаюсь их борьбой. Нет, я говорю о самих учреждениях и проводимой ими политике, этой смеси банальности и мистики, которой они размахивают перед нами.
Робин. Ты как будто сильно раздражен этим.
Джон. Полагаю, что да. Потому что сейчас, когда я знаю о существовании в мире некоторых действительно интересных идей, я в самом деле разгневан тем, что так много из того, что мы слышим из ортодоксальных религиозных источников, не может показаться большинству людей чем-то, представляющим особый интерес. Вот почему мне и моим друзьям привили отвращение к этому в школе. То, чему нас тогда учили, просто не имело для нас никакого смысла. А то, что было постижимо, не было разумным. Слова Евангелий будили странный отклик, да, но никто не говорил об этом так, чтобы это могли воспринять или по-настоящему применить в нашей жизни.
Робин. Ты прошел конфирмацию?
Джон. Да, тем же манером, как вступал в кадетский корпус. Когда меня готовили к конфирмации, мне говорили об идее Христа как Сына Божьего, и прощении грехов, и жизни вечной; предполагалось, что затем, после приличествующего периода духовного исследования — порядка двух дней, я приду к согласию с ними, несмотря на то, что они были для меня абсолютно лишены смысла. И все это время мы, несчастные подростки, каждое воскресенье выслушивали проповеди, настолько захватывающе
глупые, что единственной достойной реакцией на них мог бы быть поджог кафедры. Поэтому после окончания школы мне и в голову не приходило приближаться к Церкви. За исключением венчаний, конечно. Моим образом религии в течение многих лет была сценка, которую я наблюдал на церемонии венчания моего приятеля в конце шестидесятых. Я стоял за церковной скамьей, окруженный крупными, самоуверенными женщинами в странных шляпках, которые затягивали каждую строфу раньше всех, дабы показать, что посещают церковь каждое воскресенье, а последнюю ноту они также тянули гораздо дольше всей остальной паствы, чтобы утвердить свое превосходство. И пока они выводили рулады о силах мизийских, крадущихся в темноте, я стоял, не в состоянии утереть слезы, настолько ослабевший от смеха, что мог в любой момент свалиться на пол. «Восстаньте, христиане, и сокрушите их, — пели они с большой свирепостью. — Сокрушите их силой Великого Поста». А привело меня в такое состояние не совершенная нелепость всего этого, а прежде всего мысль о том, что все эти славные люди могли верить, будто все, что они делали, могло быть приятно Господу. Тогда как я имел сильнейшее ощущение того, что Бог, способный всерьез одобрять этот бедлам, должен быть подвинувшимся в Своем бесконечном рассудке.

Робин. И ты считал это единственным доступным выбором?
Джон. По своему невежеству, да. Ирония заключается в том, что только когда я занялся самостоятельным изучением некоторых книг перед написанием «Жизни Брайана», я начал открывать для себя идеи, которые действительно имели для меня смысл. С тех

пор мне удавалось встречать все больше и больше людей и больше и больше книг, поддерживающих мой интерес. Поэтому надеюсь: то, что ты мне расскажешь, сможет убедить некоторых моих высокоинтеллектуальных друзей в том, что существуют аспекты религии, стоящие немного больше, чем вышеперечисленное.
Робин. Начнем с того, что религиозные идеи с очевидностью являются предметом такого же толкования на различных уровнях душевного здоровья, что и другие ценности или «мифы», которые мы обсуждали. Создается впечатление, что все великие мировые религии созданы столь замечательно искусным образом, будто они предназначены для того, чтобы приносить пользу людям любого уровня душевного здоровья, в соответствии с их способностью понимать.
Джон. То есть религиозная идея будет истолкована человеком так, чтобы наилучшим образом подходить к его психологии?
Робин. Да, и благодаря этому она может поддерживать его оптимальное функционирование на доступном ему уровне, с учетом его ограничений.
Джон. Хорошо. Начнем разбираться с различными уровнями душевного здоровья и посмотрим на соответствующие им основные религиозные подходы.
Робин. Сначала возьмем людей, находящихся на наименее здоровом уровне. Они понимают религию как собрание правил, наград и кар, угроз и обещаний, насаждаемых могучим и вселяющим страх Богом.
Джон. Нечто похожее на экстремистское, черно-белое мышление, наблюдаемое у маленьких детей?
Робин. Оно самое. Мышление таких людей застряло на этом уровне, и хотя оно нормально для очень маленьких детей, у взрослых оно с очевидностью свидетельствует о нездоровье.
Джон. Довольно параноидальное, на самом деле.
Робин. О, да. Весьма экстремистское, склонное к насилию и карательным мерам.
Джон. А каким представляется Бог?
Робин. Он представляется устрашающим, деспотическим, неуравновешенным диктатором, требующим, чтобы все проводили свое время, восхищаясь Им и вознося Ему хвалу.
Джон. Этакий неземной Саддам Хусейн.
Робин. Недалеко от этого, в каком-то смысле. Поэтому естественно, что придерживающиеся таких взглядов люди ощущают, что многое должны сделать, чтобы Его умилостивить, чтобы у Него не испортилось настроение и Он не обрушил на их головы молнии, кипяток или реки крови.
Джон. Немного похоже на церковных прихожан в «Смысле жизни», которые, будучи приглашенными восславить Господа, все затянули «Оооо, Ты так велик», и «Ты так силен и крепок, что можешь сокрушить любого, особенно Дьявола», и «Мы все потрясены» — перед тем, как запеть псалом 42, «О Господь, не сжигай нас». Помню, когда мне было девять лет, я подумал, что Бог не может быть настолько глуп, чтобы не раскусить столь грубую лесть.

Робин. Конечно, смысл молитвы состоит не в том, что в ней нуждается Бог или что она несет ему благо — это нелепо, тут я согласен, но в том, что она нужна нам и что мы делаем благо себе, вознося ее. Видишь ли, если мы хотим находиться в гармонии со вселенной, то должны понимать, насколько мы зависим от нее, как сравнительно малы и беспомощны. Тогда мы чувствуем к ней должное уважение, которое ведет нас к заботе о мире и всем в нем живущем вместо хищнического использования и уничтожения окружающей среды, как мы делаем в наши дни. Другими словами, мы должны испытывать чувство благоговения, изумления, любви к сущему... тогда мы можем восхвалять это, как влюбленный восхваляет предмет своей любви.
Джон. Допустим. Но разве на этом нижнем уровне молитва не рассматривается как лесть, будто заставляя Бога почувствовать свою значимость, можно привести Его в хорошее настроение?
Робин. Что-то вроде этого. И даже когда Бог видится с положительной точки зрения, это похоже на некоего директора космической школы на выпускном вечере, раздающего нимбы и входные билеты на небеса тем, кто сделал домашнее задание и не был пойман курящим на заднем дворе.
Джон. Хорошо. Тогда поднимемся к среднему уровню, нашей доле. Как мы относимся ко всему этому?
Робин. Конечно, мы не придерживаемся столь крайних взглядов; у нас более уравновешенное понимание и видение Бога. Для нас он более милосердный и сострадательный. Но все же мы склонны рассматривать религию как набор правил. Для людей среднего уровня религия скорее представляется вместилищем, позволяющим прожить жизнь с минимумом беспорядка и тревог.
Джон. Ты хочешь сказать, что это слегка напоминает средне-уровневый брак: установленный порядок, при котором все надежно размещены; он скорее закрепляет наши воззрения, нежели подталкивает к их пересмотру?
Робин. Точно. В нашем кругу приверженность догме считается весьма существенной.
Джон. И Бог все так же является общепринятым воплощением авторитета.
Робин. Да, некто, устанавливающий правила и судящий людей по тому, насколько хорошо они их выполняют.
Джон. Другими словами, весьма похоже на то, как вел бы себя человек, повышенный до поста Бога!
Робин. Да. Как строгий, отстраненный, но любящий родитель. Затем, по мере того, как мы поднимаемся выше и выше по средней части шкалы, которая, как ты помнишь, является весьма протяженной, Бог все больше и больше представляется как любящая сущность, друг и наставник, доступный нам, когда мы ищем контакта с Ним, но приемлющий нашу преданность, только если она основывается на полной свободе выбора. Эта преданность в таком случае исходит от всего нашего существа, а не от его части, страшащейся кары или жаждущей вознаграждения.
Джон. То есть здесь Бог выступает как средоточие всего, что мы ценим, но все еще как некое существо.
Робин. Да, как некто, заботящийся о нас наподобие родителя, но с кем мы можем поддерживать отношения.
Джон. А сейчас наступает момент, которого мы все ждали. Расскажи мне о третьем уровне — людях, занимающих верхнюю часть шкалы здоровья.
Робин. Так как мы оба принадлежим к средней части, попытка ответить на этот вопрос слегка напоминает попытку представить себе вид с вершины горы, будучи на полпути к ней... Но поскольку у меня бывали моменты мимолетного ощущения того, что значит быть более здоровым, и, может быть, я стал чуточку здоровее благодаря осмыслению тех идей, о которых мы говорили, я думаю, что имею некоторое представление... Рискну предположить,

что по-настоящему здоровые люди воспринимают религиозные мифы не как правила или приказы, а как разновидность самоучителя, помогающего людям в их духовном самоосознании и развитии.
Джон. Ты хочешь сказать... при таком подходе религиозные учения дают людям понимание того, где они находятся в духовном смысле и что им нужно делать, чтобы добиться прогресса?
Робин. Да, с основным упором на то, чтобы помочь им ощутить более тесную связь со всем, что их окружает.
Джон. Связь с другими людьми или связь вообще со всем, что «вовне»?
Робин. И ту и другую. Связь с вселенной, частью которой мы являемся.
Джон. То есть для «самых здоровых» мифы являются информацией — не приказами. Почти что предложениями, с которыми они вольны поступать как хотят?
Робин. Скажем так — экспериментировать. Проверять, могут ли они чему-то научиться при использовании этих идей.
Джон. Как в университете, где тебе предоставляют гораздо больше свободы исследовать и принимать собственные решения, а не починяться школьным правилам?
Робин. Думаю, да. Более зрелые отношения, при которых религия обращается с человеком как с молодым взрослым, а не как с ребенком.
Джон. Таким образом, ценность присваивается исследованию и осмыслению, а не беспрекословному подчинению.
Робин. Да.
Джон. А как выглядит Бог на этом уровне?
Робин. Позволь мне сформулировать это следующим образом. Я подозреваю, что Бог ощущается не как личность, но скорее как чувство, непосредственное осознание того, что вселенная

упорядочена и осмыслена. Мы упоминали в главе 1, что у «самых здоровых» большей частью присутствует чувство соединенности с вселенной; и я подозреваю, что в моменты наивысших переживаний они ощущают себя действительно частью этой упорядоченности. Люди, испытавшие это чувство единения, находят его абсолютно совершенным. Человеку не нужно ничего другого.

Джон. Что ж, это уже привносит для меня смысл в некоторые вещи. И позволяет мне гораздо лучше объяснить, что предполагалось вложить в «Жизнь Брайана^. Как ты помнишь, фильм подвергся нападкам со стороны различных религиозных группировок под предлогом того, что он высмеивает религию и самого Христа.
Робин. Сильнее всего протестовали в Америке, не так ли?
Джон. Да. В Нью-Йорке мы были прокляты группами ортодоксальных иудеев, иудейских либералов, католиков, лютеран и кальвинистов. Как сказал Эрик Айдл, мы добились некоего блага — мы дали им что-то, о чем они смогли договориться впервые за 2000 лет. Но, говоря серьезно, мы высмеивали то, как некоторые люди исповедуют религию, а не саму религию. Однако наши критики, казалось, были совершенно не в состоянии отделить идею высшей ценности Христова учения от мысли о том, что некоторые люди могут неправильно толковать это учение.
Робин. Если они принадлежали к низшему уровню душевного здоровья, то не могли допустить, что возможны другие толкования.
Джон. Поэтому теперь я могу объяснить нашу позицию следующим образом: существуют разные способы следовать учению Христа — соответствующие различным уровням душевного здоровья — и, следовательно, вполне допустимо высмеивать менее здоровые способы, ни в коем случае не потому, что они в действительности противоречат Его учению. Инквизиция не была примером следования заповеди «Блаженны кроткие».
Робин. Возможно, но, рассматривая фильм с твоей точки зрения, твои критики были бы вынуждены признать свое нездоровье.
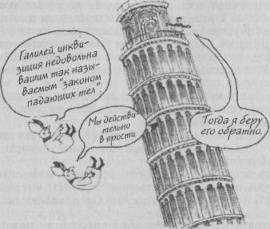
А как я уже говорил, нездоровый поход к подобным ранящим истинам заключается в защите себя и бурном протесте. Поэтому они реагировали соответственно и нападали на тебя, доказывая тем самым, что ты прав. Ты доказал свою правоту; или, скорее, они доказали твою правоту за тебя. Ты не мог ожидать, что они ее еще и признают.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|