
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Robin Skynner John Cleese 19 страница
Джон. Согласен. Но все же существует огромная разница между информацией, которую мы получаем из научного утверждения и из притчи.
Робин. Да, но не забывай, что мы проживаем свои жизни на разных уровнях. Большую часть жизни мы проводим на сравнительно земном уровне, на котором лопата — это лопата, и на нем нам нужны только фактические, научные аспекты мифов Катакис. Но некоторые из них имеют отношение к развитию личности. И чем ближе мы подходим к психологическим, а на самом деле духовным идеям, тем в более символической манере их приходится передавать — используя мифические — в общепринятом смысле — понятия, потому что только они способны передать запутанную, парадоксальную, двуликую природу реальности, которая интересует нас на этом уровне.
Джон. Да, хорошо. Я вижу, что нам нужен весь диапазон. Но вот в чем большой вопрос. Имея дело со всем этим разнообразием мифов вокруг нас, как мы можем определить, являются они хорошими и полезными или нет? По какому критерию судить об их ценности?
Робин. По тому, насколько эффективно миф помогает объединению в человеческом поведении.
Джон. И помогая отдельной личности стать более цельной, а группам — повышать уровень сотрудничества?
Робин. Да, его эффективность на обоих этих уровнях. Такая эффективность имеет два аспекта. Первый: насколько универсален, всеобъемлющ этот миф? Или он просто помогает некоторым людям эффективнее объединяться и сотрудничать, но исключает при этом других? С точки зрения Катакис, чем более универсален миф, тем он лучше. В точности то же качество, которое ты называл признаком здоровья личности.
Джон. А второй?
Робин. Второй аспект таков: насколько убедителен миф. Насколько сильно он влияет на поведение людей? Очевидно, что чем сильнее влияние, тем выше его ценность.
Джон. То есть Катакис утверждает, что предпочтительнее тот способ организации людей, который относится к каждому, чем тот, который касается только тесной кучки властолюбцев, так?
Робин. Да. Видишь ли, «Майн Кампф», с точки зрения Катакис, является мифом, но, конечно же, он получил бы крайне низкую оценку. Это миф, потому что он содержит некоторые организационные принципы, что, как мы упоминали в главе 3, лучше, чем полный хаос, отсутствие мифа вообще. Но его ценность очень, очень низка, потому что он относился только к последователям нацистской идеи, но отвергал и наносил огромный вред остальным членам общества, не говоря уже о вреде для других сообществ. Нацисты были единственными «объединяемыми».
Джон. Столь же низкая оценка безусловно применима к любой другой системе, основанной на какой-либо разновидности превосходства — расового, племенного, классового — даже к мужскому и женскому шовинизму. То есть, чем более всеобъемлющ миф, тем он считается лучше...

Робин. Вспомни Христову притчу о добром самаритянине, где Он намеренно выбрал представителя группы, к которой Его слушатели были настроены с предубеждением, чтобы подчеркнуть, насколько широко Он определял группы, по отношению к которым уместны добрососедские чувства. Катакис дала бы высшую оценку подобному мифу.
Джон. Хорошо. Теперь рассмотрим другой аспект — насколько эффективен данный миф с точки зрения его влияния на поведение людей.
Робин. Очевидно, что все эти мифы сильно различаются по своей убедительности. Некоторые могут действительно изменять наше поведение. Большинство из них мы просто пропускаем мимо ушей или забываем, потому что они не оказывают на нас никакого воздействия.
Джон. В чем их различие?
Робин. Вспомни, что наибольшее влияние на нас оказывает наш собственный опыт благодаря тому, что он так расцвечен чувствами. Так вот, хотя мифы никогда не бывают так убедительны, как опыт, чем сильнее они затрагивают наши чувства, тем большее влияние они на нас оказывают. Именно поэтому многие из этих мифов, особенно религиозные, затрагивают наши основные чувства, связанные с семьей. Большая часть содержания имеет отношение к отцам, матерям, братьям и сестрам, поэтому такие мифы будят глубинные и мощные эмоции, заложенные в нас еще тогда, когда мы были маленькими и зависимыми.
Джон. То есть, говоря об «Отце Нашем», мы автоматически высвобождаем чувства, связанные с образом родителя.
Робин. Да, что Он любит нас, а также наших братьев и сестер. А если мы верим, что Господь заботится о людях, которых мы обычно не слишком любим, то это может помочь нам в попытках проявлять больше дружелюбия к ним.
Джон. Да, я понимаю. Но, наверное, только малая часть мифов играет на наших семейных чувствах?
Робин. Если задуматься, то многие из них. Представь себе мощный эмоциональный заряд, высвобождаемый идеей «Матери Родины» или «Отечества». Социалисты называют друг друга «брат» или «сестра»...
Джон. Верно. А группы часто называют себя «семьями»...
Робин. Но помимо и превыше обращения к нашим семейным чувствам, мифы, затрагивающие наши эмоции, наиболее эффективны, когда облечены в форму повествования.
Джон. А! Так же как нечто, почерпнутое из романов, фильмов или стихов воздействует на нас сильнее, чем узнанное из учебника по философии или психологии? Потому что это не так «сухо», больше бередит наши чувства?
Робин. Да. В конце концов, почерпнутое из рассказа ближе всего к настоящему переживанию из того, что можно передать словами. Мы переживаем за героев. Мы поглощены ситуацией. Нас тревожит, чем все закончится. Мы можем отождествлять себя с героями, мы чувствуем себя на их месте, вместе с ними пытаемся чего-то добиться, не зная как, выбираем трудный путь, терпим неудачи, но в конце, быть может, добиваемся успеха. В итоге повествование одаряет нас некоторыми чувствами, которые мы могли бы испытать, если бы сами прошли через описанные переживания, и это может вдохновить нас на то, чтобы самим принять аналогичный вызов.
Джон. Я только сейчас кое-что понял. Двадцать лет обучающие фильмы «Video Arts» основывались на этом. Мы всегда придерживались
мнения, что фильм является никудышным способом передачи обычной информации, но очень хорошим средством для изменения людского поведения — если использовать комедию или драму для увлечения аудитории, потому что тогда можно воздействовать на людей на том уровне, где зарождается поведение. Наш главный администратор Питер Робинсон всегда цитировал старую китайскую поговорку: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я могу запомнить. Увлеки меня, и я пойму».
Робин. Прелестно! Есть некий парадокс в том, как лучше всего донести «сообщение», не правда ли? При наиболее ясной форме, наподобие простой инструкции, у слушателя не возникает ни малейшего ощущения «сопереживания», поэтому такой способ оказывает меньшее воздействие. Но когда сообщение «обернуто» в повествование и имеет менее очевидную форму, оно может произвести гораздо более сильное впечатление.
Джон. Это потому, что при восприятии повествования поведение замкнуто на варианты развития сюжета, так что слушатель может решать для себя, насколько желательно то или иное поведение?
Робин. Да. Право выбора остается за слушателем, после того как он оценит все возможные последствия. Христос заканчивал многие из своих притч словами вроде «Что было лучше? »!
Джон. Таким образом, повествование, оставляющее нам свободу поразмыслить над вариантами сюжета, оказывает более сильное действие, чем запрет.
Робин. Верно. Свобода размышлять, возможность личного выбора, выбора для себя придает этому выбору эффект гораздо больший, нежели когда этот выбор нам навязан. Мы сделали выбор на гораздо более глубоком и прочном основании. Это наш собственный выбор.
Джон. Он имеет больше качеств нашего собственного опыта.
Робин. Да. Он затрагивает наши чувства таким же образом.
Джон. И, соответственно, кто-то, указывающий нам, что делать, или просто высказывающий однозначные утверждения, может насторожить нас и вызвать сопротивление.
Робин. Точно. Но все любят вымысел, и передаваемая таким образом информация может преодолеть нашу защиту и наши подозрения.
Джон. Как говорится, чем меньше, тем больше. Нельзя сказать, что эта техника широко используется политиками.
Робин. К счастью, иначе они имели бы над нами больше власти!
Джон. Знаешь, все, что ты говоришь, напоминает мне о моих опытах в терапии. Психиатры не говорят тебе, что делать. Они могут задавать вопросы, которые помогают тебе больше понять свои чувства по отношению к чему-то или, может быть, последствия какого-то образа действий, но сами они никогда не выражают свое предпочтение. Они всегда оставляют выбор за тобой.
Робин. Конечно, ведь это то, чему их должны были научить. Потому что решения исходят от пациента, а не от врача.
Джон. И даже если их неожиданно озаряет и он начинает понимать какой-то аспект твоего поведения — если они приходят к
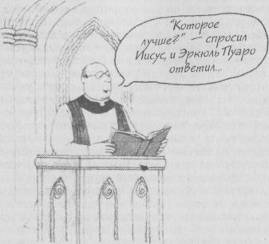
заключению, которое до тебя еще не дошло, — они его тебе не объясняют. Они ждут, пока ты сам сможешь прийти к этому заключению. Очевидно, что в этом случае воздействие сильнее.
Робин. И кроме того, если информация поступает слишком рано, до того, как человек приготовится к ней, она может только пробудить его защитные механизмы, так что ему будет труднее самостоятельно увидеть в ней правду.
Джон. Да... таким образом, хотя мы говорили о том, благодаря чему некоторые мифы имеют столь сильный эффект, мы также обсудили более общие принципы, каким образом информацию необходимо доносить до людей, если они действительно собираются ее усвоить.
Робин. Да, и особенно случаи, когда эта информация сталкивается с укоренившимися подходами и эмоциональным сопротивлением. Конечно, чем больше эта информация нацелена на голый интеллект, тем меньше чувств необходимо затрагивать при ее передаче.
Джон. Хорошо. Итак, подведем итоги: мы говорили о том, что делает миф — в понимании Катакис — убедительным. Потому что это второй из двух аспектов, определяющих ценность любого заданного мифа; первым является его универсальность.
Робин. Точно.
Джон. Так вот, Робин, маленький вопрос, который только что у меня возник. Почему все это работает так плохо?
Робин. Что ты имеешь в виду?
Джон. Позволь изложить мои аргументы. Я полагаю, что большинство людей основывают свое поведение на ценностях и убеждениях, которых они придерживаются. Я не хочу сказать, что большую часть времени это делается осознанно, но тем не менее люди не испытывают желания делать то, что они сами считают
«неправильным». Им нравится, когда они могут оценить свое поведение и почувствовать, что все сделанное ими «правильно».
Робин. Согласен.
Джон. Очевидно, что мы черпаем свои ценности из того, что Катакис называет мифами. Так вот, мне известны несколько мерзких мифов, которые оправдывают исключение из сферы человеческих отношений людей другой расы, культуры, класса или чего-нибудь еще и явно худшее обращение с ними по сравнению с людьми, которые в соответствии с этими мифами принадлежат к числу избранных. Но я хочу сказать, что большинство встречающихся нам мифов имеют более или менее всеобъемлющий характер. Другими словами, величайшие в мире мыслители, творцы и духовные лидеры не имели склонности к фанатизму. Можно утверждать, что большинство западных ценностей произросли из христианства, а вряд ли можно найти что-нибудь более всеобъемлющее, чем учение Христа. И все же, несмотря на все эти мифы, Робин, мир не являет собой картины гармонии и содружества; мне скорее кажется, что он характеризуется постоянными ссорами, даже если дело не доходит до настоящего насилия.
Робин. Ага. Это подводит нас к одному весьма важному моменту, возможно, самому важному из того, о чем я собирался говорить в этой главе. Он заключается в следующем: люди истолковывают каждый миф в соответствии со своим уровнем душевного здоровья.
Джон. Ты хочешь сказать, что один и тот же миф может быть понят разными людьми по-разному?
Робин. Я полагаю, что именно так это и работает.
Джон. А не потому, что люди сознательно и цинично извращают здравую идею для оправдания своего нездорового поведения?
Робин. Нет, потому что они искренне верят, что миф оправдывает их поведение. Видишь ли, даже если бы они могли признать возможность существования других толкований, то только такое, которое «ощущается правильным», могло бы соответствовать их прочим ценностям и подходам.
Джон. В главе 1 ты говорил, что на каждом уровне душевного здоровья люди считают этот уровень наилучшим из всех возможных.
Робин. Да, это так. Это та же самая идея, просто по-другому сформулированная.
Джон. Тогда позволь мне уточнить: менее здоровые люди воспринимают здравую идею и превращают ее в нечто менее здоровое?
Робин. Точно. И наоборот. Более здоровая личность, выросшая, например, в сталинистском обществе, будет отличаться более здоровым поведением по сравнению с нормой.
Джон. Могу предположить, что это и в самом деле очевидно... Но я никогда не слышал именно такого объяснения. Конечно, много лет назад я понял, что ни одна идея не защищена от порчи — мы все знаем, что творилось во имя христианства...
Робин. А вспомни политику. Одной из наиболее важных книг всех времен является «Республика» Платона, в которой исследуется природа правосудия и утверждается, что обеспечивать его отправление обязано государство. Однако сэр Карл Поппер показал, что
Платон может считаться основателем традиции, приведшей к фашизму. Как сказал кто-то: «Идея не несет ответственности за своих приверженцев»!
Джон. То есть причина, по которой ценности наподобие свободы и демократии вызывали столько споров и воплощались в столь разных формах, заключается в том, что каждая точка зрения отражает различные уровни здоровья.
Робин. Таким образом, мы начинаем понимать, почему в мире существует такое расхождение во мнениях.
Джон. Я заинтригован. Давай возьмем какой-нибудь миф и посмотрим, как его можно истолковать на разных уровнях душевного здоровья.
Робин. Чем рассматривать отдельный миф, лучше исследуем основную ценность, вокруг которой создан целый рой мифов.
Джон. Ладно. Давай начнем с ценности, занимающей центральное место в структуре значимости мифа по Катакис, — верности группе.
Робин. Хорошо. Каждый человек привносит свои собственные семейные подходы и ощущения в свое толкование мифа о преданности чему-то или кому-то. Поэтому, если он вырос в очень нездоровой семье, то будет считать, что все члены группы обязаны придерживаться практически одинаковых взглядов и что любой, подвергающий сомнению эти взгляды, является «смутьяном», проявляющим «нелояльность». Он будет ощущать враждебность по отношению к внешним группам и пренебрежение к правам таких «чужаков». И будет чувствовать сильную и требовательную зависимость от всех остальных членов группы.
Джон. Ты утверждаешь, что из-за этого он неизбежно будет истолковывать любую идею, имеющую отношение к верности, в соответствии со своей основной позицией.
Робин. Да.
Джон. Другими словами, для нездоровых людей преданность — та же паранойя, только переодетая и носящая другое имя.
Робин. Примерно такая же картина получится, если придерживаться точки зрения, соответствующей более высокому уровню здоровья. Вспомни, что мафия называет требование хранить молчание о ее преступлениях словом «омерта» — честь! Конечно, это отражает более высокий уровень здоровья, чем неверность, когда все члены общества предают друг друга. Такой подход просто не очень всеобъемлющ, он означает неудачу для всех, кто находится вне этой маленькой группы людей, которые, по крайней мере, сохраняют верность друг другу.
Джон. Тогда я не понимаю. Выходцы из более здоровых семей понимают «верность» как большую свободу для членов группы быть обособленными и иметь отличия. Они в основном настроены на положительное и доверчивое отношение к людям, не входящим в группу. Значит ли это, что для них понятие «верности» не так важно?
Робин. Ну, это зависит от того, что ты подразумеваешь под «верностью»! Конечно, они чувствуют более сильную эмоциональную привязанность к людям внутри группы и поэтому готовы

тратить на них больше времени и энергии. Но они не ощущают строгого различия между людьми, входящими в состав группы, и людьми, находящимися вне нее. Их верность более всеобъемлюща, поэтому различие между их верностью семье и верностью людям вне нее имеет скорее количественный характер. И, кроме того, они более терпимо настроены к критике внутри группы и с большей готовностью воспринимают идеи ее переустройства.
Джон. Я никогда раньше не осознавал, насколько «нелояльными» они должны казаться параноикам!
Робин. Конечно...
Джон. Я размышлял и о том, что существует особая разновидность преданности, называемая патриотизмом.
Робин. Его можно истолковывать точно таким же манером. За исключением того, что в группе столь большого размера, как нация, один из аспектов нездорового поведения становится еще более очевидным. Нездоровый «патриотизм» не только включает в себя антагонизм по отношению к иностранцам, но и требует почти такой же враждебности к тем своим согражданам, которые не придерживаются схожих по ксенофобичности взглядов. В противном случае может возникнуть широкий спектр взглядов, что ощущается как весьма нездоровое проявление.
Джон. Это заставляет меня вспомнить лозунг, появившийся несколько лет назад: «Америка — люби ее или покинь ее». В некотором смысле, достойный образчик манипуляции словами: не сразу можно разглядеть, что авторы понимают под «Америкой» только самих себя. А у тори на съездах всегда присутствует огромный национальный флаг для тех же целей.
Робин. То есть когда весьма склонные к паранойе люди говорят о патриотизме, они используют это слово для описания процесса, в ходе которого они отрицают те части самих себя, которые считают неприемлемыми, и проецируют их либо на «иностранцев», либо на своих «непатриотичных» сограждан.
Джон. Странно, но здесь кроется проблема. Дело в том, что здоровая преданность выражается не так страстно. Но я думаю, ты понимаешь, что здоровые преданные люди будут творить добро, тогда как более страстные «лоялисты» будут только испытывать добрые чувства.
Робин. Говоря «менее страстные», я думаю, ты имеешь в виду внешние проявления. Человек, чьи чувства обнажены и выплеснуты наружу, может показаться сильно и глубоко переживающим. Но такие эмоции грубы и неистовы, и «вырабатывающий» их человек может оказаться неспособен на нечто более нежное и разнообразное. Более здоровые люди чувствуют больше, а не меньше — они более восприимчивы к более широкому диапазону более глубоких эмоций. Как будто им нет нужды врубать эмоции до оглушающего уровня, чтобы хоть что-нибудь уловить.
Джон. Что ж, давай рассмотрим другую ценность, воспринимаемую как благо почти всеми, — честность.
Робин. Существует великое множество различных форм этого!
Джон. Верно. Ну, возьмем, пожалуй, выражения «говорить правду» и «выполнять обещание». Как их можно толковать по-разному?
Робин. Ну, для того чтобы сказать правду, нужно знать, что есть правда. Поэтому «здоровяки» изначально имеют преимущество, так как обладают более реалистичным представлением о происходящем вокруг и о себе самих. Кроме того, они по-настоящему верят в честность; они верят в эффективность открытости, в то, что она не опасна, а наоборот, определенно выгодна. Поэтому здоровые люди воспринимают миф «Честность есть лучшая политика» как простую констатацию факта, по их опыту вполне очевидного, и делают это таким образом, чтобы поощрить широкую и открытую правдивость по более полному набору тем.
Джон. Похоже на то. А что у менее здоровых людей?
Робин. Ну, им труднее говорить правду в любом объективном смысле, потому что они склонны проецировать все свои недостатки на других и винить всех, кроме себя, в любых неприятностях. Поэтому, в отличие от более здоровых, они даже не знают, что есть правда. Но кроме того, воспринимая окружающий мир как изначально враждебный, они считают нравственно оправданным «препарировать» правду, дабы защитить собственные интересы от всех этих недружелюбных сил. Даже в отношениях с близкими людьми, осознавая собственную неправоту, они склонны ее отрицать, так как считают, что они должны казаться безупречными, чтобы их не отвергли. Наконец, им трудно высказывать близким честную и полезную критику, потому что она кажется им «недоброй» и «нелояльной».
Джон. Таким образом, в очень многих обстоятельствах нездоровые люди не считают безопасным или «правильным» говорить правду.
Робин. Совершенно верно. Поэтому, хотя в принципе эти люди согласны со многими мифами, восхваляющими правдивость, если нажать на них посильнее, то они приведут длинный список условий для соблюдения этого принципа, которые выхолащивают из него весь смысл.
Джон. В таком случае, где же располагаются средние люди? До какой степени мы считаем «правильным» говорить правду?
Робин. Ну, это зависит от того, сколько и чего мы держим за «ширмой» — уж это мы точно будем защищать. В остальном мы можем быть довольно откровенными с людьми, которым доверяем — с учетом нашего изначального, средневзвешенного, самовлюбленного, манипулятивного подхода к нашим отношениям с окружающим миром. Это зачастую приводит нас к склонности «экономить на правде», в то же время тщательно избегая прямой лжи, которая вызывает у нас неподдельный дискомфорт.
Джон. Большинство из нас большую часть времени придерживаются уровня правдивости, характерного для секретаря кабинета министров.
Робин. И даже чуточку ниже, когда мы требуем возмещения по страховке. Потому что это нормально, что успокаивает...
Джон. Ладно. Как насчет выполнения обещаний, или «святости договора», как выражаются законники и уличные торговцы.
Робин. Отношение к этому показывает, почему мы называем людей, на которых можем положиться, «цельными».
Джон. Что ты имеешь в виду?
Робин. Здоровые люди обладают большей психологической «цельностью», потому что они объединили больше «частей» самих себя; они не отказались и не отбросили их.
Джон. Поэтому менее здоровые люди хуже выполняют обещания?
Робин. Рассмотрим пример. Почему ты не хочешь выполнять некоторые обещания?
Джон. Потому что... Я не чувствую, что сделал это всерьез... или обстоятельства изменились... или обещания не были частью уговора, я просто согласился с чем-то, о чем сейчас сожалею, так как это причиняет настоящее неудобство...
Робин. Правильно. Беда обычно заключается в том, что обещание дает одна часть человека, а выполнять обещанное приходится другой его части.
Джон. Разъясни.
Робин. Представь себе, что мы чего-то хотим. Это может быть чем угодно — от денег взаймы до кратковременной прихоти почувствовать себя человеком выдающейся святости. Поэтому мы даем обещание — вскорости вернуть деньги или оказать кому-то особое благодеяние. Но несколько дней спустя, когда настает пора выполнять обещанное, мы пребываем в другом настроении. Мы больше не волнуемся о деньгах — ведь мы их уже получили! И нам сегодня уже не нужно чувствовать себя хорошими, потому что мы уже имели такую возможность, когда давали обещание. И все же вот оно здесь, это проклятое обязательство, которое мы на себя взвалили — только не очень-то верится в то, что мы это сделали! Не буквально, по крайней мере, все было несколько более туманно, не совсем так — гораздо более туманно и совсем не так, если вдуматься!
Джон. То есть перемена в настроении полностью меняет наше отношение к обещанию.
Робин. Да. Тогда как более цельный человек лучше осознает то, что он собирается на себя принять, давая обещание. Можно сказать, что та его часть, которая дает обещание, теснее объединена с остальной его психикой, включая те части, которые находят обещание трудновыполнимым. Поэтому он изначально учитывает будущее сопротивление и желание улизнуть, и когда приходит время выполнять обещанное, он чувствует гораздо большую решимость.
Джон. Это верно. Я сам наблюдал подобное у себя и у других — когда несколько лет назад у меня завелись свободные деньги и я одолжил значительную сумму всего нескольким людям. Просто поразительно, как мало я получил назад! И можно было проследить перемену настроения. Поначалу мои знакомые были почти в отчаянии, потому что Нуждались в деньгах; затем, получив деньги, в течение нескольких дней испытывали огромную благодарность; затем благодарность слегка остыла, но все еще оставалось много тепла; а затем наступила заметная перемена — люди привыкали считать деньги своими, и я ощущал их стремление отдалиться от меня, отчасти из-за обоюдной неловкости, связанной с их изначальным положением, а более по причине предчувствия неудобств, которые возникнут из-за необходимости отдавать долг;
и наконец наступила стадия, на которой это были их деньги, а я стал раздражающим напоминанием о некоем туманном обязательстве, которое только отравляло им жизнь! Будучи истинным англичанином, я сам ощущал себя слишком неловко, чтобы даже затрагивать эту тему; это сослужило мне дурную службу — я получил назад меньше одной десятой той суммы, которую дал в долг. Но наблюдение этого поведения, повторяющегося у разных людей, было наукой.
Робин. Что ж, это хороший пример другой стороны уравнения. Ты был весьма щедр, но не предвидел и не допускал того факта, что они могут не принять во внимание свое возможное сопротивление и, как следствие, повести себя подобным образом. Опять же, если ты чувствуешь, что они не выполняют свою часть обязательств по договору, но не говоришь им об этом открыто и честно, то может возникнуть недоразумение, которое никогда не удастся разрешить. Ты мог бы помочь им еще раз и, может быть, сохранить отношения, если бы потребовал от них признать свою вину!
Джон. Но значит ли все это, что менее здоровая, менее цельная личность будет толковать простой миф «ты должен всегда стараться выполнять свои обещания» гораздо уже, обставляя это гораздо большим количеством условий, как мы видели в случае с требованием «говорить правду»? Или «толкование» по-настоящему проявляется только в действии — или, скорее, в бездействии?
Робин. Если только должник с самого начала не собирался выполнять обязательства — то есть был мошенником. Во всех других случаях это скорее проблема недостаточного самосознания и неспособности быть честным с собой: «намереваться» вернуть долг, но понемногу «переигрывать условия», убеждая себя, что изначальное соглашение не предполагало возврата долга, или по крайней мере не сейчас, или только когда ты об этом попросишь — чего ты не делал; или если бы ты с тех пор сам не заработал так много денег, что, возможно, на самом деле не нуждался в возврате этого долга. Но у более здоровой натуры заявляемые ценности и ее действия теснее объединены. Поэтому ее поведение остается ближе к реалиям любого заключенного соглашения.
Джон. Хорошо. До сих пор мы говорили о сравнительно туманных, если не сказать эпических, ценностях наподобие «верности» и «честности». А как насчет тех приземленных организационных принципов, которые Катакис могла бы включить в категорию «мифов» — вроде правил дорожного движения? Как можно по-разному толковать знак «Левый поворот запрещен»?
Робин. Ну, очевидно, чем больше миф несет в себе подробных практических указаний по выполнению действий, тем меньше различий в том, как люди будут на него реагировать. Но что касается правил движения, то менее здоровые люди склонны толковать их в соответствии с буквой закона: они будут считать, что ограничение скорости 30 милями в час дает им разрешение поддерживать такую скорость даже в густонаселенном районе, где скорость 20 миль в час представляется более разумной. Они склонны срываться с места в момент, когда загорается зеленый свет, даже если это опасно, потому что «имеют право» так поступать.
15—1222 225

Джон. Более здоровый водитель более восприимчив к духу закона?
Робин. Да, понимая, что смысл правил в том, чтобы уменьшить опасность аварий или устранить помехи движению.
Джон. Но более здоровый водитель может позволить себе иногда нарушить правила, если это безопасно и не причиняет неудобств другим водителям?
Робин. Возможно, и точно так же более здоровый полицейский будет по собственному разумению проявлять строгость к тем водителям, которые пренебрегают безопасностью других, и в то же время закрывать глаза на незначительные нарушения. С другой стороны, менее здоровый полицейский может считать малейшее нарушение крахом нравственного порядка или просто быть «маленьким Гитлером», использующим закон для укрепления собственной значимости, дабы подняться в своих глазах.
Джон. Или, может быть, они хотели бы пойти домой, но еще не наказали достаточно нарушителей для выполнения плана, установленного нездоровым начальством.
Робин. Да. Уровень здоровья любого человека, «облеченного властью», влияет на поведение его подчиненных.
Джон. То есть здоровое поведение заключается в том, чтобы видеть смысл, стоящий за запретом; менее здоровое поведение означает склонность к буквальному и негибкому пониманию буквы закона. Для меня это звучит как общий принцип душевного здоровья.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|