
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Robin Skynner John Cleese 11 страница
Послесловие:
Сплошная работа
и никаких развлечений
Джон. Я хотел бы подробнее расспросить тебя о значении работы. Ты уже описал, как она выманивает нас, чтобы включить в состав более крупных структур, и каковы сопутствующие этому психологические преимущества для нас.
Робин. Это один из важных ее аспектов.
Джон. Но ведь можно найти для себя много других занятий, обеспечивающих аналогичные переживания. В древние времена, когда работа считалась занятием для рабов, такие возможности, я думаю, предоставляли политика и военная карьера. Будем смотреть правде в глаза: ведь большую часть из прошедших двух тысяч лет люди, находящиеся наверху пирамиды, и смотреть бы не стали на что-либо из того, что мы сегодня называем работой. В начале этого века даже люди из среднего класса с «небольшим, но уютным доходом» не видели необходимости искать работу. Так почему же сегодня работе придается такое значение? Почему так много людей подчиняют ей всю свою жизнь и — в особенности — почему современные женщины тоже приписывают ей такую важную роль? Какое удовлетворение в ней заключено?
Робин. Начнем с того, что в наше время работа больше связана с властью и положением в обществе. И жесткое распределение ролей, когда значение придавалось только работе мужчины вне дома и заработанным им деньгам, было основной причиной сосредоточения в руках мужчин основной власти. Поэтому обеспечение равной доступности рабочих мест было естественной составляющей стремления женщин к равенству прав.
Джон. Я думаю, что сто лет назад положение человека в обществе было в значительной мере фиксированным, и если оно являлось достаточно высоким, то ему не требовалось ничего делать, чтобы подтвердить его. Тогда как в наши дни, когда преобладают идеи соответствия общественного положения способностям человека, социальный статус человека зависит от достаточно успешной профессиональной деятельности.
Робин. Эта перемена является естественным следствием демократических сдвигов, переместивших власть от аристократической элиты в сторону среднего класса.
Джон. Но ты начал с положения в обществе. А как насчет дохода — ведь это то, чем является работа для многих людей, не так ли?
Робин. Нам всем приходится зарабатывать достаточно, для того чтобы удовлетворять свои потребности и быть способными выполнять свои обязательства. Но это не является той причиной, по которой большинство людей выбирают себе работу, равно как и
не является основным источником удовлетворения от нее. Я уверен, что большинство из нас были бы рады получать чуть щеньше денег, если бы это давало нам больше возможностей получать удовлетворение от работы в сочетании со счастьем в семье и удовольствием от отдыха.
Джон. Ты не считаешь, что госпожа Тэтчер все это изменила?
Робин. Она действительно постаралась, чтобы сдвинуться в сторону более эгоистичного и торгашеского общества, и боюсь, что добилась в этом определенных успехов. Но, по моему опыту, озабоченность деньгами делает людей скорее менее, чем более счастливыми.
Джон. Как кто-то напомнил мне недавно, в Библии не говорится, что в деньгах корень всех зол. Он — в любви к ним.
Робин. Но, если у тебя большие доходы, то людям не остается ничего иного, как предположить, что ты любишь деньги.
Джон. Возможно, но на самом деле относительно легко заработать деньги, если умеешь рассмешить людей, так что я никогда не заботился о накоплениях. Видишь ли, я всегда могу неплохо заработать, поучаствовав в создании пары видеороликов, а в оставшееся время заниматься тем, чем действительно хочу. Но даже при таком подходе в конце концов я прихожу к тому, что работаю больше, чем хотелось бы.
Робин. Могу этому поверить. Беда в том, что в настоящее время мы все заперты в системе, где работе отдается слишком большое предпочтение.
Джон. Я очень сильно это ощущаю и потому хочу узнать об этом побольше. Я оглядываю свою жизнь и в общем нахожу, что наиболее счастливые и принесшие наиболее глубокое удовлетворение моменты в ней — совсем не те, что связаны с работой. Учеба, беседы с друзьями, размышления, ведение дневника, общение в кругу семьи, любование живописью — все эти занятия дают мне гораздо больше, чем работа. Я осознаю это и все же я все время слишком занят. Другими словами, меня подгоняет старая протестантская трудовая этика, несмотря на то, что я искренне считаю ее изначально невротической. Такова ли она?
Робин. Не могу не согласиться. Конечно, ей в заслугу можно поставить большое положительное влияние на наши великие достижения в науке, искусстве и промышленности, но она нуждается в уравновешивании другими ценностями, больше основанными на человеческих отношениях, самосовершенствовании и простой радости жизни. Иначе она только оправдывает жадность и эгоизм у богатых и узаконивает их эксплуатацию малоимущих.
Джон. Но откуда появилась эта трудовая этика?
Робин. Из нескольких источников. Но, я думаю, это выпячивание труда в основном проистекает из страха получать удовольствие и того, к чему удовольствие может привести: «Дьявол найдет занятие для праздных рук... »
Джон. Кажется, это было очень сильно выражено в раннем пуританстве.
Робин. Да. Я думаю, многим известно изречение Бенджамина Франклина, но, пожалуй, стоит процитировать то, что он писал в 1748 году; «Помни, что время— это деньги. Тот, кто может заработать своим трудом десять шиллингов в день, но развлекается или сидит без дела половину этого дня, хотя и потратил всего шесть пенсов за время своих забав или безделья, не должен считать только их своими расходами; на самом деле он потратил, а скорее выбросил пять шиллингов сверх того».
Джон. Но я подозреваю, что чрезмерная увлеченность работой выполняет для нас и ряд других функций, в которых мы, может быть, и не хотим открыто признаться. Например, я думаю, она дает людям чувство цели, не так ли? Я хочу сказать, что самые трудные вопросы в жизни: зачем мы здесь, что мы за люди, правильно ли мы строим свои отношения с теми, кого любим, — настолько пугают нас, что мы зачастую предпочитаем от них отворачиваться. Вместо этого легче сосредоточиться на квартальных показателях отдела продаж, или на повышении по службе, или на прибавке к жалованью. Другими словами, мы можем использовать работу для отвлечения от многих важных вопросов.
Робин. Верно. Хотя проблема в том, что это ограниченная, узкая цель. Она запирает нас в замкнутом режиме, фокусирует на каком-то немедленном результате, а наш разум остается закрытым для более широких проблем и интересов — как если бы мы надели шоры. И только когда эти эмоциональные шоры срывает какое-то эмоциональное потрясение — крах семейной жизни, угрожающая жизни болезнь или смерть ребенка, тогда мы понимаем, что понапрасну тратили свою жизнь до этого момента.
Джон. Но работа помогает нам организовать свое время, разве нет? Она помогает нам преодолевать то ощущение беспокойства, которое порой охватывает нас в выходные, когда нам не нужно ничего делать.
Робин. Точно. И аналогично, утрата этой организованности является основной причиной затруднений, которые испытывают многие, выходя на пенсию, когда они не знают, что им делать со свалившимися на них свободой, простором и незанятым временем.
Джон. Подводя черту, скажу: я в течение долгих лет подозревал, что очень многие очень занятые люди являются такими потому, что не могут быть не занятыми. Они боятся покоя. Процитирую Паскаля". «Большой проблемой человека является то, что он не может спокойно сидеть в своей комнате».
Робин. Я думаю, что этому есть простая причина. В западном обществе человек не получает так уж много помощи и поддержки в глубоком познании самого себя, в поиске того глубинного ощущения, удовольствия и значения внутренней жизни, которые гораздо лучше понимают и принимают на Востоке. Вместо этого, если мы опасно приближаемся к подобным интересным чувствам, большинство наших родственников предлагают нам почитать книжку или пойти прогуляться. И окружающие продолжают ограждать нас от подобных ощущений на протяжении всей нашей жизни, потому что они сами пугаются идти на более близкий контакт с самими собой. Так что в нашей западной культуре присутствует
огромное общественное давление, заставляющее нас дрейфовать до поверхности собственных индивидуальностей, избегая задавать себе какие-то действительно глубокие вопросы или позволять себе какие-то действительно глубокие переживания.
Джон. Итак, кроме социального положения и дохода и кроме средства занять себя, так, чтобы не приходилось лезть в глубины, какова действительная цель труда, по твоему мнению? Каково его истинное значение?
Робин. Кроме того, что мы уже обсудили, я думаю, что работа действительно делает нас более здоровыми по причинам, отличным от тех, которые мы указывали, говоря о переходе в более крупные структуры. Я полагаю, что хорошая работа делает нас более цельными, более «собранными воедино».
Джон. Как?
Робин. Позволь мне рассказать о современнике Зигмунда Фрейда — французском психиатре Пьере Жане. Идеи Жане во многом перекликались с идеями Фрейда. Именно Жане ввел в оборот термин «бессознательное»; он также предвосхитил Фрейда, показав, что симптомы можно излечивать, восстанавливая в сознании глубоко скрытые мысли и чувства, посредством того, что он называл психологическим анализом. Но он также интересовался способностью человека к вниманию — предметом, который игнорировали почти все.
Джон. Ты имеешь в виду то, как хорошо человек может сконцентрироваться на чем-то?
Робин. Да. Он интересовался этим, так как считал, что отделение эмоций — или склонность «прятать их за ширму», как мы это называли, — легче происходит у людей с недостаточным вниманием, потому что это означает, что их способность «держать в голове все вместе» слаба.
Джон. Ты хочешь сказать, Жане полагал, что низкий уровень душевного здоровья, как мы это называем, является следствием ослабленной способности к концентрации.
Робин. Да, затруднений с поддержанием напряженного внимания — пребывания в «мечтательном», или «рассеянном», или «разобранном» состоянии. Он считал, что те затруднения, которые его пациенты испытывали при попытке «действовать собранно» и достичь эмоционального равновесия и контроля, были связаны именно с этим.
Джон. А при чем здесь работа?
Робин. Основной частью лечения Жане являлось развитие и расширение способности к вниманию благодаря правильному подбору рода занятий. Хотя идеи Жане во многом предвосхитили идеи Фрейда, именно Фрейд привлек все внимание как профессионалов, так и общественности. К сожалению, работы Жане были в основном проигнорированы. То же, хотя и в меньшей степени, можно сказать и о другом современнике Фрейда — Альфреде Адлере, который подчеркивал присущую нам всем (из-за тяги к Душевному равновесию) потребность в ощущении собственной полезности для общества. Работа является одним из способов, с помощью которого мы испытываем это позитивное чувство, хотя,

конечно, есть и другие пути. Но кроме социального положения, улучшения нашего душевного состояния и отвлечения нас от невыразимого, работа имеет и другое преимущество. Применение любого навыка приносит нам большое удовольствие — отчас-ти, из-за необходимости концентрации внимания, нужной для того, чтобы что-то получилось хорошо, а концентрация внимания на своем занятии сама по себе доставляет большое удовольствие. Мы все знаем это на примере своих занятий на досуге — она составляет большую часть удовольствия от игр и спорта, будь то катание на лыжах, рыбная ловля или игра в дартс. На какое-то время мы «целиком захвачены», полностью находимся в настоящем, настроены, как музыкальный инструмент, четко осознаем свои действия и, как следствие, живем полной жизнью. И если мы способны уделять такое же внимание своей работе, то можем получать от нее такое же удовольствие.
Джон. Хорошо. Каково же идеальное равновесие между работой и не-работой?
Робин. Я думаю, в идеале и то, и другое занятие должны доставлять столько удовольствия, чтобы переход от одного к другому был почти незаметен.
Джон. Ты действительно думаешь, что это возможно?
Робин. Конечно, для одних людей это легче, чем для других. Моя работа психиатра всегда была столь интересной, что я никогда не ощущал, будто она мне в тягость; мне нравиться больше узнавать о людях и о жизни, нахожусь ли я в обществе пациентов, или в кругу семьи, или с друзьями. Моя подруга Джош, художница, ощущает свою жизнь подобным же образом — похоже, что она получает одинаковое удовольствие, независимо от того, работает она или нет.
Джон. Но вам повезло. У вас обоих интересная работа, как и у меня.
Робин. Предположительно, легче уделять работе все свое внимание, если она тебе интересна. Но именно концентрация внимания является причиной удовольствия.
Джон. Тогда что же ты скажешь людям, которые могут получить только очень монотонную и неинтересную работу?
Робин. Хотел бы указать, что большинство людей начинают с выполнения очень скучной работы, которая не требует особого умения. Но если человек выполняет эту работу настолько хорошо, насколько может, уделяет ей все свое внимание, то у него гораздо больше шансов перейти к занятию чем-то гораздо более интересным. Джош и мне легче находить интерес в своих занятиях, помня о том, что мы выбирали их сознательно, не очень гонясь за высокими доходами, и чем-то жертвовали и упорно трудились, чтобы занять те места, на которых сейчас находимся. Многие виды деятельности в моей профессии смертельно скучны, и я от многого отказался, чтобы в конце концов заниматься тем, что мне нравится.
Джон. То есть люди, выбирающие себе занятие исходя из финансовых соображений — в поисках максимально возможного дохода — имеют меньше шансов получать удовольствие и, таким
образом, скорее будут ощущать свою работу как нечто весьма отличное от не-работы?
Робин. Я думаю, ключевым здесь является умение воспроизводить этот доставляющий удовольствие высокий уровень внимания. А это всегда возможно, если использовать работу как возможность для познания и роста. Если это удается, то может помочь выработать привычку проводить все остальное время в той же положительной и приятной манере.
Джон. Ладно. Есть еще один вопрос относительно равновесия между работой и домом, который многих занимает. Считаешь ли ты, что пара может успешно воспитывать детей, если оба партнера ревностно стремятся сделать карьеру? Или ты полагаешь, что семье нужен «домохозяин», неважно, будет это он или она?
Робин. Я не думаю, что такая проблема вообще может стоять, если дети достигли по меньшей мере школьного возраста. На самом деле для детей лучше, если оба родителя находят побудительные мотивы и поддержку в занятиях вне дома, потому что в результате они станут более живыми, радостными и интересными и смогут больше давать друг другу и детям. Как показывают исследования здоровых семей, отношения складываются лучше, когда хватает как отстраненности, так и близости.
Джон. Достаточно справедливо. А как быть в ситуации, когда дети не достигли школьного возраста?
Робин. Ну, я не сомневаюсь, что, когда это возможно, для ребенка намного лучше, если кто-то из родителей постоянно рядом в течение как минимум первых двух лет — или, еще лучше, трех. Может быть, в идеале пяти.
Джон. Почему ты так думаешь?
Робин. Понадобится довольно много времени, чтобы вникнуть во все подробности, но четко установлено, что у ребенка в наибольшей степени развиваются чувства уверенности в себе и доверия, если в течение первых лет жизни он имеет возможность сформировать устойчивую привязанность к человеку, постоянно находящемуся поблизости.
Джон. Но допустим, что это невозможно или даже что оба родителя так сильно стремятся на работу, что просто не готовы оставаться дома с ребенком в течение первых лет.
Робин. В некоторых случаях ребенку лучше с родителями, которые чувствуют себя счастливыми и востребованными от работы, чем под присмотром одного из них, постоянно присутствующего дома, но чувствующего себя подавленным из-за этого. И я считаю, что качество родительского отношения к ребенку намного важнее количества времени, которое они с ним проводят. Опять же, даже при недостатке времени это не имеет очень большого значения при условии, что хороший уход и полноценную любовь и заботу может обеспечить другой постоянно присутствующий человек, с которым могут сформироваться долгосрочные отношения — бабушка, или няня, или воспитатель в яслях, или кто-то еще. И кстати, чем больше людей участвуют в оказании такой поддержки наряду с основным воспитателем, тем лучше. Но, конечно, я могу говорить только в общем случае. Я видел очень хорошие
9—1222 129
результаты у матерей, работающих днями напролет, и плохие результаты у матерей, все время проводящих дома.
Джон. То есть, кроме случая с маленькими детьми, нет других причин, по которым кто-то должен был бы оставаться дома весь день.
Робин. Нет, если только пара не предпочитает такой порядок.
Джон. А если предположить, что занятия обоих партнеров предъявляют повышенные требования?
Робин. Тогда я подчеркнул бы, что им необходимо разделить работу по дому и уходу за детьми по справедливости, а не так, чтобы мужчина был только на подхвате (или женщина). Я рад отметить, что в наши дни это встречается все чаще, особенно среди молодых, хотя в общей статистике особых перемен пока не видно.
Джон. Но ведь всегда будут возникать противоречивые требования со стороны работы и дома. Как пара может уменьшить возникающие из-за этого трения?
Робин. Ключевой пункт здесь вот какой: если оба партнера и их семьи проводят вместе достаточно времени достаточно качественно, то они могут легко справиться с отлучками и кризисами. Поэтому основным для партнеров является более высокий приоритет семьи, хотя в то же время они должны осознавать, что работа будет предъявлять свои требования и с ними придется как-то считаться. Причина, по которой я предлагаю ставить семью на первое место, заключается в том, что требования работы переключают нас в закрытый режим мышления, в котором трудно помнить о посторонних вещах. То есть упор должен быть сделан на семью, чтобы компенсировать стремление работы съедать наше семейное время.
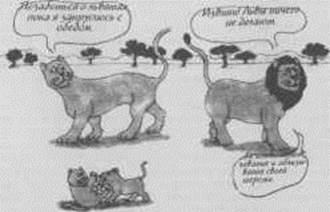
Джон. А там, где пара решила назначить одного из них «домохозяином», что должен делать «работник», чтобы помочь?
Робин. Лучшее, что может сделать «работник» — это на недельку взять на себя заботы о доме и детях, чтобы «домохозяин»
или устроить себе каникулы. По моему опыту, ничто не дает такого полного представления о том, что составляет работу «домохозяина». И хотя поначалу в связи с нехваткой опыта у «работника» это может показаться слегка пугающим, но обычно им это нравится, особенно те новые, более глубокие взаимоотношения с детьми, которые развиваются в результате. Это также сближает партнеров, и часто семейные отношения получают новый импульс после одного из таких эпизодов.
Джон. Но если за домом присматривает мать, может ли она считать, что отцу можно доверить всю полноту ответственности за детей?
Робин. Конечно нет! Когда приходит время передать детей с рук на руки, матери обычно колеблются воспользоваться свободой и уехать, потому что боятся, что дети будут питаться одними консервами и смотреть бесконечные мультики по телевизору. Конечно, частично будет и это, и многое другое, что мать могла бы не одобрить, но дети будут делать все это с Папочкой, и все вместе они будут чудесно проводить время. А так как это займет всего неделю, вряд ли кто-то умрет от нехватки витаминов.
Джон. Одной из причин, затрудняющей достижение такого равновесия между партнерами, является относительное нежелание большинства работодателей уделять внимание семейной жизни людей.
Робин. Как мы видели, в более здоровых структурах людей гораздо четче воспринимают как цельные личности и больше учитывают все стороны жизни работников. Однако всем работодателям необходимо придавать большее значение и уделять больше внимания этим вещам. Возможно, это означает, что идеальным работодателем могла бы быть женщина! В любом случае с практической точки зрения фирмам необходимо иметь больше женщин на руководящих должностях, чтобы они привносили в рабочую обстановку эти высшие ценности. И, конечно, мужчин, которые к ним прислушивались бы...
Джон. Во всем этом есть один момент, который меня беспокоит. Британия начала промышленную революцию и, как мне кажется, прогрызла насквозь трудовую этику и вылезла с другой стороны. Если мы действительно достигли совершенно здорового и уравновешенного отношения к труду, то не существует ли опасности, что кучка неблагополучных, перевозбужденных, неразборчивых в средствах и весьма нездоровых государств может смести нас в экономическом плане?
Робин. Это может произойти, если мы станем менее эффективными. Но если мы достигнем более здорового равновесия, усвоив все эти здоровые характеристики, то, как свидетельствуют результаты исследований, мы станем более, а не менее эффективными в экономической сфере.
3. Позвольте мне пройти: сообща, по одному...
Джон. Итак, мы рассмотрели группы уровня корпорации-учреждения-больницы. Какой следующий уровень на пути вверх?
Робин. Вверх по шкале располагается общество.
Джон. Ты имеешь в виду страны, государства?
Робин. В основном да. Но также и группы — например, этнические — внутри государства. Под обществом я подразумеваю совокупность семей, чье поведение соединяется и управляется посредством принятых ими идей, ценностей, традиций, обязательств и установлений, простирающихся на весь жизненный цикл. Размер может быть любым — от маленького племени до сверхдержавы. Общество включает в себя людей разных занятий, возрастов и уровней образования и здоровья.
Джон. Какие из твоих рассуждений о здоровых семьях применимы на уровне общества?
Робин. Довольно многие. Конечно, любое общество обычно содержит весь спектр семей, от больных до очень здоровых, поэтому можно ожидать, что уровень душевного здоровья всех обществ примерно один и тот же: средний, ближе к центру шкалы. Но, как и у отдельных личностей и семей, их общий уровень здоровья подвержен влиянию внешних стрессов и напряжений, а также влиянию их жизненной философии, ценностей, которые их направляют. Поэтому некоторые общества более склонны к объединитель-ности и взаимопомощи, другие поощряют антагонизм и насилие; одни уважают личность и право на самовыражение, другие требуют единообразия; одни поощряют свободу слова и честную критику правительственной политики, другие навязывают цензуру и преследуют людей за такую критику.
Джон. Тем не менее у нас могут возникнуть громадные проблемы при попытке сравнивать уровни душевного здоровья разных обществ, разве нет? Я хочу сказать, что каждая семья вырабатывает свой собственный моральный кодекс, согласно которому ее уровень душевного здоровья является наилучшим из всех возможных, так что обсуждать различные культуры — просто безумие. Никто никогда не сможет прийти к согласию относительно критериев.
Робин. Ну, мы-то вдвоем сможем! И в конце концов, ни у кого нет окончательных ответов на эти вопросы. Мы не собираемся говорить, что мы «правы», мы просто надеемся, что те знания о семьях и организациях, которыми мы уже располагаем, могут быть применены для еще более крупного масштаба. Если это подтолкнет людей к обсуждению, в котором мы сможем сделать несколько полезных замечаний, а кто-то еще сможет их развить, то я буду вполне счастлив.
Джон. Достаточно справедливо. С чего начнем?
Робин. Может быть, будет легче добиться какого-то согласия относительно наиболее нездоровой части спектра. Какое общество, по твоему мнению, было наихудшим?
Джон. Во главе списка я бы предложил поставить нацистскую Германию.
Робин. А что, по-твоему, делало нацистскую Германию наихудшим обществом?
Джон. Ну, вся система была основана на страхе. Не разрешались никакие различия; было навязано единообразие: если человек наверху поднимал правую руку, все должны были сделать то же самое. Не допускались никакие обсуждения, не говоря уже о критике. Всех поощряли следить за своими соседями, а детей награждали за предательство родителей. Хуже всего приходилось расовым группам, таким, как евреи и цыгане, которых систематически использовали в качестве козлов отпущения, изначально притесняли, а затем и буквально уничтожали миллионами — вместе с другими «нежелательными», наподобие гомосексуалистов и умственно отсталых. Все проявления творчества были подавлены, искусство превратилось в государственную пропаганду. И конечно, любая страна, не желавшая подчиниться, считалась врагом, против нее велась подрывная деятельность, развязывалась агрессия и впоследствии осуществлялся захват. Резюмируя, скажу: нацисты набрали бы мало очков в «объединительном подходе».
Робин. Положительные качества?
Джон. Вот это интересный вопрос... Ну, поезда ходили по расписанию.
Робин. Продолжай.
Джон. И я полагаю... в таком обществе, если ты делаешь то, что тебе говорят и не болтаешь языком, то можешь жить довольно неплохо — в материальном смысле. Если ты принадлежишь к правильной расе, естественно.
Робин. И?..
Джон. Что ж, при условии, что ты не проявляешь поползновений мыслить самостоятельно, я думаю, все организовано довольно неплохо. Достаточно еды и питья, и дома содержатся в порядке, и, конечно же, всеобщая занятость, и очень хорошая система социального и пенсионного обеспечения... Я не хочу сказать, будто начинаю испытывать к ним теплые чувства, но в некотором смысле их достижения во время войны были весьма значительными. К концу 1941 года они держали под контролем почти всю континентальную Европу. Конечно, неплохо воевали, демонстрируя дисциплину, умение, а иногда и способность к самопожертвованию. И конечно, их промышленность функционировала просто здорово: скорость, с которой они могли восстановить разбомбленный завод, производила сильное впечатление. А у «правильных» людей (со светлыми волосами и голубыми глазами) присутствовало сильное чувство единения с Отечеством. Я предполагаю, что своими вопросами ты заставляешь меня осознать, что хотя нацистская Германия и была ужасна с точки зрения морали, но могут найтись места, где жить еще хуже!
Робин. Не морально хуже, просто хуже с точки зрения выживания. Я имею в виду, что если закон и порядок полностью разрушены, если везде неистовствуют вооруженные банды, если нет снабжения продовольствием, водой, лекарствами, электричеством или чем-то еще... тогда все испытывают лишения и никто не может хоть как-то улучшить свою долю.
Джон. Да, это очевидно, не правда ли? Я думаю, что сценарий «Полного Хаоса» не пришел мне в голову, потому что я склонялся к размышлениям о европейской истории, а в ней дела обычно не принимали настолько плохой оборот. Я полагаю, что подобие описанного тобой хаоса происходило в отдельных частях Германии во время Тридцатилетней войны, в отдельных частях Англии во время Гражданской войны, в отдельных частях Франции во времена Великого террора... В отдельных частях любой страны, где идет война, как в бывшей Югославии...
Робин. И еще, может быть, в первые годы Веймарской республики, когда люди возили свои сбережения в тележках, потому что гиперинфляция вздувала цены буквально в течение часа. Но такое всегда где-нибудь происходит. Пока мы разговариваем, в Могадишо, столице Сомали, творится подобный хаос, и я только что видел в телевизионных новостях репортаж, показывающий, что армия настолько утратила способность поддерживать какое-то подобие порядка и дисциплины, что мелкие банды солдат разъезжают на боевых машинах по столице и стреляют во что им заблагорассудится, особенно в штатских, у которых есть хоть что-то ценное. Восьмилетнюю девочку застрелили, потому что она несла сумку риса.
Джон. Да, я согласен. Некоторые виды затянувшегося хаоса даже хуже, чем организованное зло. Но для тебя это было очевидно, правда? Благодаря твоей работе с семьями?
Робин. Да, из-за этого я почти инстинктивно рассуждаю в такой манере. Я, кажется, уже упоминал ранее, семьи можно рассматривать как функционирующие, грубо говоря, на трех разных уровнях. Они подробно описаны в тех исследованиях, о которых мы уже беседовали, да и в своей работе, связанной с семейной терапией, я пришел к очень похожим заключениям. Эти уровни соответствуют различным этапам развития, которые проходит ребенок по мере взросления. На нижнем уровне — уровне душевного здоровья, характерном для наиболее нездоровых семей, — очень неопределенные, туманные, перетекающие границы личностей, и в любой момент никто толком не знает, где они или кто они. Далее, чуть лучше, но все еще на нижнем уровне, присутствуют какие-то порядок и структура, члены семьи осознают себя, но все это достигается ценой введения очень жестко закрепленных границ и очень прочно зафиксированных и ограниченных индивидуальностей. Такие индивидуальные роли «защищены» эмоциональной удаленностью, жесткой иерархией и ревностным, насильственным, карательным стилем управления. Если бы мы классифицировали общества по семейной шкале, то нацистская Германия соответствовала бы этому авторитарному уровню, для которого, кстати, также весьма характерен поиск козлов отпущения.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|