
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Еще раз о местепризнакам замечаю, что мы всего 595 поэзии 18 страница
— А не ты ли будешь в этом виновен?
— И буду тут совершенно прав. Но я тебя не выдам, защищу, чем могу — доброжелательным отношением и уговорами, да еще разве тем, что буду отвечать тебе лучше, чем кто-либо другой. Имея такого помощника, попытайся доказать всем неверующим, что дело ь обстоит именно так, как ты говоришь.
— Да, надо попытаться, раз даже ты заключаешь со мной такой могущественный союз. Мне кажется, если мы хотим избежать натиска со стороны тех людей, о которых ты говоришь, необходимо выдвинуть против них определение, кого именно мы называем философами, осмеливаясь утверждать при этом, что как раз философы-то и должны править: когда это станет ясно, можно начать обороняться и доказывать, что некоторым с людям шъсамой их природе подобает быть философами
и правителями государства, а всем прочим надо заниматься не этим, а следовать за теми, кто руководит.
— Да, сейчас самое время дать такое определение.
— Ну, тогда следуй за мной в этом направлении, и, может быть, нам удастся в какой-то мере удовлетворительно это истолковать.
— Веди меня.
 Философ — тот,
Философ — тот,
кто созерцает
прекрасное
одной какой-нибудь стороне того, что ои любит, оставаясь безучастным к другой, но, напротив, ему должно быть дорого все.
а — По-видимому, надо мне это напомнить: мне это не слишком понятно.
— Уж кому бы другому так говорить, а не тебе, Главной! Знатоку любовных дел не годится забывать, что человека, неравнодушного к юношам и влюбчивого, в какой-то мере поражают и возбуждают все, кто находятся в цветущем возрасте и кажутся ему достойными внимания и любви. Разве не так относитесь вы к красавцам? Одного вы называете приятным за то, что он курносый, и захваливаете его, у другого нос с горбинкой — значит, по-вашему, в нем есть что-то царствен-
с ное, а у кого нос средней величины, тот, считаете вы, отличается соразмерностью. У чернявых — мужественная внешность, белокурые — дети богов. Что касается
«медвяно-желтых» — думаешь ли ты, что это сочинил кто-нибудь иной, кроме нежного влюбленного, которого не отталкивает даже бледность, лишь бы юноша был 475 в цветущем возрасте? Одним словом, под любым предлогом и под любым именем вы не отвергаете никого из тех, кто в расцвете лет.
— Если тебе хочется на моем примере говорить о том, как ведут себя влюбленные, я, так и быть, уступаю, но лишь во имя нашей беседы.
— Что же? Разве ты не видишь, что и любители вин поступают так же? Любому вину они радуются под любым предлогом.
— И даже очень.
— Так же, думаю я, и честолюбцы. Ты замечаешь, если им невозможно возглавить целое войско, они начальствуют хотя бы над триттией 31; если нет им почета
ь от людей высокопоставленных и важных, они довольствуются почетом от людей маленьких и незначительных, но вожделеют почета во что бы то ни стало.
— Совершенно верно.
— Так вот, прими же или отвергни следующее. Когда мы говорим: «Человек вожделеет к тому-то», скажем ли мы, что он вожделеет ко всему этому виду предметов или же к одним из них — да, а к другим — нет?
— Ко всему виду.
— Не скажем ли мы, что и философ вожделеет не к одному какому-то ее виду, но ко всей мудрости в целом?
— Это правда.
— Значит, если у человека отвращение к наукам,
в особенности когда он молод и еще не отдает себе от- с чета в том, что полезно, а что — нет, мы не назовем его ни любознательным, ни философом, так же как мы не сочтем, что человек голоден и вожделеет к пище, если у него к ней отвращение: в этом случае он не охотник до еды, наоборот, она ему противна.
— Если мы так скажем, это будет правильно.
— А кто охотно готов отведать от всякой науки, кто с радостью идет учиться и в этом отношении ненасытен, того мы вправе будем назвать философом 32, не так ли?
Тут Главкон сказал: d
— Такого рода людей у тебя наберется много, и притом довольно нелепых. Ведь таковы, по-моему, все охотники до зрелищ: им доставляет радость узнать что- нибудь новое. Совершенно нелепо причислять к философам и любителей слушать: их нисколько не тянет к такого рода беседам, где что-нибудь обсуждается, зато, словно их кто подрядил слушать все хоры, они бегают на празднества в честь Диониса, не пропуская ни городских Дионисий, ни сельских. Неужели же всех этих и других, кто стремится узнать что-нибудь подобное или научиться какому-нибудь ничтожному ремеслу, мы е назовем философами?
— Никоим образом, разве что похожими на них.
— А кого же ты считаешь подлинными философами?
— Тех, кто любит усматривать истину.
— Это верно; но как ты это понимаешь?
— Мне нелегко объяснить это другому, но ты, я думаю, согласишься со мной в следующем...
— В чем?
— Раз прекрасное противоположно безобразному, значит, это две разные вещи.
— Конечно. 476
— Но раз это две вещи, то каждая из них — одна?
— И это, конечно, так.
— То же самое можно сказать о справедливом и несправедливом, хорошем и плохом и обо всех других видах: каждое из них — одно, но кажется множественным, проявляясь повсюду во взаимоотношении, а также в сочетании с различными действиями и телами.
— Ты прав.
— Согласно этому я и провожу различие: отдельно помещаю любителей зрелищ, ремесел и дельцов, то есть
ь всех тех, о ком ты говорил, и отдельно тех, о которых у нас сейчас идет речь и которых с полным правом можно назвать философами.
— А для чего ты это делаешь?
— Кто любит слушать и смотреть, те радуются прекрасным звукам, краскам, очертаниям и всему производному от этого, но их духовный взор не способен видеть природу красоты самой по себе и радоваться ей.
— Да, это так.
— А те, кто способен подняться до самой красоты и видеть ее самое по себе, разве это не редкие люди?
с — И даже очень редкие.
— Кто ценит красивые вещи, но не ценит красоту самое по себе и не способен следовать за тем, кто повел бы его к ее познанию, — живет такой человек наяву или во сне, как ты думаешь? Суди сам: грезить — во сне или наяву — не значит ли считать подобие вещи не подобием, а самой вещью, на которую оно походит?
— Конечно, я сказал бы, что такой человек грезит.
— Далее. Кто в противоположность этому считает
d что-нибудь красотой самой по себе и способен созерцать
как ее, так и всё причастное к ней, не принимая одно за другое, — такой человек, по-твоему, живет во сне или наяву?
— Конечно, наяву.
— Его состояние мышления мы правильно назвали бы познаванием, потому что он познаёт, а у того, первого, мы назвали бы это мнением, потому что он только мнит.
— Несомненно.
— Дальше. Если тот, о ком мы сказали, что он только мнит, но не познаёт, станет негодовать и оспаривать правильность наших суждений, могли бы мы
е его как-то унять и спокойно убедить, не говоря открыто, что он не в своем уме?
— Это следовало бы сделать.
— Ну, посмотри же, что мы ему от-
Философ познает ветим Или, если хочешь, мы так не мнения, .
а бытие и истину начнем его расспрашивать (уверяя
при этом, что мы ничего против него не имеем, наоборот, с удовольствием видим человека знающего): «Скажи нам, тот, кто познаёт, познаёт нечто или ничто?» Вместо него отвечай мне ты.
— Я отвечу, что такой человек познаёт нечто.
— Нечто существующее или несуществующее?
— Существующее. Разве можно познать несущест- 477 вующее?!
— Так вот, с нас достаточно того, что, с какой бы стороны мы что-либо ни рассматривали, вполне существующее вполне познаваемо, а совсем не существующее совсем и непознаваемо.
— Да, этого совершенно достаточно.
— Хорошо. А если с чем-нибудь дело обстоит так, что оно то существует, то не существует, разве оно не находится посредине между чистым бытием и тем, что вовсе не существует?
— Да, оно находится между ними.
— Так как познание направлено на существующее, а незнание неизбежно направлено на несуществующее, то для того, что направлено на среднее между ними обоими, надо искать нечто среднее между незнанием ь и знанием, если только встречается что-либо подобное.
— Совершенно верно.
— А называем ли мы что-нибудь мнением?
— Конечно.
— Это уже иная способность, чем знание, или та же самая?
— Иная.
— Значит, мнение направлено на одно, а знание — на другое соответственно различию этих способностей.
— Да, так.
— Значит, знание по своей природе направлено на бытие с целью постичь, каково оно? Впрочем, мне кажется, необходимо сперва разобраться вот в чем...
— В чем?
— О способностях мы скажем, что они представ- с ляют собой некий род существующего; благодаря им мы можем то, что мы можем, да и не только мы, но все вообще наши способности: зрение и слух, например, я отнесу к числу таких способностей, если тебе понятно, о каком виде я хочу говорить.
— Мне понятно.
— Выслушай же, какого я держусь относительно них взгляда. Я не усматриваю у способностей ни цвета, ни очертания и вообще никаких свойственных другим вещам особенностей, благодаря которым я их про себя различаю. В способности я усматриваю лишь то, на что л она направлена и каково ее воздействие; именно по
этому признаку я и обозначаю ту или иную способность. Если и направленность, и воздействие одно и то же, я считаю это одной и той же способностью, если же и направленность, и воздействие различны, тогда это уже другая способность. А ты — как ты поступаешь?
— Так же точно.
— Вернемся, почтеннейший, к тому же. Признаешь ли ты знание какой-то способностью или к какому роду ты его отнесешь?
— К этому роду: это самая мощная из всех способностей.
е — А мнение мы отнесем к способностям или к какому-то другому виду?
— Ни в коем случае. Ведь мнение есть не что иное, как то, благодаря чему мы способны мнить.
— Но ведь немного раньше ты согласился, что знание и мнение не одно и то же.
— Как можно, будучи в здравом уме, считать одним и тем же то, что безошибочно, и то, что исполнено ошибок!
— Хорошо. Очевидно, мы с тобой согласны: знание 478 и мнение — разные вещи.
— Да, разные.
— Значит, каждое из них по своей природе имеет особую направленность и способность.
— Непременно.
— Знание направлено на бытие, чтобы познать его свойства.
— Да.
— Мнение же, утверждаем мы, направлено лишь на то, чтобы мнить.
— Да.
— Познаёт ли оно то же самое, что и знание? И будет ли одним и тем же познаваемое и мнимое? Или это невозможно?
— Невозможно по причине того, в чем мы были согласны: каждая способность по своей природе имеет свою направленность; обе эти вещи — мнение и зна-
ь ние — не что иное, как способности, но способности различные, как мы утверждаем, и потому нельзя сделать вывод, что познаваемое и мнимое — одно и то же.
— Если бытие познаваемо, то мнимое должно быть чем-то от него отличным.
— Да, оно от него отлично.
— Значит, мнение направлено на небытие? Или не-
бытие нельзя даже мнить? Подумай-ка: разве не относит к какому-либо предмету свои мнения тот, кто их имеет? Или можно иметь мнение, но ничего не мнить?
— Это невозможно.
— Так, но хоть что-нибудь одно все же мнит тот, кто имеет мнение?
— Да.
— Между тем небытие с полным правом можно назвать не одним чем-то, а вовсе ничем.
— Конечно.
— Поэтому к небытию мы с необходимостью отнесли незнание, а к бытию — познание.
— Правильно.
— Значит, мнения не относятся ни к бытию, ни к небытию.
— Да, не относятся.
— Значит, выходит, что мнение — это ни знание, ни незнание?
— Видимо, да.
— Итак, не совпадая с ними, превосходит ли оно отчетливостью знание, а неотчетливостью — незнание?
— Нет, ни в том, ни в другом случае.
— Значит, на твой взгляд, мнение более смутно, чем знание, но яснее, чем незнание?
— И во много раз.
— Но оно не выходит за их пределы?
— Да.
— Значит, оно — нечто среднее между ними?
— Вот именно.
— Как мы уже говорили раньше, если обнаружится нечто существующее и вместе с тем несуществующее, место ему будет посредине между чистым бытием и полнейшим небытием и направлено на него будет не знание, а также и не незнание, но опять-таки нечто такое, что окажется посредине между незнанием и знанием.
— Это верно.
— А теперь посредине между ними оказалось то, что мы называем мнением.
— Да, оказалось.
— Нам остается, видимо, найти нечто такое, что причастно им обоим — бытию и небытию, но что нельзя назвать ни тем ни другим в чистом виде. Если нечто подобное обнаружится, мы вправе будем назвать это тем, что мы мним; крайним членам мы припишем свойство
быть крайними, а среднему между ними — средним*. Разве не так?
— Так.
— Положив это в основу, пусть, скажу я, ведет со 47» мной беседу и пусть ответит мне тот добрый человек,
который отрицает прекрасное само по себе и некую са- мотождественную идею такого прекрасного. Он находит, что красивого много, этот любитель зрелищ, и не выносит, когда ему говорят, что прекрасное, так же как справедливое, едино, да и все остальное тоже. «Милейший,— скажем мы ему,— из такого множества прекрасных вещей разве не найдется ничего, что может оказаться безобразным? Или из числа справедливых поступков такой, что окажется несправедливым, а из числа благочестивых — нечестивым?» к — Да, эти вещи неизбежно окажутся в каком-то отношении прекрасными и в каком-то безобразными. Так же точно и остальное, о чем ты спрашиваешь.
— А многим вещам, являющимся вдвое большими чего-либо, разве это мешает оказаться в другом отношении вдвое меньшими?
— Ничуть.
— А если мы назовем что-либо большим, малым, легким, тяжелым, то разве для этого будет больше оснований, чем для противоположных обозначений?
— Нет, каждой вещи принадлежат оба обозначения.
— Так будет ли каждая из многих названных вещей преимущественно такой, как ее назвали, или не будет?
— Это словно двусмысленность из тех, что в ходу на с пирушках, или словно детская загадка о том, как евнух
хотел убить летучую мышь: надо догадаться, что он бросил и на чем летучая мышь сидела. И здесь все имеет два смысла, и ни о какой вещи нельзя твердо предполагать, что она такая или иная либо что к ней подходят оба обозначения или не подходит ни одно из них.
— Что же ты сделаешь с такими обозначениями? Можешь ли ты отвести им лучшее место, чем посредине между бытием и небытием? Они не туманнее небытия и не окажутся еще более несуществующими, чем оно,
i а с другой стороны, они не яснее бытия и не окажутся более, чем оно, существующими.
— Совершенно верно.
— Значит, мы, очевидно, нашли, что общепринятые суждения большинства относительно прекрасного и ему
подобного большей частью колеблются где-то между небытием и чистым бытием.
— Да, мы это нашли.
— А у нас уже прежде было условлено, что, если обнаружится нечто подобное, это надлежит считать тем, что мы мним, а не тем, что познаём, так как то, что колеблется в этом промежутке, улавливается промежуточной способностью.
— Да, мы так условились.
— Следовательно, о тех, кто замечает много пре- • красного, но не видит прекрасного самого по себе и не может следовать за тем, кто к нему ведет, а также о тех, кто замечает много справедливых поступков, но не справедливость самое по себе и так далее, мы скажем, что обо всем этом у них имеется мнение, но они не знают ничего из того, что мнят.
— Да, необходимо сказать именно так.
— А что же мы скажем о тех, кто созерцает сами эти [сущности], вечно тождественные самим себе? Ведь они познают их, а не только мнят?
— И это необходимо.
— И мы скажем, что эти уважают и любят то, чте они познают, а те — то, что они мнят. Ведь мы помним, т что они любят и замечают, как мы говорили, звуки, красивые цвета и тому подобное, но даже не допускают существования прекрасного самого по себе.
— Да, мы это помним.
— Так что мы не ошибемся, если назовем их скорее любителями мнений, чем любителями мудрости?
И неужели же они будут очень сердиться, если мы так скажем?
— Не будут, если послушаются меня: ведь не положено сердиться на правду.
— А тех, кто ценит все существующее само по себе, должно называть любителями мудрости 33, а не любителями мнений.
— Безусловно.
484 Роль философов — Насилу-то выяснилось, Главной,— в идеальном сказал я,— путем длинного рассуж- государстве дения, кто действительно философ, а кто — нет и что собой представляют те и другие.
— Пожалуй,— отвечал он,— нелегко было сделать это короче.
— Видимо, нет. К тому же, мне кажется, это выяснилось бы лучше, если бы надо было говорить только об одном, не вдаваясь в разбор многого другого при рассмотрении вопроса, в чем отличие справедливой жизни
ь от несправедливой.
— А что у нас идет после этого?
— Что же иное, кроме того, что следует по порядку? Раз философы — это люди, способные постичь то, что вечно тождественно самому себе, а другие этого не могут и застревают на месте, блуждая среди множества разнообразных вещей, и потому они уже не философы, то спрашивается, кому из них следует руководить государством?
— Как же нам ответить на это подобающим образом?
— Кто выкажет способность охранять законы и обы- е чаи государства, тех и надо назначать стражами.
— Это верно.
— А ясно ли, какому стражу надо поручать любую охрану — слепому или тому, у кого острое зрение?
— Конечно, ясно.
— А чем лучше слепых те, кто по существу лишен знания сущности любой вещи и у кого в душе нет отчетливого ее образа? Они не способны, подобно художникам, усматривать высшую истину и, не теряя ее из виду,
л постоянно воспроизводить ее со всевозможной тщательностью, и потому им не дано, когда это требуется, устанавливать здесь новые законы о красоте, справедливости и благе или уберечь уже существующие.
— Да, клянусь Зевсом, мало чем отличаются они от слепых.
— Как ты это понимаешь?
 |
 — Относительно природы философов нам надо согласиться, что их страстно влечет к познанию, приоткрывающему им вечно сущее и не изменяемое возникновением и уничтожением бытие, [о котором мы говорили].
— Относительно природы философов нам надо согласиться, что их страстно влечет к познанию, приоткрывающему им вечно сущее и не изменяемое возникновением и уничтожением бытие, [о котором мы говорили].
— Да, с этим надо согласиться.
— И надо сказать, что они стремятся ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни более ценной, то есть поступают так, как мы это видели на примере людей честолюбивых и влюбчивых.
— Ты прав.
— Посмотри вслед за этим, необходимо ли людям, которые должны стать такими, как мы говорим, иметь, кроме того, в своем характере еще и следующее...
— Что именно?
— Правдивость, решительное неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине.
— Естественно, им необходимо это иметь.
— Не только, друг мой, естественно, но и во всех отношениях неизбежно любой человек, если он в силу своей природы охвачен страстным стремлением, ценит всё, что сродни и близко предмету его любви.
— Верно.
— А найдешь ли ты что-либо более близкое мудрости, чем истина?
— To есть как?
— Разве может один и тот же человек любить и мудрость, и ложь?
— Ни в коем случае.
— Значит, тот, кто действительно любознателен, должен сразу же, с юных лет изо всех сил стремиться к истине?
— Да, это стремление должно быть совершенным.
— Но когда у человека его вожделения резко клонятся к чему-нибудь одному, мы знаем, что от этого они слабеют в отношении всего остального, словно поток, отведенный в сторону.
— И что же?
— У кого они устремлены на приобретение знаний и подобные вещи, это, думаю я, доставляет удовольствие его душе как таковой, телесные же удовольствия для него пропадают, если он не притворно, а подлинно философ.
 АН
АН
— 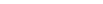 Если ему свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором целокупного времени и бытия, думаешь ли ты, что для такого человека много значит человеческая^ жизнь?
Если ему свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором целокупного времени и бытия, думаешь ли ты, что для такого человека много значит человеческая^ жизнь?
— Нет, это невозможно.
—  Значит, такой человек и смерть не будет считать чем-то ужасным?
Значит, такой человек и смерть не будет считать чем-то ужасным?
— Менее всего.
— А робкой и неблагородной натуре подлинная философия, видимо, недоступна.
— По-моему, нет.
— Что же? Человек порядочный, не корыстолюбивый, а также благородный, не хвастливый, не робкий — может ли он каким-то образом стать неуживчивым и несправедливым?
— Это невозможно.
— Вот почему, рассматривая, философская ли душа у какого-нибудь человека или нет, ты сразу, еще в его юные годы, заметишь, справедливая ли она, кроткая ли или трудна для общения и дика.
— Конечно, замечу.
— И ты не упустишь из виду, думаю я, еще вот что... •
— Что же именно?
— Способен ли он к познанию или не способен. Разве ты можешь ожидать, что человек со временем полюбит то, над чем мучится и с чем едва справляется?
— Это вряд ли случится.
— Что же? Если он не может удержать в голове ничего из того, чему обучался — так он забывчив, может ли он не быть пустым и в отношении знаний?
— Как же иначе!
— Понапрасну трудясь, не кончит ли он тем, что возненавидит и самого себя, и такого рода занятия?
— Конечно, возненавидит.
— Значит, забывчивую душу мы никогда не отнесем
к числу философских и будем искать ту, у которой хоро- d шая память.
— Безусловно.
— Но можем ли мы сказать, что чуж-
^^Иотлетается5°^а дая Музам и уродливая натура будет
сораз^рностью иметь влечение к чему-либо иному,
и врожденной кроме несоразмерности?
тонкостью ума — И что же?
— А как, по-твоему, истина сродни несоразмерности или соразмерности?
— Соразмерности.
— Значит, кроме всего прочего требуется и соразмерность, и прирожденная тонкость ума, своеобразие которого делало бы человека восприимчивым к идее всего сущего.
— Да, конечно.
— Итак, разве, по-твоему, мы не разобрали свойства, • каждое из которых, вытекая одно из другого, необходимо душе для достаточного и совершенного постижения бытия?
487 — Да, они для этого в высшей степени необходимы.
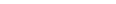 — А есть ли у тебя какие-нибудь основания порицать такого рода занятие, которым никто не может как следует заниматься, если он не будет человеком, памятливым от природы, способным к познанию, великодушным, тонким и к тому же другом и сородичем истины, справедливости, мужества и рассудительности?
— А есть ли у тебя какие-нибудь основания порицать такого рода занятие, которым никто не может как следует заниматься, если он не будет человеком, памятливым от природы, способным к познанию, великодушным, тонким и к тому же другом и сородичем истины, справедливости, мужества и рассудительности?
— Даже Мом2 и тот не нашел бы, к чему здесь придраться.
— И разве не поручил бы ты государство людям зрелого возраста, достигшим совершенства в образовании,— и только им одним?
Тут вступил в разговор Адимант:
— Против этого-то, Сократ, никто не нашелся бы, что тебе возразить. Но ведь всякий раз, когда ты рассуждаешь так, как теперь, твои слушатели испытывают примерно вот что: из-за непривычки задавать вопросы или отвечать на них они думают, что рассуждение при каждом твоем вопросе лишь чуть-чуть уводит их в сторону, однако, когда эти «чуть-чуть* соберутся вместе, ясно обнаруживается отклонение и противоречие с первоначальными утверждениями. Как в шашках сильный игрок в конце концов закрывает неумелому ход и тот не знает, куда ему податься, так и твои слушатели под конец оказываются в тупике и им нечего сказать в этой своего рода игре, где вместо шашек служат слова. А по правде- то дело ничуть этим не решается. Я говорю, имея в виду наш случай: ведь сейчас всякий признается, что по каждому заданному тобой вопросу он не в состоянии тебе противоречить. Стоило бы, однако, взглянуть, как с этим обстоит на деле: ведь кто устремился к философии не с целью образования, как это бывает, когда в молодости коснутся ее, а потом бросают, но, напротив, потратил на нее много времени, те большей частью становятся очень странными, чтобы не сказать совсем негодными, и даже лучшие из них под влиянием занятия, которое ты так расхваливаешь, все же делаются бесполезными для государства.
Выслушав Адиманта, я сказал:
— Так, по-твоему, тот, кто так говорит, ошибается?
— Не знаю, но я с удовольствием услышал бы твое мнение.
— Ты услышал бы, что, по-моему мнению, они говорят сущую правду.
— Тогда как же это согласуется с тем, что государ- е ствам до тех пор не избавиться от бед, пока не будут
в них править философы, которых мы только что признали никчемными?
— Твой вопрос требует ответа с помощью уподобления.
— А ты, видно, к уподоблениям не привык.
— Пусть будет так. Ты втянул меня в трудное рассуждение да еще и вышучиваешь! Так выслушай же мое 488 уподобление, чтобы еще больше убедиться, как трудно оно мне дается.
По отношению к государству положение самых порядочных людей настолько тяжелое, что ничего не может быть хуже. Поэтому при уподоблении приходится для их защиты объединять между собой многие черты, как это делают, например, художники, когда рисуют коз- лооленей3 и тому подобное, смешивая различные черты. Так вот, представь себе такого человека, оказавшегося владельцем одного или нескольких кораблей. Кормчий и ростом, и силой превосходит на корабле всех, но он ь глуховат, а также близорук и мало смыслит в мореходстве, а среди моряков идет распря из-за управления кораблем: каждый считает, что именно он должен править, хотя никогда не учился этому искусству, не может указать своего учителя и в какое время он обучался. Вдобавок они заявляют, что учиться этому нечего, и готовы разорвать на части того, кто скажет, что надо. Они осаждают судовладельца просьбами и всячески добиваются, с чтобы он передал им кормило. Иные его совсем не слушают, кое-кто — отчасти, и тогда те начинают убивать этих и бросать их за борт. Одолев благородного судовладельца с помощью мандрагоры4, вина или какого-либо иного средства, они захватывают власть на корабле, начинают распоряжаться всем, что на нем есть, бражничают, пируют и, разумеется, направляют ход корабля именно так, как естественно для подобных людей. Вдобавок они восхваляют и называют знающим моряком, d кормчим, сведущим в кораблевождении, того, кто способен захватить власть силой или же уговорив судовладельца, а кто не таков, того они бранят, считая его никчемным. Они понятия не имеют о подлинном кормчем, который должен учитывать времена года, небо, звезды, ветры — все, что причастно его искусству, если он дейст-
— Конечно,— отвечал Адимант.
—
 |
Я не думаю, чтобы, видя такую картину, ты нуждался в истолковании того, в чем ее сходство с отношением к подлинным философам в государствах, — ты ведь понимаешь, о чем я говорю.
— Вполне.
— Так прежде всего ты растолкуй этот образ тому, кто удивляется, почему философы не пользуются в государствах почетом, и постарайся убедить его, что гораздо более удивительно было бы, если бы их там почитали.
— Я ему растолкую это.
 — И скажи ему также: «Ты верно говоришь, что для большинства бесполезны люди, выдающиеся в философии». Но в бесполезности этой вели ему винить тех, кто не находит им никакого применения, а не этих выдающихся людей. Ведь неестественно, чтобы кормчий просил матросов подчиняться ему или чтобы мудрецы обивали пороги богачей,— ошибался тот, кто так острил6. Естественно как раз обратное: будь то богач или бедняк, но, если он заболел, ему необходимо обратиться к врачам; а всякий, кто нуждается в подчинении, должен обратиться к тому, кто способен править. Не дело правителя просить, чтобы подданные ему подчинялись, если только он действительно на что-нибудь годится. И не совершит ошибки тот, кто уподобит нынешних государственных деятелей морякам, о которых мы только что говорили, а людей, которых они считают никчемными и высокопарными, уподобит подлинным кормчим.
— И скажи ему также: «Ты верно говоришь, что для большинства бесполезны люди, выдающиеся в философии». Но в бесполезности этой вели ему винить тех, кто не находит им никакого применения, а не этих выдающихся людей. Ведь неестественно, чтобы кормчий просил матросов подчиняться ему или чтобы мудрецы обивали пороги богачей,— ошибался тот, кто так острил6. Естественно как раз обратное: будь то богач или бедняк, но, если он заболел, ему необходимо обратиться к врачам; а всякий, кто нуждается в подчинении, должен обратиться к тому, кто способен править. Не дело правителя просить, чтобы подданные ему подчинялись, если только он действительно на что-нибудь годится. И не совершит ошибки тот, кто уподобит нынешних государственных деятелей морякам, о которых мы только что говорили, а людей, которых они считают никчемными и высокопарными, уподобит подлинным кормчим.
— Это в высшей степени правильно.
— По таким причинам и в таких условиях нелегко наилучшему занятию быть в чести у занимающихся как раз противоположным. Всего больше и сильнее обязана философия своей дурной славой тем, кто заявляет, что
это их дело — заниматься подобными вещами. Упомянутый тобой хулитель философии говорил, что большинство обратившихся к ней — это самые скверные люди, а самые порядочные здесь бесполезны, и я согласился тогда, что ты говоришь верно,— разве не так?
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|