
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Еще раз о местепризнакам замечаю, что мы всего 595 поэзии 22 страница
— Да, поделом мне досталось! Ты прав. Но как, по-твоему, следует изучать астрономию в отличие от того, что делают теперь? В чем польза ее изучения для нашей цели?
— А вот как. Эти узоры на небе 13, украшающие область видимого, надо признать самыми прекрасными и совершенными из подобного рода вещей, но все же они а сильно уступают вещам истинным с их перемещениями друг относительно друга, происходящими с подлинными быстротой и медленностью, согласно истинному числу и во всевозможных истинных формах (ст/гцшсн), причем перемещается всё содержимое. Это постигается разумом
и рассудком, но не зрением. Или, по-твоему, именно им?
— Ни в коем случае.
— Значит, небесным узором надо пользоваться как пособием для изучения подлинного бытия, подобно тому как если бы нам подвернулись чертежи Дедала 14 или е какого-нибудь иного мастера либо художника, отлично и старательно вычерченные. Кто сведущ в геометрии, тот, взглянув на них, нашел бы прекрасным их выполнение, но было бы смешно их всерьез рассматривать как источник истинного познания равенства, удвоения или 530 каких-либо иных отношений.
— Еще бы не смешно!
— А разве, по-твоему, не был бы убежден в этом и подлинный астроном, глядя на круговращение звезд?
Он нашел бы, что все это устроено как нельзя более прекрасно,— ведь так создал демиург и небо, и все, что на небе: соотношение ночи и дня, их отношение к месяцу, а месяца — к году, звезд — ко всему этому и друг к другу. Но он, конечно, будет считать нелепым того чело- ь века, который полагает, что все это всегда происходит одинаково и ни в чем не бывает никаких отклонений, причем всячески старается добиться здесь истины, меж-
ду тем как небесные светила имеют тело и воспринимаются с помощью зрения.
— Я согласен с твоими доводами.
— Значит, мы будем изучать астрономию так же, как геометрию, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим в стороне, раз мы хотим действительно освоить астрономию и использовать еще неиспользован-
с ное разумное по своей природе начало нашей души.
— Ты намного осложняешь задачу астрономии в сравнении с тем, как ее теперь изучают.
— Я думаю, что и остальные наши предписания будут в таком же роде, если от нас как от законодателей ожидается какой-либо толк. Но можешь ли ты напомнить еще о какой-нибудь из подходящих наук?
— Сейчас, так сразу, не могу.
— Я думаю, что движение бывает не одного вида, а а нескольких. Указать все их сумеет, быть может, знаток, но и нам представляются два вида...
— Какие же?
— Кроме указанного еще и другой, ему соответствующий.
— Какой же это?
— Пожалуй, как глаза наши устрем- Музыка лены к астрономии, так уши — к дви
жению стройных созвучий; эти две науки — словно родные сестры, по крайней мере так утверждают пифагорейцы, и мы с тобой, Главкон, согласимся с ними 15. Поступим мы так?
— Непременно.
е — Предмет этот сложный, поэтому мы расспросим их, как они все это объясняют, может быть, они и еще кое-что добавят. Но что бы там ни было, мы будем настаивать на своем.
— А именно?
— Те, кого мы воспитываем, пусть даже не пытаются изучать что-нибудь несовершенное и направленное не к той цели, к которой всегда должно быть направлено все, как мы только что говорили по поводу астрономии.
531 Разве ты не знаешь, что и в отношении гармонии повторяется та же ошибка? Так же, как астрономы, люди трудятся там бесплодно: они измеряют и сравнивают воспринимаемые на слух созвучия и звуки.
— Клянусь богами, у них это выходит забавно: что-то они называют «уплотнением» и настораживают уши, словно ловят звуки голоса из соседнего дома;
одни говорят, что различают какой-то отзвук посреди, между двумя звуками, и что как раз тут находится наименьший промежуток, который надо взять за основу для измерений; другие спорят с ними, уверяя, что здесь нет разницы в звуках, но и те и другие ценят уши выше ь ума.
— Ты говоришь о тех добрых людях, что не дают струнам покоя и подвергают их пытке, накручивая на колки. Чтобы не затягивать все это, говоря об ударах плектром, о том, как винят струны, отвергают их или кичатся ими, я прерву изображение и скажу, что имел в виду ответы не этих людей, а пифагорейцев, которых мы только что решили расспросить о гармонии. Ведь они поступают совершенно так же, как астрономы: они ищут числа в воспринимаемых на слух созвучиях, но о не подымаются до рассмотрения общих вопросов и не выясняют, какие числа созвучны, а какие нет и почему 16.
— Чудесное это было бы дело — то, о чем ты говоришь!
— Да, действительно полезное для исследования красоты и блага, иначе бесполезно и стараться.
— Безусловно.
— Я по крайней мере думаю, что Диалектический если изучение всех разобранных метод нами предметов доходит до установ
ления их общности и родства и приводит к выводу d относительно того, в каком именно отношении они друг к другу близки, то оно будет способствовать достижению поставленной нами цели, так что труд этот окажется небесполезным. В противном же случае он бесполезен'.
— Мне тоже tan сдается. Но ты говоришь об очень сложном деле, Сократ.
— Ты разумеешь вводную часть или что-нибудь
другое? Разве мы не знаем, что все это лишь вступление к тому напеву, который надо усвоить? Ведь не считаешь же ты, что, кто в этом силен, тот и искусный диалектик? е
— Конечно, нет, клянусь Зевсом! Разве что очень немногие из тех, кого я встречал.
— А кто не в состоянии привести разумный довод или его воспринять, тот никогда не будет знать ничего из необходимых, по нашему мнению, знаний.
— Да, не иначе.
532 — Так вот, Главной, это и есть тот самый напев, который выводит диалектика. Он умопостигаем, а между тем зрительная способность хотела бы его воспроизвести, но ведь ее попытки что-либо разглядеть обращены, как мы говорили, лишь на животных как таковых, на звезды как таковые, наконец, на Солнце как таковое. Когда же кто-нибудь делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения, посредством одного лишь разума устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не
ь постигнет сущности блага. Так он оказывается на самой вершине умопостигаемого, подобно тому как другой взошел на вершину зримого.
— Совершенно верно.
— Так что же? Не назовешь ли ты этот путь диалектическим?
— И дальше?
— Это будет освобождением от оков, поворотом от теней к образам и свету, подъемом из подземелья к Солнцу. Если же и тогда будет невозможно глядеть на живые существа, растения и на Солнце, все же
с лучше смотреть на божественные отражения в воде и на тени сущего, чем на тени образов, созданные источником света, который сам не более как тень в сравнении с Солнцем. Взятое в целом, занятие теми науками, о которых мы говорили, дает эту возможность и ведет прекраснейшее начало нашей души ввысь, к созерцанию самого совершенного в существующем, подобно тому как в первом случае самое отчетливое [из ощущений], свойственных нашему телу, направлено на
а самое яркое в телесной (асоратоеьбе!) и зримой области.
— Я допускаю, что это так, хотя допустить это мне кажется очень трудным; с другой стороны, трудно это и не принять. Впрочем (ведь не только сейчас об этом речь, придется еще не раз к этому возвращаться), допустив, что дело обстоит так, как сейчас было сказано, давай перейдем к самому напеву и разберем его таким образом, как мы разбирали это вступление.
е Скажи, чем отличается эта способность рассуждать, из каких видов она состоит и каковы ведущие к ней пути? Они, видимо, приводят к цели, достижение которой было бы словно отдохновением для путника и завершением его странствий.
533 — Милый мой Главной, у тебя пока еще не хватит
сил следовать за мной, хотя с моей стороны нет недостатка в готовности. А ведь ты увидел бы уже не образ того, о чем мы говорим, а самое истину, по крайней мере как она мне представляется. Действительно ли так обстоит или нет — на это не стоит пока напирать. Но вот увидеть нечто подобное непременно надо — на этом следует настаивать. Не так ли?
— И что же дальше?
— Надо настаивать и на том, что только способность рассуждать может показать это человеку, сведущему в разобранных нами теперь науках, иначе же это никак невозможно.
— Стоит утверждать и это.
— Никто не докажет нам, будто можно сделать по- ь пытку каким-нибудь иным путем последовательно охватить всё, то есть сущность любой вещи, ведь все другие способы исследования либо имеют отношение
к человеческим мнениям и вожделениям, либо направлены на возникновение и сочетание [вещей] или же целиком па поддержание того, что растет и сочетается. Что касается остальных наук, которые, как мы говорили, пытаются постичь хоть что-нибудь из бытия (речь идет о геометрии и тех науках, которые следуют за ней), то им всего лишь снится бытие, а наяву им невозможно с его увидеть, пока они, пользуясь своими предположениями, будут сохранять их незыблемыми и не отдавать себе в них отчета. У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда-либо стать знанием?
— Никогда.
— Значит, в этом отношении один лишь диалектический метод придерживается правильного пути: отбрасывая предположения, он подходит к первоначалу
с целью его обосновать; он потихоньку высвобождает, а словно из какой-то варварской грязи, зарывшийся туда взор нашей души и направляет его ввысь 17, пользуясь в качестве помощников и попутчиков теми искусствами, которые мы разобрали. По привычке мы не раз называли их науками, но тут требовалось бы другое название, потому что приемы их не столь очевидны, как наука, хотя и более отчетливы, чем мнение. А сам рассудок мы уже определили прежде. Впрочем, по- моему, нечего спорить о названии, когда предмет рас- е смотрения столь значителен, как сейчас у нас.
— Да, не стоит.
— Лишь бы только название ясно выражало, что под ним подразумевается, и этого нам ведь будет достаточно?
— Да, достаточно.
— 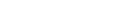 Тогда нас удовлетворят, как и раньше, следующие названия: первый раздел — познание, второй — размышление, третий — вера, четвертый — уподобление. Оба последних, вместе взятые, составляют мнение,
Тогда нас удовлетворят, как и раньше, следующие названия: первый раздел — познание, второй — размышление, третий — вера, четвертый — уподобление. Оба последних, вместе взятые, составляют мнение,
оба первых — мышление. Мнение относится к становлению, мышление — к сущности. И как сущность относится к становлению, так мышление — к мнению. А как мышление относится к мнению, так познание относится к вере, а рассуждение — к уподоблению. Разделение же на две области — того, что мы мним, и того, что мы постигаем умом, — и соответствие этих обозначений тем предметам, к которым они относятся, мы оставим с тобой, Главкон, в стороне, чтобы избежать рассуждений, еще во много раз более длинных, чем уже проделанные.
— Но я согласен и с остальным, насколько я в силах за тобой следовать 18.
— Конечно, ты называешь диалек-
Определение тиком того, кому доступно доказа-
диалектнки тельство сущности каждой вещи.
Если кто этого лишен, то, насколько он не может дать отчета ни себе ни другому, настолько же, скажешь ты, у него и ума не хватает для этого.
— Как этого не сказать!
— Точно так же обстоит дело и относительно блага. Кто не в силах с помощью доказательства определить идею блага, выделив ее из всего остального; кто не идет, словно на поле битвы, сквозь все препятствия, стремясь к опровержению, основанному не на мнении, а на понимании сущности; кто не продвигается через все это вперед с непоколебимой уверенностью, про того, раз он таков, ты скажешь, что ему неведомо ни самое благо, ни какое бы то ни было благо вообще, а если он и прикоснется каким-то путем к призраку блага, то лишь при помощи мнения, а не знания. Такой человек проводит нынешнюю свою жизнь в спячке и сновидениях, и, прежде чем он здесь пробудится, он, придя в Аид, окончательно погрузится в сон.
 |
— Клянусь Зевсом, я решительно стану утверждать все это.
Еще об отборе — Помнишь, каких правителей мы
правителей отобрали, когда раньше говорили оби их воспитании их выборе?
— Как не помнить!
— Вообще-то считай, что нужно выбирать указанные тогда натуры, то есть отдавать предпочтение самым надежным, мужественным и по возможности самым благообразным, но, кроме того, надо отыскивать не только людей благородных и строгого нрава, но и обладающих также свойствами, подходящими для такого воспитания.
— Кто же это, по-твоему?
— У них, друг мой, должна быть острая восприимчивость к наукам и быстрая сообразительность. Ведь души робеют перед могуществом наук гораздо больше, чем перед гимнастическими упражнениями, эта трудность ближе касается души, это ее особенность, которую она не разделяет с телом.
— Это верно.
—
 |

 Надо искать человека с хорошей памятью, несокрушимо твердого и во всех отношениях трудолюбивого. Иначе какая ему, по-твоему, охота и переносить телесные тяготы, и в довершение всего еще столько учиться и упражняться?
Надо искать человека с хорошей памятью, несокрушимо твердого и во всех отношениях трудолюбивого. Иначе какая ему, по-твоему, охота и переносить телесные тяготы, и в довершение всего еще столько учиться и упражняться?
— Другого такого нам не найти, ведь это должна быть исключительно одаренная натура.
— В том-то и состоит ошибка нашего времени и потому-то недооценивают философию, что за нее берутся не так, как она того заслуживает, — об этом мы говорили уже и раньше. Не подлым надо бы людям за нее браться, а благородным.
— То есть как?
а — Прежде всего у того, кто за нее берется, не должно хромать трудолюбие, что бывает, когда человек трудолюбив лишь наполовину, а наполовину — ленив. Это наблюдается, если кто любит гимнастику, охоту и вообще все, что развивает тело, но не любит учиться, исследовать, не любознателен — подобного рода трудности ему ненавистны. Хромым можно назвать и того, чье трудолюбие обращено на трудности, противоположные этим.
— Ты вполне прав.
— Значит, и в том, что касается истины, мы будем е считать душу покалеченной точно так же, если она,
несмотря на свое отвращение к намеренной лжи (этого она и у себя не выносит, и возмущается ложью других людей), все же снисходительно станет допускать ложь нечаянную и не смущаться, когда ей укажут на невежество, в котором она легкомысленно выпачкалась не хуже свиньи.
536 — Все это совершенно верно.
— И что касается рассудительности, мужества, великодушия, а также всех других частей добродетели, надо не меньше наблюдать, кто проявляет благородство, а кто — подлость. Не умеющий это различать — будь то частное лицо или государство, — сам того не замечая, привлечет для тех или иных надобностей — в качестве друзей ли или правителей — людей, хромающих на одну ногу и подлых.
— Это действительно часто бывает.
— А нам как раз этого-то и надо избежать. Если ь мы подберем людей здравых телом и духом и воспитаем
их на возвышенных знаниях и усиленных упражнениях, то самой справедливости не в чем будет нас упрекнуть и мы сохраним в целости и государство, и его строй; а если мы возьмем неподходящих для этого людей, то всё у нас выйдет наоборот и еще больше насмешек обрушится на философию.
— Это был бы позор.
— Значит, счет, геометрию и разного рода другие предварительные познания, которые должны предшествовать диалектике, надо преподавать нашим стражам еще в детстве, не делая, однако, принудительной форму обучения.
—
 |
 То есть?
То есть?
— Свободнорожденному человеку ни одну науку не в следует изучать рабски. Правда, если тело насильно заставляют преодолевать трудности, оно от этого не делается хуже, но насильственно внедренное в душу знание непрочно.
— Это верно.
— Поэтому, друг мой, питай своих детей науками
не насильно, а играючи, чтобы ты лучше мог наблю- 537 дать природные наклонности каждого.
— То, что ты говоришь, не лишено основания.
— Помнишь, мы говорили: надо брать с собой детей и на войну — конечно, зрителями, на конях, а где безопасно, так и поближе; пусть они отведают крови, словно щенки.
— Помню.
— Кто во всем этом — в трудах, в науках, в опасностях — всегда будет выказывать себя самым находчивым, тех надо занести в особый список.
— В каком возрасте? ь
— Когда они уже будут освобождены от обязатель-
ных занятий телесными упражнениями. Ведь в течение этого срока, продолжается ли он два или три года, у них нет возможности заниматься чем-либо другим. Усталость и сон — враги наук. А вместе с тем ведь и это немаловажное испытание: каким кто себя выкажет в телесных упражнениях.
— Еще бы!
— По истечении этого срока юноши, отобранные из числа двадцатилетних, будут пользоваться большим почетом сравнительно с остальными, а наукам, порознь
с преподававшимся им, когда они были детьми, должен быть сделан общий обзор, чтобы показать их сродство между собою и с природой бытия.
— Знание будет прочным, только когда оно приобретено подобным путем.
— И это самая главная проверка, имеются ли у человека природные данные для занятий диалектикой или нет. Кто способен все обозреть, тот — диалектик, кому же это не под силу, тот — нет.
— Я тоже так думаю.
— Вот тебе и придется подмечать, кто наиболее а отличится в этом, кто будет стойким в науках, на войне
и во всем том, что предписано законом. Из этих юношей, когда им исполнится тридцать лет, надо будет опять-таки произвести отбор, окружить их еще большим почетом и подвергнуть испытанию их способность к диалектике, наблюдая, кто из них умеет, не обращая внимания на зрительные и остальные ощущения, подняться до истинного бытия. Но здесь требуется величайшая осторожность, мой друг.
— А собственно, почему?
е — Разве ты не замечаешь зла, связанного в наше время с умением рассуждать,— насколько оно распространилось?
— В чем же оно состоит?
— Люди, занимающиеся этим, преисполнены беззакония.
— И в очень сильной степени.
— Удивляет ли тебя их состояние? Заслуживают ли они, по-твоему, снисхождения?
— В каком же главным образом отношении?
— Возьмем такой пример: какой-нибудь подкину- 638 тый ребенок вырастает в богатстве, в большой и знатной семье, ему всячески угождают. Став взрослым, он узнаёт, что те, кого он считал своими родителями,
ему чужие, а подлинных родителей ему не найти. Можешь ты предугадать, как будет он относиться к тем, кто его балует, и к своим мнимым родителям — сперва в то время, когда он не знал, что он подкидыш, а затем, когда уже это узнает? А хочешь, я сам тебе скажу, что я тут усматриваю?
— Хочу.
— 
 Я предвижу, что, пока он не знает истины, он будет почитать мнимых родственников — мать, отца й всех остальных — больше, чем тех, кто его балует. С его стороны будет меньше пренебрежения к нуждам родственников, меньше беззаконных поступков или выражений по отношению к ним, меньше неповиновения им, чем тем, кто его балует.
Я предвижу, что, пока он не знает истины, он будет почитать мнимых родственников — мать, отца й всех остальных — больше, чем тех, кто его балует. С его стороны будет меньше пренебрежения к нуждам родственников, меньше беззаконных поступков или выражений по отношению к ним, меньше неповиновения им, чем тем, кто его балует.
— Естественно.
— Когда же он узнает правду, то, думаю я, его почтение и внимательность к мнимым родственникам ослабеет, а к тем, кто его балует, увеличится; он будет слушаться их гораздо больше, чем раньше, жить на их лад, откровенно примкнув к ним, а о прежнем своем отце и об остальных мнимых родственниках вовсе перестанет заботиться, разве что по натуре он будет исключительно порядочным человеком.
— Все так и бывает, как ты говоришь. Но какое отношение имеет твой пример к людям, причастным к рассуждениям?
 Справедливость
Справедливость
воспитывается
в человеке
с детства
d
будет придерживаться мнения, будто прекрасное ничуть е не более прекрасно, чем безобразно. Так же случится и со справедливостью, с благом и со всем тем, что он особенно почитал. После этого что, по-твоему, станется с его почтительностью и послушанием?
— У него неизбежно уже не будет такого почтения и послушания.
— Если же он перестанет считать все это ценным и дорогим, как бывало, а истину найти будет не в состоянии, то, спрашивается, к какому же иному образу
539 жизни ему естественно обратиться, как не к тому, который ему будет лестен?
— Все другое исключено.
— Так окажется, что он стал нарушителем законов, хотя раньше соблюдал их предписания.
— Да, это неизбежно. '
— Значит, подобное состояние естественно для тех, кто причастен к рассуждениям, и, как я говорил прежде, такие люди вполне заслуживают сочувствия.
— И сожаления.
— Значит, чтобы люди тридцатилетнего возраста не вызывали у тебя подобного рода сожаления, надо со всевозможными предосторожностями приступать к рассуждениям.
— Несомненно.
ь — Разве не будет одной из постоянных мер предосторожности не допускать, чтобы вкус к рассуждениям появлялся смолоду? 22 Я думаю, от тебя не укрылось, что подростки, едва вкусив от таких рассуждений, злоупотребляют ими ради забавы, увлекаясь противоречиями и подражая тем, кто их опровергает, да и сами берутся опровергать других, испытывая удовольствие от того, что своими доводами они, словно щенки, тащат и рвут на части всех, кто им подвернется.
— Да, в этом они не знают удержу.
— После того как они сами опровергнут многих с и многие опровергнут их, они вскорости склоняются
к полному отрицанию прежних своих утверждений, а это опорочивает в глазах других людей и их самих да заодно и весь предмет философии.
— Совершенно верно.
— Ну а кто постарше, тот не захочет принимать участия в подобном бесчинстве; скорее он будет подражать человеку, желающему в беседе дойти до истины, чем тому, кто противоречит ради забавы, в шутку.
Он и сам будет сдержан, и занятие свое сделает почет- d ным, а не презренным.
— Правильно.
— Разве не относится к мерам предосторожности все то, о чем мы говорили раньше: допускать к отвлеченным рассуждениям лишь упорядоченные и стойкие натуры, а не так, как теперь, когда за это берется кто попало, в том числе совсем неподходящие люди?
— Конечно, это необходимая мера.
— В сравнении с тем, кто развивает свое тело путем гимнастических упражнений, будет ли достаточен вдвое больший срок для овладения искусством рассуждать, если постоянно и напряженно заниматься лишь этим?
— Ты имеешь в виду шесть лет или четыре года? о
— Это неважно. Пусть даже пять. После этого они будут у тебя вынуждены вновь спуститься в ту пещеру 23, их надо будет заставить занять государственные должности — как военные, так и другие, подобающие молодым людям, пусть они никому не уступят и в опытности. Вдобавок надо на всем этом их проверить, устоят ли они перед разнообразными влияниями или же кое в чем поддадутся.
— Сколько времени ты на это отводишь? 540
— Пятнадцать лет. А когда им будет пятьдесят, то тех из них, кто уцелел и всячески отличился,— как на деле, так и в познаниях — пора будет привести к окончательной цели — заставить их устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец и упорядочить и государство, и частных лиц, ь а также самих себя — каждого в свой черед — на весь остаток своей жизни. Большую часть времени они станут проводить в философствовании, а когда наступит черед, будут трудиться над гражданским устройством, занимать государственные должности — не потому, что это нечто прекрасное, а потому, что так необходимо ради государства. Таким образом, они постоянно будут воспитывать людей, подобных им самим, и ставить их стражами государства взамен себя, а сами отойдут на Острова блаженных, чтобы там обитать. Государство на общественный счет соорудит им памятники и будет приносить жертвы как божествам, если это подтвердит с Пифия, а если нет, то как счастливым и божественным людям.
— Ты, Сократ, словно ваятель, прекрасно завершил лепку созданных тобою правителей.
— И прайительниц, Главкон; все, что я говорил, касается женщин ничуть не меньше, чем мужчин, правда, конечно, тех женщин, у которых есть на то природные способности.
— Это верно, раз женщины будут во всем участвовать наравне с мужчинами, как мы говорили.
d — Что же? Вы согласны, что относительно государства и его устройства мы высказали совсем не пустые пожелания? Конечно, все это трудно, однако как-то возможно, притом не иначе, чем было сказано: когда властителями в государстве станут подлинные философы, будет ли их несколько или хотя бы один, нынешними почестями они пренебрегут, считая их низменны- е ми и ничего не стоящими, и будут высоко ценить порядочность и ту честь, что с нею связана, но самым великим и необходимым будут считать справедливость; служа ей и умножая ее, устроят они свое государство.
— Но как именно?
— Всех, кому в городе больше десяти лет, они ото- 541 шлют в деревню, а остальных детей, оградив их от воздействия современных нравов, свойственных родителям, воспитают на свой лад, в тех законах, которые мы разобрали раньше. Таким-то вот образом всего легче и скорее установится тот государственный строй, о котором мы говорили, государство расцветет, а народ, у которого оно возникнет, достигнет блаженства и извлечет для себя великую пользу.
— Да, огромную. А как это могло бы произойти, ь если когда-нибудь осуществится, ты, Сократ, по-моему,
хорошо разъяснил.
— Значит, мы уже достаточно поговорили об этом государстве и о соответствующем ему человеке? Ведь ясно, каким он, по-нашему, должен быть. ,
— Да, ясно. И поставленный тобою вопрос, кажется мне, получил свое завершение.
— Пусть так. Мы с тобой уже согласились, Глав- 543 кон, что в образцово устроенном государстве жены должны быть общими, дети — тоже, да и все их воспитание будет общим; точно так же общими будут военные и мирные занятия, а царями надо всем этим должны быть наиболее отличившиеся в философии и
в военном деле.
— Да, мы в этом согласились.
— И договорились насчет того, что, как только ь будут назначены правители, они возьмут своих воинов
и расселят их по тем жилищам, о которых мы упоминали ранее; ни у кого не будет ничего собственного, но всё у всех общее. Кроме жилищ мы уже говорили, если ты помнишь, какое у них там будет имущество.
— Помню, мы держались взгляда, что никто не должен ничего приобретать, как это все делают теперь.
За охрану наши стражи, подвизающиеся в военном деле, будут получать от остальных граждан возна- с граждение в виде запаса продовольствия на год, а обязанностью их будет заботиться обо всем государстве.
— Ты правильно говоришь. Раз с этим у нас покончено, то, чтобы продолжить наш прежний путь, давай припомним, о чем у нас была речь перед тем, как мы уклонились в сторону.
— Нетрудно припомнить. Ты закончил свое рассуждение об устройстве государства примерно теми же словами, что и сейчас, а именно что ты считаешь хорошим рассмотренное нами тогда государство
и соответствующего ему человека, хотя мог бы указать а на государство еще более прекрасное и соответственно 544 на такого человека *. Раз подобное государственное устройство правильно, сказал ты, все остальные порочны.
Насколько помню, ты говорил, что имеется четыре вида порочного государственного устройства и что стоило бы в них разобраться, дабы увидеть их порочность воочию; то же самое, сказал ты, касается и соответствующих людей: их всех тоже стоит рассмотреть. Согласившись между собой, мы взяли бы самого лучшего человека и самого худшего и посмотрели бы, правда ли, что наилучший человек — самый счастливый, а наихудший — самый жалкий, или дело обстоит иначе. Когда ь я задал вопрос, о каких четырех видах государственного устройства ты говоришь, тут нас прервали Полемарх и Адимант, и ты вел с ними беседу, пока мы не подошли к этому вопросу.
—  Ты совершенно верно припомнил.
Ты совершенно верно припомнил.
— Так вот ты снова и займи, подобно борцу, то же самое положение2 и на тот же самый мой вопрос постарайся ответить так, как ты собирался тогда.
— Если только это в моих силах.
— А мне и в самом деле не терпится услышать, о каких это четырех видах государственного устройства ты говорил.
с — Услышишь, это нетрудно. Я говорю как раз о тех видах, которые пользуются известностью. Большинство одобряет критско-лакедемонское устройство 3. На втором месте, менее одобряемая, стоит олигархия 4: это государственное устройство, преисполненное множества зол. Из нее возникает отличная от нее демократия 5. Прославленная тирания6 отлична от них всех — это четвертое и крайнее заболевание государства. Может быть, у тебя есть какая-нибудь иная идея государственного устройства, которая ясно проявля- а лась бы в каком-либо виде? Ведь наследственная власть и приобретаемая за деньги царская власть, а также разные другие, подобные этим государственные устройства занимают среди указанных устройств какое- то промежуточное положение 7 и у варваров встречаются не реже, чем у эллинов.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|