
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Еще раз о местепризнакам замечаю, что мы всего 595 поэзии 21 страница
...как поденщик, работая в поле, Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный 1
и скорее терпеть что угодно, только бы не разделять представлений узников и не жить так, как они?
— Я-то думаю, он предпочтет вытерпеть все что о угодно, чем жить так.
— Обдумай еще и вот что: если бы такой человек опять спустился туда и сел бы на то же самое место, разве не были бы его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от света Солнца?
— Непременно убили бы.
—
 |
Так вот, дорогой мой Главкон, это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее: область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине,— это подъем души в область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль — коль скоро ты стремишься ее узнать, — а уж богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага — это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама — владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни.
— Я согласен с тобой, насколько мне это доступно.
— Тогда будь со мной заодно еще вот в чем: не удивляйся, что пришедшие ко всему этому не хотят заниматься человеческими делами; их души всегда стремятся ввысь. Да это и естественно, поскольку соответствует нарисованной выше картине.
— Да, естественно.

 — Что же? А удивительно разве, по- твоему, если кто-нибудь, перейдя от божественных созерцаний к человеческому убожеству, выглядит неважно и кажется крайне смешным? Зрение еще не привыкло, а между тем, прежде чем он привыкнет к окружающему мраку, его заставляют выступать на суде или еще где-нибудь и
— Что же? А удивительно разве, по- твоему, если кто-нибудь, перейдя от божественных созерцаний к человеческому убожеству, выглядит неважно и кажется крайне смешным? Зрение еще не привыкло, а между тем, прежде чем он привыкнет к окружающему мраку, его заставляют выступать на суде или еще где-нибудь и
сражаться по поводу теней справедливости или изображений, отбрасывающих эти тени, так что приходится спорить о них в том духе, как это воспринимают люди, в никогда не видавшие самое справедливость.
— Да, в этом нет ничего удивительного.
— Всякий, кто соображает, вспомнил бы, что есть 518 два рода нарушения зрения, то есть [оно нарушается]
по двум причинам: либо когда переходят из света в темноту, либо из темноты — на свет. То же самое происходит и с душой; это можно понять, видя, как иногда душа находится в замешательстве и не способна что-либо разглядеть. Вместо того чтобы бессмысленно смеяться, лучше понаблюдать, пришла ли эта душа из более светлой жизни и потому с непривычки омрачилась, или же, наоборот, перейдя от полного невежества к светлой жизни, она ослеплена ярким сиянием: такое ее состоя- ь ние и такую жизнь можно счесть блаженством, той же, первой, посочувствовать2. Если же при взгляде на нее кого-то все-таки разбирает смех, пусть он меньше смеется над ней, чем над той, что явилась сверху, из света.
— Ты очень правильно говоришь.
— Раз это верно, вот как должны мы думать об этих душах: просвещенность — это совсем не то, что утверждают о ней некоторые лица, заявляющие, будто в душе у человека нет знания и они его туда вкладывают, с вроде того как вложили бы в слепые глаза зрение.
— Верно, они так утверждают.
— А это наше рассуждение показывает, что у каж
дого в душе есть такая способность; есть у души и орудие, помогающее каждому обучиться. Но как глазу невозможно повернуться от мрака к свету иначе чем вместе со всем телом, так же нужно отвратиться всей душой ото всего становящегося: тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в нем всего ярче, а это, как мы утверждаем, и есть благо. Не правда ли? а
 — Как раз здесь и могло бы проявиться искусство обращения: каким образом всего легче и действеннее можно обратить человека. Это вовсе не значит вложить в него способность видеть — она у него уже имеется, но неверно направлена, и он смотрит не туда, куда надо. Вот здесь-то и надо
— Как раз здесь и могло бы проявиться искусство обращения: каким образом всего легче и действеннее можно обратить человека. Это вовсе не значит вложить в него способность видеть — она у него уже имеется, но неверно направлена, и он смотрит не туда, куда надо. Вот здесь-то и надо
ПРИЛОЖИТЬ СИЛЫ. лад
— Видимо, так.
— Некоторые положительные свойства, относимые к душе, очень близки, пожалуй, к таким же свойствам
е тела; в самом деле, у человека сперва их может и не быть, они развиваются позднее путем упражнения и входят в привычку. Но способность понимания, как видно, гораздо более божественного происхождения; она никогда не теряет своей силы, но в зависимости от направленности бывает то полезной и пригодной, то непригодной 519 и даже вредной. Разве ты не замечал у тех, кого называют хотя и дурными людьми, но умными, как проницательна их душонка и как они насквозь видят то, что им надо? Значит, зрение у них неплохое, но оно вынуждено служить их порочности, и, чем острее они видят, тем больше совершают зла.
— Конечно, я это замечал.
— Однако если сразу же, еще в детстве, пресечь природные наклонности такой натуры, которые, словно
ь свинцовые грузила, влекут ее к обжорству и различным другим наслаждениям и направляют взор души вниз, то, освободившись от всего этого, душа обратилась бы к истине, и те же самые люди стали бы различать там все так же остро, как теперь в том, на что направлен их взор.
— Это естественно.
 — Что же? А разве естественно и неизбежно не вытекает из сказанного раньше следующее: для управления государством не годятся как люди непросвещенные и не сведущие в
— Что же? А разве естественно и неизбежно не вытекает из сказанного раньше следующее: для управления государством не годятся как люди непросвещенные и не сведущие в
истине, так и те, кому всю жизнь предоставлено заниматься самоусовершенствованием, — первые потому, что в их жизни нет единой цели, стремясь к которой они должны были бы действовать, что бы они ни совершали в частной или общественной жизни, а вторые потому, что по доброй воле они не станут действовать, полагая, что уже при жизни переселились на Острова блаженных 3.
— Это верно.
— Раз мы — основатели государства, нашим делом будет заставлять лучшие натуры учиться тому познанию, которое мы раньше назвали самым высоким, то есть умению видеть благо и совершать к нему восхожде-
d ние; но когда, высоко поднявшись, они в достаточной мере его узрят, мы не позволим им того, что в наше время им разрешается.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы не позволим им оставаться там, на вершине, из нежелания спуститься снова к тем узникам 4, и, худо ли бедно ли, они должны будут разделить с ними труды их и почести.
— Выходит, мы будем несправедливы к этим выдающимся людям и из-за нас они будут жить хуже, чем могли бы.
— Ты опять забыл, мой друг, что закон ставит о своей целью не благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но благо всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он сплоченность всех граждан, делая так, чтобы они были друг другу взаимно полезны в той мере, в какой они вообще могут быть полезны для 520 всего общества. Выдающихся людей он включает в государство не для того, чтобы предоставить им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства.
— Правда, я позабыл об этом.
— Заметь, Главкон, что мы не будем несправедливы к тем, кто становится у нас философами, напротив, мы предъявим к ним лишь справедливое требование, заставляя их заботиться о других и стоять на страже их интересов. Мы скажем им так: «Во всех других государствах ь люди, обратившиеся к философии, вправе не принимать участия в государственных делах, потому что люди сделались такими сами собой, вопреки государственному строю, а то, что вырастает само собой, никому не обязано своим питанием и не должно стремиться возместить расходы. А вас родили мы для вас же самих и для остальных граждан, подобно тому как у пчел среди их роя бывают вожди и цари. Вы воспитаны лучше и совершеннее, чем те философы, и более их способны заниматься и тем
и другим. Поэтому вы должны, каждый в свой черед, с спускаться в обитель прочих людей и привыкать созерцать темные стороны жизни. Привыкнув, вы в тысячу раз лучше, чем живущие там, разглядите и распознаете, что представляет собой каждая тень и образ чего она есть, так как вы уже раньше лицезрели правду относительно всего прекрасного, справедливого и доброго. Тогда государство будет у нас с вами устроено уже наяву, а не во сне, как это происходит сейчас в большинстве государств, где идут междоусобные войны и призрачные сражения за власть, — будто это какое-то великое благо, d По правде же дело обстоит вот как: где всего менее стре-
мятся к власти те, кому предстоит править, там государство управляется лучше всего и распри отсутствуют полностью; совсем иначе бывает в государстве, где правящие настроены противоположным образом.
— Безусловно.
— А ты не думаешь, что наши питомцы, слыша это, выйдут из нашего повиновения и не пожелают трудиться, каждый в свой черед, вместе с гражданами, а предпочтут все время пребывать друг с другом в области чистого [бытия]?5
е — Этого не может быть, потому что мы обращаемся к людям справедливым с нашим справедливым требованием. Но во всяком случае каждый из них пойдет управлять только потому, что это необходимо,— в полную противоположность современным правителям в любом государстве.
— Так уж обстоит дело, дорогой мой. Если ты най- 521 дешь для тех, кому предстоит править, лучший образ
жизни, чем обладание властью, тогда у тебя может осуществиться государство с хорошим государственным строем. Ведь только в таком государстве будут править те, кто на самом деле богат — не золотом, а тем, чем должен быть богат счастливый: добродетельной и разумной жизнью. Если же бедные и неимущие добиваются доступа к общественным благам, рассчитывая урвать себе оттуда кусок, тогда не быть добру: власть становится чем- то таким, что можно оспаривать, и подобного рода домашняя, внутренняя война губит и участвующих в ней, и остальных граждан.
— Совершенно верно.
ь — А можешь ты назвать какой-нибудь еще образ жизни, выражающий презрение к государственным должностям, кроме того, что посвящен истинной философии?
— Клянусь Зевсом, нет.
— Однако не следует, чтобы к власти приходили те, кто прямо-таки в нее влюблен. А то с ними будут сражаться соперники в этой любви.
— Несомненно.
— Кого же иного заставишь ты встать на страже государства, как не тех, кто вполне сведущ в деле наилучшего государственного правления, а вместе с тем имеет и другие достоинства и ведет жизнь более добродетельную, чем государственные деятели?
— Никого.
— Хочешь* рассмотрим, каким образом получаются такие люди и с помощью чего можно вывести их наверх, к свету, подобно тому, как, по преданию, некоторые поднялись из Аида к богам?
— Очень хочу!
— Но ведь это не то же самое, что перевернуть черепок 6; тут надо душу повернуть от некоего сумеречного дня к истинному дню бытия; такое восхождение мы, верно, назовем стремлением к мудрости.
— Конечно.
— Не следует ли нам рассмотреть, какого рода познание способствует этому?
— Да, это надо сделать.
— Так какое же познание, Глав-
Разделы наук, кон, могло бы увлечь душу от станов- ления к бытию? Но чуть только я за-
НЯ ДОЗнл пИС
чистого бытия Дал этот вопрос, мне вот что пришло на ум: разве мы не говорили, что [будущие философы] непременно должны в свои юные годы основательно знакомиться с военным делом?
— Говорили.
— Значит, то познание, которое мы ищем, должно дополняться еще и этим.
— То есть чем?
— Оно не должно быть бесполезным для воинов.
— Конечно, не должно, если только это возможно.
— Как мы уже говорили раньше, их воспитанию служат у нас гимнастические упражнения и мусическое искусство.
— Да, это у нас уже было.
— Между тем гимнастика направлена на то, что может как возникать, так и исчезать, — ведь от нее зависит, прибавляется ли или убавляется крепость тела.
— Понятно.
— А ведь это совсем не то, искомое, познание.
— Нет, не то.
— Но быть может, таково мусическое искусство, которое мы разобрали раньше?
— Но именно оно, если ты помнишь,— сказал Глав- кон,— служило как бы противовесом гимнастике, ведь оно воспитывает нравы стражей: гармония делает их уравновешенными, хоть и не сообщает им знания, а ритм сообщает их действиям последовательность. В речах их также оказываются родственные этим свойства мусиче- ского искусства, будь то в произведениях вымышленных
или более близких к правде. Но познания, ведущего к
ь тому благу, которое ты теперь ищешь, в мусическом искусстве нет вовсе.
— Как это удачно ты мне напомнил: действительно, ничего такого в нем нет, как мы говорили. Но, милый Главной, в чем могло бы оно содержаться? Ведь все искусства оказались грубоватыми.
— Конечно. Какое же еще остается познание, если отпадают и мусическое искусство, и гимнастика, и все остальные искусства?
— Погоди-ка. Если, кроме них, мы уже ничем не располагаем, давай возьмем то, что распространяется на них всех.
— Что же это такое?
с — Да то общее, чем пользуется любое искусство, а также рассудок и знания, то, что каждый человек должен узнать прежде всего.
— Что же это?
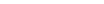 — Да пустяк: надо различать, что такое один, два и три. В общем я называю это числом и счетом. Разве не так обстоит дело, что любое искусство и знание вынуждено приобщаться к нему?
— Да пустяк: надо различать, что такое один, два и три. В общем я называю это числом и счетом. Разве не так обстоит дело, что любое искусство и знание вынуждено приобщаться к нему?
— Да, именно так.
— А военное дело?
— И для него это совершенно неизбежно.
а — Презабавным же полководцем выставляет Агамемнона Паламед в трагедиях! Обратил ли ты внимание, что Паламед — изобретатель чисел — говорит там про себя, что это именно он распределил по отрядам войско под Илионом, произвел подсчет кораблей и всего прочего, как будто до того они не были сосчитаны? Видно, Агамемнон не знал даже, сколько у него самого ног, раз он не умел считать! 7 Каким уж там полководцем может он быть, по-твоему?
— Нелепым, если только это действительно было так.
о — Признаем ли мы необходимой для полководца эту науку, то есть чтобы он умел вычислять и считать?
— Это крайне необходимо, если он хочет хоть что- нибудь понимать в воинском деле, более того, если он вообще хочет быть человеком.
— Но замечаешь ли ты в этой науке то же, что и я?
— А именно?
— По своей природе она относится, пожалуй, 523 к тому, что ведет человека к размышлению, то есть к тому, что мы с тобой ищем, но только никто не пользуется ею действительно как наукой, увлекающей нас к бытию.
— Что ты имеешь в виду?
— Попытаюсь объяснить свою мысль. Но как я для самого себя устанавливаю различие между тем, что ведет нас к предмету нашего обсуждения, а что нет, это ты посмотри вместе со мной, говоря прямо, с чем ты согласен, а с чем нет, чтобы мы могли таким образом яснее разглядеть, верны ли мои догадки.
— Так указывай же мне путь.
— Я указываю, а ты смотри. Кое-что в наших восприятиях не побуждает наше мышление к дальнейшему ь исследованию, потому что достаточно определяется самим ощущением; но кое-что решительно требует такого исследования, поскольку ощущение не дает ничего надежного.
— Ясно, что ты говоришь о предметах, видных издалека, как бы в смутной дымке.
— Не очень-то ты схватил мою мысль!
— Но о чем же ты говоришь?
— Не побуждает к исследованию то, что не вызывает одновременно противоположного ощущения, а то, что с вызывает такое ощущение, я считаю побуждающим к исследованию, поскольку ощущение обнаруживает одно нисколько не больше, чем другое, ему противоположное, все равно, относится ли это ощущение к предметам, находящимся вблизи или к далеким. Ты поймешь это яснее на следующем примере: вот, скажем, три пальца — мизинец, безымянный и средний...
— Ну да.
— Считай, что я говорю о них как о предметах, рассматриваемых вблизи, но обрати здесь внимание вот на что...
— На что же?
— Каждый из них одинаково является пальцем —
в этом отношении между ними нет никакой разницы, а все равно, находится ли он с краю или посредине, белый ли он или черный, толстый или тонкий и так далее. Во всем этом душа большинства людей не бывает вынуждена обращаться к мышлению с вопросом: «А что это, собственно, такое — палец?», потому что зрение никогда
не показывало ей, что палец одновременно есть и нечто противоположное пальцу.
— Конечно, не показывало.
— Так что здесь это, естественно, не побуждает к е размышлению и не вызывает его.
— Естественно.
— Далее. А большую или меньшую величину пальцев разве можно в достаточной мере определить на глаз и разве для зрения не безразлично, какой палец находится посредине, а какой с краю? А на ощупь можно ли в точности определить, толстый ли палец, тонкий ли, мягкий или жесткий? Да и остальные ощущения разве не
524 слабо обнаруживают все это? С каждым из них не так ли бывает: ощущение, назначенное определять жесткость, вынуждено приняться и за определение мягкости и потому извещает душу, что одна и та же вещь ощущается им и как жесткая, и как мягкая.
— Да, так бывает.
— В подобных случаях душа в свою очередь недоумевает, что обозначено этим ощущением как жесткое, когда та же самая вещь названа им мягкой. То же самое и при ощущении легкого и тяжелого: душа не понимает, легкая это вещь или тяжелая, если восприятие обозначает тяжелое как легкое, а легкое как тяжелое.
ь — Такие сообщения странны для души и нуждаются в рассмотрении.
 Рассуждение
Рассуждение
и размышление
как путь познания
чистого бытия
— Да.
— Если каждый из них один, а вместе их два, то эти два будут в мышлении разделены, ибо, если два
с не разделены, они мыслятся уже не как два, а как одно.
— Верно.
— Ведь зрение, утверждаем мы, воспринимает большое и малое не раздельно, а как нечто слитное, не правда ли?
— Да.
— Для выяснения этого мышление в свою очередь вынуждено рассмотреть большое и малое, но не в их слитности, а в их раздельности: тут полная противоположность зрению.
— Это верно.
— Так вот, не из-за этого ли и возникает у нас прежде всего вопрос: что же это, собственно, такое — большое и малое?
— Именно из-за этого.
— И таким образом, одно мы называем умопостигаемым, а другое — зримым.
— Совершенно верно. d
— Так вот как раз это я и пытался теперь сказать: кое-что побуждает рассудок к деятельности, а кое-что — нет. То, что воздействует на ощущения одновременно со своей противоположностью, я определил как побуждающее, а что таким образом не воздействует, то и не будит мысль.
— Теперь я уже понял, и мне тоже кажется, что это так.
— Далее. К какому из этих двух разрядов относятся единица и число?
— Не соображу.
— А ты сделай вывод из сказанного ранее. Если нечто единичное достаточно хорошо постигается само по себе, будь то зрением, будь то каким-либо иным чувством, то не возникает стремления выяснить его сущность, е как я это показал на примере с пальцем. Если же в нем постоянно обнаруживается и какая-то противоположность, так что оно оказывается единицей не более чем ее противоположностью, тогда требуется уже какое-либо суждение; в этом случае душа вынуждена недоумевать, искать, будоражить в самой себе мысль и задавать себе вопрос: что же это такое — единица сама по себе? Таким-то образом познание этой единицы вело бы и побуж- 525 дало к созерцанию бытия 8.
— Но конечно,— сказал Главкон,—
Созерцание не меньше эт0 наблюдается и в том
тождественного
случае, когда мы созерцаем тождественное: одно и то же мы видим и как единое, и как бесконечное множество.
— Раз так бывает с единицей, не то же ли самое и со всяким числом вообще? — спросил я.
— Как же иначе?
 |  |
какой вы ее считаете, то есть всякая единица равна всякой единице, ничуть от нее не отличается и не имеет в себе никаких частей?» — как ты думаешь, что они ответят?
— Да, по-моему, что они говорят о таких числах, которые допустимо лишь мыслить, а иначе с ними никак нельзя обращаться 9.
— Вот ты и видишь, мой друг, что нам и в самом деле необходима эта наука, раз оказывается, что она ь заставляет душу пользоваться самим мышлением ради самой истины.
— И как умело она это делает!
— Что же? Приходилось ли тебе наблюдать, как люди с природными способностями к счету бывают восприимчивы, можно сказать, ко всем наукам? Даже все те, кто туго соображают, если они обучаются этому и упражняются, то, хотя бы они не извлекали из этого для себя никакой иной пользы, все же становятся более восприимчивыми, чем были раньше.
— Да, это так.
— Право, я думаю, ты нелегко и не много найдешь с таких предметов, которые представляли бы для обучающегося, даже усердного, больше трудностей, чем этот.
— Конечно, не найду.
— И ради всего этого нельзя оставлять в стороне такую науку, напротив, именно с ее помощью надо воспитывать людей, имеющих прекрасные природные задатки.
— Я с тобой согласен.
— Стало быть, пусть это будет у нас первая наука. Рассмотрим же и вторую, связанную, впрочем, с первой: подходит ли она нам?
— Какая именно? Или ты говоришь о геометрии?
— Да, именно.
— Поскольку она применяется в d Геометрия военном деле, ясно, что подходит,— сказал Главной.— При устройстве лагерей, занятии местностей, при стягивании и развертывании войск и разных других военных построениях как во время сражения, так и в походах, конечно, скажется разница между знатоком геометрии и тем, кто ее не знает.
— Но для этого было бы достаточно какой-то незначительной части геометрии и счета. Надо, однако, рассмотреть преобладающую ее часть, имеющую более широкое применение: направлена ли она к нашей цели, е
помогает ли она нам созерцать идею блага? Да, помогает, отвечаем мы, душе человека обратиться к той области, в которой заключено величайшее блаженство бытия — а ведь это-то ей и должно увидеть любым способом.
— Ты прав.
— Значит, если геометрия заставляет созерцать бытие, она нам годится, если же становление — тогда нет.
— Действительно, мы так утверждаем.
527 — Но кто хоть немного знает толк в геометрии, не
будет оспаривать, что наука эта полностью противоположна тем словесным выражениям, которые в ходу у занимающихся ею.
— То есть?
— Они выражаются как-то очень забавно и принужденно. Словно они заняты практическим делом и имеют в виду интересы этого дела, они употребляют выражения «построим» четырехугольник, «проведем» линию, «произведем наложение» и так далее, все это так и сыплется
ь из их уст. А между тем это ведь наука, которой занимаются ради познания.
— Разумеется.
— Не оговорить ли нам еще вот что...
— А именно?
— Это наука, которой занимаются ради познания вечного бытия, а не того, что возникает и гибнет.
— Хорошая оговорка: действительно, геометрия — это познание вечного бытия.
— Значит, милый мой, она влечет душу к истине и воздействует на философскую мысль, стремя ее ввысь, между тем как теперь она у нас низменна вопреки должному.
— Да, геометрия очень даже на это воздействует, с — Значит, надо по возможности строже предписать,
чтобы граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное ее применение.
— Какое?
— То, о чем ты говорил — в военном деле, да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между человеком, причастным к геометрии и непричастным.
— Бесконечная, клянусь Зевсом!
— Так примем это как второй предмет изучения для наших юношей? 10
— Примем.
— Что же? Третьим предметом будет Астрономия у нас асхр0Н0МЙЯ? как по-твоему?
— По-моему, да, потому что внимательные наблюдения за сменой времен года, месяцев и лет пригодны не только для земледелия и мореплавания, но не меньше и для руководства военными действиями.
—  Это у тебя приятная черта: ты, видно, боишься, как бы большинству не показалось, будто ты предписываешь бесполезные науки. Между тем вот что очень важно, хотя поверить этому трудно: в науках этих очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека, которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем сохранить его в целости более ценно, чем иметь тысячу глаз, ведь только при его помощи можно увидеть истину. Кто с этим соглаеен, тот решит, что ты говоришь удивительно хорошо, а кто этого никак не ощущает, тот, естественно, будет думать, будто ты несешь вздор, от которого, по их мнению, нет никакой пользы и нет в нем ничего заслуживающего упоминания. Так вот, ты сразу же учти, с каким из этих двух разрядов людей ты беседуешь. Или, может быть, ни с тем ни с другим, но главным образом ради себя самого берешься ты за исследования? Но и тогда ты не должен иметь ничего против, если кто-нибудь другой сумеет извлечь из них для себя пользу.
Это у тебя приятная черта: ты, видно, боишься, как бы большинству не показалось, будто ты предписываешь бесполезные науки. Между тем вот что очень важно, хотя поверить этому трудно: в науках этих очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека, которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем сохранить его в целости более ценно, чем иметь тысячу глаз, ведь только при его помощи можно увидеть истину. Кто с этим соглаеен, тот решит, что ты говоришь удивительно хорошо, а кто этого никак не ощущает, тот, естественно, будет думать, будто ты несешь вздор, от которого, по их мнению, нет никакой пользы и нет в нем ничего заслуживающего упоминания. Так вот, ты сразу же учти, с каким из этих двух разрядов людей ты беседуешь. Или, может быть, ни с тем ни с другим, но главным образом ради себя самого берешься ты за исследования? Но и тогда ты не должен иметь ничего против, если кто-нибудь другой сумеет извлечь из них для себя пользу.
— Чаще всего я люблю рассуждать вот так, посредством вопросов и ответов, но для самого себя.
— В таком случае дай задний ход11, потому что мы сейчас неверно назначили следующий после геометрии предмет.
— В чем же мы ошиблись?
— После плоскостей мы взялись за объемные тела, находящиеся в движении, а надо бы раньше изучить их самих по себе, ведь правильнее было бы после второго измерения рассмотреть третье: оно касается кубов и всего того, что имеет глубину 12.
— Это так, Сократ, но здесь, кажется, ничего еще не открыли.
— Причина тут двоякая: нет такого государства, где наука эта была бы в почете, а исследуют ее слабо, так как она трудна. Исследователи нуждаются в руководителе, без него им не сделать открытий. Прежде всего
трудно ожидать, чтобы такой руководитель появился, а если даже он и появится, то при нынешнем положении вещей те, кто исследует эти вещи, не стали бы его слушать, так как они слишком высокого мнения о себе. Если бы все государство в целом уважало такие занятия и содействовало им, исследователи подчинились бы, и их непрерывные усиленные поиски раскрыли бы свойства изучаемого предмета. Ведь даже и теперь, когда большинство не оказывает почета этим занятиям и препятствует им, да и сами исследователи не отдают себе отчета в их полезности, они все же вопреки всему этому развиваются, настолько они привлекательны. Поэтому неудивительно, что наука эта появилась на свет.
— Действительно, в ней очень много привлекательного. Но скажи мне яснее о том, что ты только что говорил: изучение всего плоскостного ты отнес к геометрии?
— Да.
— А после нее ты взялся за астрономию, но потом отступился.
— Я так спешил поскорее все разобрать, что от этого все получилось медленнее. Далее по порядку шла наука об измерении глубины, но, так как с ее изучением дело обстоит до смешного плохо, я перескочил через нее и после геометрии заговорил об астрономии, то есть о вращении тел, имеющих глубину.
— Ты правильно говоришь.
— Итак, четвертым предметом познания мы назовем астрономию, в настоящее время она как-то забыта, но она воспрянет, если ею займется государство.
— Естественно. Ты недавно упрекнул меня, Сократ, в том, что моя похвала астрономии была пошлой, так вот, теперь я произнесу ей похвалу в твоем духе: ведь, по-моему, всякому ясно, что она заставляет душу взирать ввысь и ведет ее туда, прочь ото всего здешнего.
— Возможно, что всякому это ясно, кроме меня, мне-то кажется, что это не так.
— А как же?
— Если заниматься астрономией таким образом, как те, кто возводит ее до степени философии, то она даже слишком обращает наши взоры вниз.
— Что ты имеешь в виду?
— Великолепно ты, по-моему, сам для себя решил, что такое наука о вышнем. Пожалуй, ты еще скажешь, будто если кто-нибудь, запрокинув голову, разглядывает узоры на потолке и при этом кое-что распознает, то он
видит это при помощи мышления, а не глазами. Возможно, ты думаешь правильно, я-то ведь простоват и потому не могу считать, что взирать ввысь нашу душу заставляет какая-либо иная наука, кроме той, что изучает бытие и незримое. Глядит ли кто, разинув рот, вверх или же, прищурившись, вниз, когда пытается с помощью ощущений что-либо распознать, все равно, утверждаю я, он никогда этого не постигнет, потому что для подобного рода вещей не существует познания и душа человека при с этом смотрит не вверх, а вниз, хотя бы он даже лежал навзничь на земле или плыл по морю на спине.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|