
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Еще раз о местепризнакам замечаю, что мы всего 595 поэзии 15 страница
— И даже очень.
— И что с этим дело обстоит именно так, узнать нисколько не трудно.
— Да, нисколько.
— Трудно же узнать вот что: вызываются ли наши действия одним и тем же свойством или, поскольку этих свойств три, каждое из них вызывает особое действие? Познаем мы посредством одного из имеющихся в нас свойств, а гнев обусловлен другим, третье же свойство заставляет нас стремиться к удовольствию от еды, деторождения и всего того, что этому родственно.
ь Или когда у нас появляются такие побуждения, в каждом из этих случаев наши действия вызываются всей нашей душой в целом? Вот что трудно определить так, как того заслуживает этот предмет.
— По-моему, тоже.
— Попытаемся следующим образом определить, тождественны ли эти свойства, или же между ними есть различие...
— Как же мы станем определять?
— Очевидно, тождественное не способно одновре
менно совершать или испытывать противоположные в одном и том же отношении действия. Поэтому, если мы заметим, что здесь это наблюдается, мы будем знать, что перед нами не одно и то же, а многое. с
— Пусть так.
— Смотри же, к чему я веду.
— Говори.
— Может ли одно и то же в одном и том же отношении одновременно стоять и двигаться?
— Никоим образом.
— Давай условимся поточнее, чтобы впредь не было недоразумений. Если о том, кто стоит, но двигает руками и головой, скажут, что вот человек и стоит, и вместе с тем движется, мы, я думаю, не согласились бы, что сл^ует так говорить, тут надо бы сказать, что одно у него непо- а движно, а другое движется. Не так ли?
— Так.
— Но тот, кто так говорит, привел бы шутливый и еще более остроумный пример: волчок весь целиком стоит и одновременно движется — он вращается, но острие его упирается в одно место. Можно привести и другие примеры предметов, совершающих круговращение, не меняя места. Но мы отбросим все это, потому что в этих случаях предметы пребывают на месте и дви- о жутся не в одном и том же отношении. Мы сказали бы, что у них имеется прямизна и округлость: в прямом направлении они стоят, ни в какую сторону не отклоняясь,
а по кругу они вращаются. Когда же при сохранении вращательного движения прямое направление смещается вправо или влево, вперед или назад, тогда уж никак нельзя говорить, что эти предметы стоят.
— Это верно.
— Следовательно, ни один из приводимых примеров не смутит нас и не переубедит, будто что-нибудь, оставаясь самим собой, станет вдруг одновременно испытывать или совершать действие, противоположное своей 437 тождественности или направленное против нее |7.
— Меня-то в этом не убедят.
— Но все же, чтобы нам не пришлось разбирать
всевозможные недоумения подобного рода и длинно доказывать их неправомерность, давай допустим, что все это так, и двинемся дальше, условившись, что если когда-либо дело обернется иначе, то отпадут и все следствия, выведенные нами из этого положения.
—■ Да, так надо сделать.
— Далее: кивать в знак согласия и отрицательно качать головой; стремиться получить что-нибудь и отклонять то же самое; привлекать к себе и отталкивать (ведь все эти случаи подобны) — всё это разве ты не примешь за противоположные друг другу действия или состояния?
— Конечно, они противоположны.
— И еще дальше: испытывать жажду и голод и вообще вожделения, а также желать, хотеть — все это разве ты не отнесешь к тем видам, о которых у нас только что была речь? Разве ты не скажешь, например, что душа вожделеющего человека стремится к предмету своего вожделения или что она привлекает к себе то, чем хочет обладать? Или другой пример: не скажешь ли ты, что, поскольку ей хочется получить что-нибудь, она кивает в знак одобрения сама себе, словно ее об этом спрашивают, и стремится осуществит^ свое желание?
— Да, я скажу именно так.
— Что же дальше? «Не хотеть», «не желать», «не вожделеть» — разве мы не отнесем все это к тому же [виду], что и «отталкивать», «не принимать душой», то есть ко всему противоположному?
— Конечно.
— Раз это так, то не скажем ли мы, что существует некий вид вожделений и самые упорные из них те, что мы называем жаждой и голодом?
— Да, скажем.
— Первое — это, не правда ли, желание пить, а второе — желание есть?
— Да.
— Поскольку первое — это жажда, то возникает ли в душе человека еще и дополнительное желание, кроме нами указанного? Иначе говоря, будет ли это желанием пить непременно горячее или холодное, много или мало — словом, пить какой-нибудь определенный напиток? Если человеку жарко, не прибавится ли к его жажде желание чего-нибудь холодного, а если ему холодно, то — горячего? Если налицо большой выбор напитков, жажда принимает различные оттенки: начинают желать
многого; если же это просто жажда, то — немногого. Но жажда сама по себе никогда не будет вожделением к чему-нибудь другому, кроме естественного желания пить, а голод сам по себе — кроме естественного желания есть.
— Таким образом,— сказал он,— каждое вожделение само по себе направлено лишь на то, что в каждом отдельном случае отвечает его природе. Вожделение же к такому-то и такому-то качеству — это нечто привходящее.
— Однако как бы кто-нибудь, воспользовавшись 438 нашей неосмотрительностью, не смутил нас, указав, что никто не желает просто питья, но обязательно пригодного питья, и не просто пищи, но пригодной пищи. Ведь все вожделеют именно хорошего. Раз жажда есть вожделение, она должна быть желанием пригодного питья или чего бы то ни было другого, на что направлено вожделение. Так же и во всем остальном.
— Пожалуй, это было бы дельным возражением.
— Но оно касается лишь тех вещей, которые берутся в соотношении с чем-нибудь: у них такие-то ка- ь чества, потому что такие-то качества у того, с чем их соотносят, а сами по себе они соотносятся лишь с самими собой.
— Я не понял.
— Ты не понял, что большее будет таким потому, что оно больше чего-нибудь?
— Это, конечно, понятно.
— Не того ли, что меньше?
— Да.
— А то, что много больше, — того, что много меньше.
Не так ли?
— Да.
— И некогда бывшее большим — некогда бывшего меньшим? И будущее большим — будущего меньшим?
— Но как же иначе?
— И многое будет многим лишь по отношению с К малому, двойное — к половинному и так далее; опять-таки и более тяжелое — по отношению к более легкому, более быстрое — к более медленному, горячее — к холодному и так же все остальное, подобное этому. Или не так?
— Конечно, так.
— А что сказать о наших знаниях? Не то же ли и там? Знание само по себе соотносится с самим изучае-
мым предметом, знание какого бы предмета мы ни взяли: оно таково потому, что оно относится к такому-то а и такому-то предмету. Я имею в виду вот что: когда научились строить дома, это знание выделилось из остальных, поэтому его назвали строительным делом.
— Так что же?
— Значит, его так прозвали за то, что ни одно из остальных знаний на него не похоже.
— Да.
— Какие качества имеет предмет знания, таким становится и само знание. То же и со всеми прочими знаниями и искусствами.
— Это так.
— Вот и считай, что я тогда как раз это и хотел сказать, если теперь ты понял, что значит качественное соотношение вещей: сами по себе они соотносятся только с самими собой, взятые же в соотношении с другими вещами, они принимают качества этих вещей. Но
е я не хочу этим сказать, что они имеют сходство с тем, с чем соотносятся, например будто знание здоровья и болезней становится от этого здоровым или болезненным, а знание зла и блага — плохим или хорошим. Знание не становится тем же, что его предмет, оно соотносится со свойствами предмета — в данном случае со свойством здоровья или болезненности,— и это свойство его определяет. Это и заставляет называть такое знание не просто знанием, но искусством врачевания — по его привходящему свойству.
— Я понял, и, по-моему, дело обстоит именно так.
439 — Ну, а жажду разве не отнесешь ты к таким вещам,
которые в том, что они есть, соотносятся с чем-то другим? В данном случае — как жажда?
— Да, я взял бы ее в ее отношении к питью.
— То есть к определенному питью относится определенная жажда, сама же по себе она не направлена ни на обильное питье, ни на малое, ни на хорошее, ни на плохое — одним словом, ни на какое качество: жажда сама по себе естественно соотносится только с питьем как таковым.
— Безусловно.
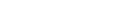 — Значит, у человека, испытывающего жажду, поскольку он ее испытывает, душа хочет не чего иного, как пить,— к этому она стремится и порывается.
— Значит, у человека, испытывающего жажду, поскольку он ее испытывает, душа хочет не чего иного, как пить,— к этому она стремится и порывается.
— Очевидно.
— И если, несмотря на то что она испытывает жажду, ее все-таки что-то удерживает, значит, в ней есть нечто отличное от вожделеющего начала, побуждающего ее, словно зверя, к тому, чтобы пить. Ведь мы утверждаем, что одна и та же вещь не может одновременно совершать противоположное в одной и той же своей части и в одном и том же отношении.
— Конечно, нет.
— Точно так же о том, кто стреляет из лука, было бы, думаю я, неудачно сказано, что его руки тянут лук одновременно к себе и от себя. Надо сказать: «Одна рука тянет к себе, а другая — от себя».
— Совершенно верно. с
— Можем ли мы сказать, что люди, испытывающие жажду, иной раз все же отказываются пить?
— Даже очень многие и весьма часто.
— Что же можно о них сказать? Что в душе их присутствует нечто побуждающее их пить, но есть и то, что пить запрещает, и оно-то и берет верх над побуждающим началом?
— По-моему, так.
— И не правда ли, то, что запрещает это делать, появляется — если уж появляется — вследствие способ- d ности рассуждать, а то, что ведет к этому и влечет,— вследствие страданий и болезней?
— По-видимому.
— Мы не без основания признаем двойственными и отличными друг от друга эти начала: одно из них, с помощью которого человек способен рассуждать, мы назовем разумным началом души, а второе, из-за которого человек влюбляется, испытывает голод и жажду и бывает охвачен другими вожделениями, мы назовем началом неразумным и вожделеющим, близким другом всякого рода удовлетворения и наслаждений |8.
— Признать это было бы не только обоснованно, е но и естественно.
— Так пусть у нас будут разграничены эти два присущих душе вида. Что же касается ярости духа, отчего мы и бываем гневливы, то составляет ли это третий вид или вид этот однороден с одним из тех двух?
— Пожалуй, он однороден со вторым, то есть вожделеющим, видом.
— Мне как-то рассказывали, и я верю этому, что Леонтий, сын Аглайона, возвращаясь из Пирея, по до-
роге, снаружи под северной стеной, заметил, что там возле палача валяются трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе с тем было противно, и он отворачивался, а\о Но сколько он ни боролся и ни закрывался, вожделение оказалось сильнее — он подбежал к трупам, широко раскрывая глаза и восклицая: «Вот вам, злополучные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем!» 19
— Я и сам слышал об этом.
— Однако этот рассказ показывает, что гнев иной раз вступает в борьбу с вожделениями и, значит, бывает от них отличен.
— И в самом деле.
— Да и во многих других случаях разве мы не заме- ь чаем, как человек, одолеваемый вожделениями вопреки
способности рассуждать, бранит сам себя и гневается на этих поселившихся в нем насильников? Гнев такого человека становится союзником его разуму в этой распре, которая идет словно лишь между двумя сторонами. А чтобы гнев был заодно с желаниями, когда разум налагает запрет, такого случая, думаю я, ты никогда не наблюдал, признайся, ни на самом себе, ни на других.
— Не наблюдал, клянусь Зевсом.
с — Дальше. Когда человек сознает, что он поступает несправедливо, то, чем он благороднее, тем менее способен негодовать на того, кто, по его мнению, вправе обречь его на голод, стужу и другие подобные муки: это не возбудит в нем гнева — вот о чем я говорю.
— Верно.
— Ну а когда он считает, что с ним поступают несправедливо, он вскипает, раздражается и становится союзником того, что ему представляется справедливым,
v, и ради этого он готов переносить голод, стужу и все по- d добные этим муки, лишь бы победить; он не откажется от своих благородных стремлений — либо добиться своего, либо умереть, разве что его смирят доводы собственного рассудка, который отзовет его наподобие того, как пастух отзывает свою собаку.
— Твое сравнение очень удачно. Ведь в нашем государстве мы поручили его защитникам служить как сторожевым собакам, а правителям — как пастухам.
— Ты прекрасно понял, что я хочу сказать, но обрати внимание еще вот на что...
е — А именно?
— На то, что о яростном духе у нас сейчас состави-
лось представление, противоположное недавнему. Раньше мы его связывали с вожделеющим началом, а теперь находим, что это вовсе не так, потому что при распре, которая происходит в душе человека, яростное начало поднимает оружие за начало разумное.
— Безусловно.
— Так отличается ли оно от него, или это только некий вид разумного начала, и выходит, что в душе существуют всего два вида [начал]: разумное и вожделяю- щее? Или как в государстве три рода начал, его составляющих: деловое, защитное, совещательное, так и 441 в душе есть тоже третье начало — яростный дух? По природе своей оно служит защитником разумного начала, если не испорчено дурным воспитанием.
— Непременно должно быть и третье начало.
— Да, если только обнаружится, что оно не совпадает с разумным началом, подобно тому как выяснилось его отличие от начала вожделеющего.
— Это нетрудно обнаружить. На примере малых детей можно видеть, что они, чуть родятся, беспрестанно бывают исполнены гнева, между тем некоторые из них, ^ на мой взгляд, так и не становятся способными к рассуждению, а большинство становятся способными ь к нему очень поздно.
— Да, клянусь Зевсом, это ты хорошо сказал. Вдобавок и на животных можно наблюдать, что дело обстоит так, как ты говоришь. Кроме того, об этом свидетельствует и стих Гомера, который мы как-то уже приводили раньше:
В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу...20
Здесь Гомер ясно выразил, как из двух разных [начал] одно укоряет другое, то есть начало, разбирающееся с в том, что лучше, а что хуже, порицает начало безрассудно яростное.
— Ты очень правильно говоришь.
— Следовательно, хоть и с трудом, но мы это все же преодолели и пришли к неплохому выводу, что в государстве и в душе каждого отдельного человека имеются одни и те же начала, и число их одинаково.
— Да, это так.
— Значит, непременно должно быть и вот что: как и в чем сказалась мудрость государства, так же точно и в том же самом она проявляется и у частных лиц.
— Конечно.
d — И в чем и как проявляет свое мужество частный человек, в том же и точно так же будет мужественным и государство. Оба они одинаково обладают и всем прочим, что имеет отношение к добродетели.
— Да, это необходимо.
— И справедливым — я думаю, Главкон, мы признаем это — отдельный человек бывает таким же образом, каким осуществляется справедливость в государстве.
— Это тоже совершенно необходимо.
— Но ведь мы не забыли, что государство у нас было признано справедливым в том случае, если каждое из трех его сословий выполняет в нем свое дело.
— Мне кажется, не забыли.
— Значит, нам надо помнить, что и каждый из нас е только тогда может быть справедливым и выполнять
свое дело, когда каждое из имеющихся в нас начал выполняет свое.
— Это надо твердо помнить.
— Итак, способности рассуждать подобает господствовать, потому что мудрость и попечение обо всей душе в целом — это как раз ее дело, начало же яростное должно ей подчиняться и быть ее союзником.
— Конечно.
— И не правда ли, как мы и говорили, сочетание мусического искусства с гимнастическим приведет оба этих начала к созвучию: способность рассуждать оно
442 сделает стремительнее и будет питать ее прекрасными речами и науками, а яростное начало оно несколько ослабит, смягчая его словами и успокаивая гармонией и ритмом.
— Совершенно верно.
— Оба этих начала, воспитанные таким образом, обученные и подлинно понявшие свое назначение, будут управлять началом вожделеющим, а оно составляет большую часть души каждого человека и по своей природе жаждет богатства. За ним надо следить, чтобы оно> не умножилось и не усилилось за счет так называемых телесных удовольствий и не перестало бы выполнять
ь свое назначение: иначе оно может попытаться поработить и подчинить себе то, что ему не родственно, и таким образом извратить жизнедеятельность всех начал.
— Безусловно.
— Оба начала превосходно оберегали бы ц всю душу
в делом, и тело от внешних врагов: одно из них — своими советами, другое — вооруженной защитой; оно будет следовать за господствующим началом и мужественно выполнять его решения.
— Это так.
— И мужественным, думаю я, мы назовем каждого отдельного человека именно в той мере, в какой его с яростный дух и в горе, и в удовольствиях соблюдает указания рассудка насчет того, что опасно, а что неопасно.
— Это верно.
— А мудрым — в той малой мере, которая в каждом главенствует и дает эти указания, ибо она-то и обладает знанием того, что пригодно и каждому отдельному началу, и всей совокупности этих трех начал.
— Конечно.
— Рассудительным же мы назовем его разве не по содружеству и созвучию этих самых начал, когда и главенствующее начало, и оба ему подчиненных согласны в своем мнении, что разумное начало должно а управлять и что нельзя восставать против него?
— Действительно, рассудительность — и государства, и частного лица — не что иное, как это.
— Но и справедливым будет человек, как мы уже часто указывали, именно вследствие этого и как раз таким образом.
— Всенепременно.
— Что же? Нет ли здесь какого-то смутного намека на то, что справедливость может оказаться чем-то иным, а не тем, чем мы признали ее в государстве?
— По-моему, нет.
— Если в душе у нас еще есть какое-то сомнение, мы можем полностью его рассеять, приведя примеры из о обыденной жизни.
— Какие же?
— Если бы требовалось нам прийти к соглашению
относительно нашего государства и подобного ему по своей природе отдельного человека, подобным же образом воспитанного, вот тебе пример: если такому человеку дать на хранение золото или серебро, можно ли Думать, что он их украдет? Кому, по-твоему, может прийти в голову, что от такого человека можно скорее этого ожидать, чем от человека иного нрава? ш
— Никому.
— Он в стороне от святотатств, краж, предательств,
касаются ли они частного обихода — его личных друзей или же общественного — государственной жизни.
— Да, он от этого всего в стороне.
— И он, конечно, не вероломен в клятвах и разного рода соглашениях.
— Конечно.
— Прелюбодеяние, пренебрежение к родителям, не- почитание богов — все это скорее подходит кому угодно другому, только не ему.
— Да, любому другому.
ь — А причиной всему этому разве не то, что каждое из имеющихся в нем начал делает свое дело в отношении правления и подчинения?
— Да, причиной это, а не что-либо другое.
— И ты еще хочешь, чтобы справедливость была чем-то другим, а не той силой, которая делает такими, а не иными как людей, так и государства?
— Клянусь Зевсом, я этого не хочу.
— Значит, полностью сбылся наш сон — то, о чем мы только догадывались: едва мы принялись за устройство государства, мы тотчас же благодаря некоему богу
с вступили, как видно, в область начала и образца справедливости.
— Несомненно.
— Значит, Главкон, неким отображением справедливости (почему оно и полезно) было наше утверждение, что для того, кто по своим природным задаткам годится в сапожники, будет правильным только сапожничать и не заниматься ничем другим, а кто годится в плотники — пусть плотничает. То же самое и в остальных случаях.
— Очевидно, это так.
— Поистине справедливость была у нас чем-то в таком роде, но не в смысле внешних человеческих
d проявлений, а в смысле подлинно внутреннего воздействия на самого себя и на свои способности. Такой человек не позволит ни одному из имеющихся в его душе начал выполнять чужие задачи или досаждать друг другу взаимным вмешательством: он правильно отводит каждому из этих начал действительно то, что им свойственно; он владеет собой, приводит себя в порядок и становится сам себе другом; он прилаживает друг к другу три начала своей души, совсем как три основных тона созвучия — высокий, низкий и средний, да и промежуточные тоны, если они там случатся; все это он связует
вместе и так из множественности достигает собственного единства, рассудительности и слаженности. Таков он и в своих действиях, касаются ли они приобретения имущества, ухода за своим телом, государственных дел или же частных соглашений. Во всем этом он считает и называет справедливой и прекрасной ту деятельность, которая способствует сохранению указанного состояния, а мудростью — умение руководить такой деятельностью. Несправедливой деятельностью он считает ту, что нарушает все это, а невежеством — мнения, ею руководящие.
— Ты совершенно прав, Сократ.
 — Ну что ж,— сказал я.— Если мы признаем, что определили справедливого человека и справедливое государство, а также проявляющуюся
— Ну что ж,— сказал я.— Если мы признаем, что определили справедливого человека и справедливое государство, а также проявляющуюся
в них справедливость, то нам не покажется, думаю я, будто мы в чем-то слишком уж заблуждаемся.
— Не покажется, клянусь Зевсом.
— Стало быть, мы признаем это?
— Признаем.
— Пусть будет так. После этого, я думаю, надо подвергнуть рассмотрению несправедливость.
— Это ясно.
— Она должна заключаться, не правда ли, в каком- то раздоре указанных трех начал, в беспокойстве, во вмешательстве в чужие дела, в восстании какой-то части души против всей души в целом с целью господствовать в ней, хотя данная часть к этому не предназначена по своей природе, а должна повиноваться той части, которой господствовать подобает. Вот что, я думаю, мы будем утверждать о несправедливости: она смятение и блуждание разных частей души, их разнузданность и трусость и вдобавок еще невежество — словом, всяческое зло.
— Это все одно и то же.
— Стало быть, что значит поступать несправедливо и совершать преступления и, напротив, поступать по справедливости — все это, не правда ли, уже совершенно ясно, раз определилось, что такое несправедливость и что такое справедливость?
— А разве это определилось?
— Справедливость и несправедливость ничем не отличаются от здоровых или болезнетворных начал, только те находятся в теле, а эти — в душе.
— Каким образом?
— Здоровое начало вызывает здоровье, а болезнетворное — болезнь.
— Да.
— Не так ли и справедливая деятельность ведет а к справедливости, а несправедливая — к несправедливости?
— Непременно.
— Придать здоровья означает создать естественные отношения господства и подчинения между телесными началами, между тем как болезнь означает их господство или подчинение вопреки природе21.
— Это так.
— Значит, и внести справедливость в душу означает установить там естественные отношения владычества и подвластности ее начал, а внести несправедливость — значит установить там господство одного начала над другим или подчинение одного другому вопреки природе.
— Совершенно верно.
— Стало быть, добродетель — это, по-видимому, не- е кое здоровье, красота, благоденствие души, а порочность — болезнь, безобразие и слабость.
— Да, это так.
— Хорошие привычки разве не ведут к обладанию добродетелью, а дурные — к порочности?
— Неизбежно.
— Нам остается, как видно, исследовать, что целесо- 445 образнее — поступать справедливо, иметь хорошие привычки и быть справедливым, все равно, остается ли это скрытым или нет, или совершать преступления и быть несправедливым, хотя бы это и не грозило карой и исправительным наказанием.
— Но мне кажется, Сократ, что теперь смешно производить такое исследование: если человеку и жизнь не в жизнь, когда повреждается его телесная природа» пусть бы у него при этом было вдоволь различных кушаний, напитков» всевозможного богатства и всяческой власти, то какая же будет ему жизнь, если рас-
ь строена и повреждена у него природа именно того, чем мы живем? Если он делает все, что вздумается, за исключением того, что может ему помочь избавиться от порочности и несправедливости и обрести справедливость и добродетель? Мы-то ведь хорошо разобрали, в чем состоит как то, так и другое.
— Да, это было бы смешно; однако, раз мы дошли до того предела, откуда яснее всего видно, что все это именно так, нам нельзя отступаться.
— Клянусь Зевсом, отступаться — это хуже всего.
— Тогда поди сюда, посмотри, сколько, по-моему, с видов имеет порочность: на это стоит взглянуть.
— Я следую за тобою, а ты продолжай.
— В самом деле, отсюда, словно с наблюдательной вышки, на которую мы взошли в ходе нашей беседы, мне представляется, что существует только один вид добродетели, тогда как видов порочности несметное множество; о четырех из них стоит упомянуть.
— О чем ты говоришь?
Соответствие — Сколько видов государственного
 устройства, столько же, пожалуй, существует и видов душевного склада. — Сколько же их?
устройства, столько же, пожалуй, существует и видов душевного склада. — Сколько же их?
государственного — Пять видов государственного уст- d устройства ройства и пять видов души 22.
— Скажи, какие?
— Я утверждаю, что одним из таких видов государственного устройства будет только что разобранный нами, но назвать его можно двояко: если среди правителей выделится кто-нибудь один, это можно назвать царской властью, если же правителей несколько, тогда это будет аристократия.
— Верно.
— Так вот это я и обозначаю как отдельный вид. Больше ли будет правителей или всего только один, е они не нарушат важнейших законов, пока будут пускать в ход то воспитание и образование, о которых
у нас шла речь 23.
— Естественно, не нарушат.
449 — Хорошим и правильным я называю именно по
добного рода государство и государственное устройство, да и отдельного человека тоже, а все остальные виды, раз такое государство правильно, я считаю плохими: в них ошибочны и государственное правление, и душевный склад частных людей. Видов порочного государственного устройства четыре.
— А какие именно? — спросил Главной !.
Я собрался было говорить о них в том порядке, ь в каком, по-моему, они переходят один в другой. Между тем Полемарх — он сидел невдалеке от Адиманта,— протянув руку, схватил его за плащ на плече, пригнул к себе и, наклонившись, стал что-то шептать ему на ухо. Можно было разобрать только: «Оставим его в покое, или как нам быть?»
— Ни в коем случае не оставим,— сказал Адимант уже громко.
Тут я спросил:
— Что это вам так важно не оставлять?
— Тебя,— отвечал Адимант. с Я опять спросил:
— А почему вам это так важно?
 — Ты, как нам кажется,— сказал он,— не хочешь себя утруждать и украдкой пропускаешь целый — немалый — раздел нашей беседы, уклоняясь от разбора. Или ты думаешь,
— Ты, как нам кажется,— сказал он,— не хочешь себя утруждать и украдкой пропускаешь целый — немалый — раздел нашей беседы, уклоняясь от разбора. Или ты думаешь,
мы забыли, как ты сказал мимоходом насчет жен и детей, что у друзей все будет общим? 2
— А разве, Адимант, это неправильно?
— Да, но правильность этого, как и в других случаях, нуждается в объяснении, каким образом осуществляется подобная общность,— ведь это может быть
d по-разному. Так что непременно укажи, какой именно путь ты имеешь в виду. Мы давно уже ожидаем, что ты упомянешь о деторождении — о том, как будут рождать
детей, а родив, воспитывать — и вообще об этой, как ты говоришь, общности детей и жен. Правильно ли это происходит или нет — имеет, считаем мы, огромное, даже решающее значение для государственного устройства. А ты уже перешел к рассмотрению какого-то иного государственного строя, не исследовав в достаточной мере этот вопрос. Вот почему, как ты и слышал, мы решили, что тебе не следует идти дальше, пока ты 450 не разберешь этого так же, как все остальное.
— Примите и меня в соучастники этого решения,— сказал Главкон.
— Безусловно, Сократ, считай, что такое решение вынесено нами всеми, — сказал Фрасимах.
— Что же это вы делаете! — воскликнул я.— Вы заставляете меня задержаться и затеваете длиннейшую беседу о государственном устройстве, словно мы приступаем к ней сызнова! А я-то было радовался, что уже покончил с этим рассуждением — с меня было бы довольно, если бы вы удовлетворились ранее сказанным.
Вы и не подозреваете, что этим вашим предложением вы подняли целый рой рассуждений, предвидя это, я ь тогда и уклонился, опасаясь такого множества.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|