
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Еще раз о местепризнакам замечаю, что мы всего 595 поэзии 12 страница
— Во всяком случае, — сказал я,— ты прежде всего а смело можешь утверждать, что в мелосе есть три части:
слова, гармония и ритм.
— Да, это-то я могу утверждать.
— Поскольку там есть слова, мелос в этом нисколько не отличается от слов без пения, то есть он тоже должен согласовываться с теми образчиками изложения, о которых мы только что говорили.
— Это верно.
— И слова должны сопровождаться гармонией и ритмом.
— Как же иначе?
— Но мы признали, что в поэзии не должно быть причитаний и жалоб.
— Да, не должно.
е — А какие же лады свойственны причитаниям? Скажи мне — ты ведь сведущ в музыке.
— Смешанный лидийский, строгий лидийский и некоторые другие в таком же роде.
— Значит, их надо изъять, — сказал я,— они не годятся даже для женщин, раз те должны быть добропорядочными, не то что для мужчин.
— Конечно.
— Стражам совершенно не подходит опьянение, изнеженность и праздность.
— Разумеется.
— А какие же лады изнеживают и свойственны застольным песням?
— Ионийский и лидийский — их называют расслабляющими.
— Так допустимо ЛИ, МОЙ друг, чтобы ИМИ ПОЛЬЗО- 399 вались люди воинственные?
— Никоим образом. Но у тебя остается еще, пожалуй, дорийский лад и фригийский.
— Не разбираюсь я в музыкальных ладах, но ты оставь мне тот, который подобающим образом подражал бы голосу и напевам человека мужественного, находящегося в гуще военных действий и вынужденного преодолевать всевозможные трудности; когда он терпит неудачи, ранен, или идет на смерть, или его ь постигло какое-либо иное несчастье, а он стойко, как
в строю, переносит свою участь.
Оставь еще и другой музыкальный лад для того, кто в мирное время занят не вынужденной, а добровольной деятельностью, когда он либо в чем-нибудь убеждает — бога ли своими молитвами, человека ли своими наставлениями и увещаниями, — или о чем-то просит, или, наоборот, сам внимательно слушает просьбы, наставления и доводы другого человека и потому поступает разумно, не зазнается, но во всем действует рассудительно, с чувством меры и довольствуясь тем, что получается, с
Вот эти оба лада — «вынужденный» и «добровольный» — ты и оставь мне: они превосходно подражают голосам людей несчастных, счастливых, рассудительных,
мужественных .
— Но ты просишь оставить не что иное, как те лады, о которых я и говорил сейчас.
— Таким образом, в пении и мелической поэзии не потребуется ни многоголосия, ни смешения всех ладов?
— Мне кажется, что нет.
— Значит, мы не будем готовить мастеров, делающих тригоны, пектиды и всякие другие инструменты со мно- d жеством струн и ладов? 50
— По-видимому, нет.
— Ну, а мастеров по изготовлению флейт и флейтистов допустишь ты в наше государство? Разве это не самый многоголосый инструмент, так что даже смешение всех ладов — это лишь подражание игре на флейте?
— Ясно, что это так.
—■ У тебя остаются лира и кифара — они будут пригодны в городе, в сельских же местностях, у пастухов, были бы в ходу какие-нибудь свирели.
— Так показывает наше рассуждение.
е — Мы не совершаем, — сказал я,— ничего необычного, когда Аполлона и его инструменты ставим выше Марсия и его инструментов51.
— Клянусь Зевсом, — отвечал он,— это, по-моему, так.
— И клянусь собакой,— воскликнул я,— мы и сами не заметили, каким чистым снова сделали государство, которое мы недавно называли изнеженным.
— Да ведь мы действуем рассудительно,— сказал он.
— Давай же очистим и все остальное. Вслед за гармониями возник бы у нас вопрос о ритмах — о том, что не следует гнаться за их разнообразием и за всевозможными размерами, но, напротив, надо установить, какие ритмы соответствуют упорядоченной и мужественной жизни. А установив это, надо обязательно сделать так,
4оо чтобы ритм и напев следовали за соответствующими словами, а не слова — за ритмом и напевом. Твоим делом будет указать, что это за ритмы, как ты сделал раньше относительно музыкальных ладов.
— Но клянусь Зевсом, я не умею объяснить. Я еще, приглядевшись, сказал бы, что имеется три вида стоп, из которых складываются стихотворные размеры, вроде как все лады образуются из четырех звучаний, но какой жизни какие из них подражают — этого я не могу сказать 52.
ь — Об этом,— сказал я,— мы посоветуемся с Дамо-
ном , а именно какие размеры подходят для выражения низости, наглости, безумия и других дурных свойств, а какие ритмы надо оставить для выражения противоположных состояний. Я смутно припоминаю, что слышал, как Дамон называл и какой-то составной плясовой военный размер, одновременно дактилический и героический , но не знаю, как он его строил и как достигал равномерности повышений и понижений в стихе, складывающемся из краткостей и долгот. Помнится, Дамон называл и ямб, и какую-то другую стопу — кажется, с трохей, где сочетаются долготы и краткости 55. В некоторых случаях его порицание или похвала касались темпов стопы не менее, чем самих ритмов, или того и другого вместе, впрочем, мне этого не передать. Все это, как я и говорю, предоставим Дамону — ведь это требует долгого обсуждения. Или твое мнение иное?
— Нет, клянусь Зевсом.
— Но вот что по крайней мере ты можешь отметить:
соответствие между благообразием и ритмичностью, с одной стороны, и уродством и неритмичностью — с другой.
— Да, конечно.
— Подобным же образом ритмичность отвечает хо- d рошему слогу речи, а неритмичность — его противоположности. То же самое и с хорошей или плохой гармонией, раз уж ритм и лад, как недавно говорилось, должны следовать за речью, а не речь за ними.
— Действительно, они должны сообразоваться со слогом.
— А способ выражения и сама речь разве не соответствуют душевному складу человека?
— Конечно.
— Но ведь все прочее соответствует речи?
— Да.
— Значит, ладная речь, благозвучие, благообразие и ладный ритм — это следствие простодушия (evrjdeia): не того недомыслия (avoiav), которое мы, выражаясь е мягко, называем простодушием, но подлинно безупречного нравственно-духовного склада.
— Вполне согласен.
—- Разве юноши не должны всячески стремиться к этому, если намерены выполнять свои обязанности?
— Должны.
— А ведь так или иначе этим полна и живопись, 4<и и всякое подобное мастерство — ткачество, и вышивание, и строительство, и производство разной утвари,
и, вдобавок, даже природа тел и растений — здесь во всем может быть благообразие и уродство. Уродство, неритмичность, дисгармония — близкие родственники злоречия и злонравия, а их противоположности, наоборот,— близкое подражание рассудительности и нравственности 56.
— Безусловно.
— Так вот, неужели только за поэтами надо смот- ь реть и обязывать их либо воплощать в своих творениях нравственные образы, либо уж совсем отказаться у нас от творчества? Разве не надо смотреть и за остальными мастерами и препятствовать им воплощать в образах живых существ, в постройках или в любой своей работе что-то безнравственное, разнузданное, низкое и безобразное? Кто не в состоянии выполнить это требование, того нам нельзя допускать к мастерству, иначе наши стражи, воспитываясь на изображениях порока, словно
с на дурном пастбище, много такого соберут и поглотят — день за днем, по мелочам, но в многочисленных образцах, и из этого незаметно для них самих составится в их душе некое единое великое зло. Нет, надо выискивать таких мастеров, которые по своей одаренности способны проследить природу красоты и благообразия, чтобы нашим юношам подобно жителям здоровой местности все шло на пользу, с какой бы стороны ни представилось их зрению или слуху что-либо из прекрасных произведений: это словно дуновение из благотворных краев, несущее а с собой здоровье и уже с малых лет незаметно делающее юношей близкими прекрасному слову и ведущее к дружбе и согласию с ним.
— Насколько же лучше было бы так воспитывать!
— Так вот, Главкон,— сказал я,— в этом главнейшее воспитательное значение мусического искусства: оно всего более проникает в глубь души и всего сильнее ее затрагивает; ритм и гармония несут с собой благообразие, а оно делает благообразным и человека, если он
е правильно воспитан, если же нет, то наоборот 57. Кто в этой области воспитан как должно, тот очень остро воспримет разные упущения и недостатки в природе и искусстве. Его раздражение или, наоборот, удовольствие будут правильными; он будет хвалить то, что прекрасно, и, приняв его в свою душу, будет питаться им и сам 402 станет безупречным; а безобразное он правильно осудит и возненавидит с юных лет, раньше даже, чем сумеет воспринять разумную речь; когда же придет пора такой речи, он полюбит ее, сознавая, что она ему свойственна по воспитанию.
— По-моему, — сказал Главкон, — в этом-то и состоит значение мусического искусства для воспитания.
— В таком же роде и умение читать,— сказал я.— Мы с ним справляемся, когда нам становится ясно, что разных букв во всем, где они встречаются, не так уж
ь много; однако мы ни в малом, ни в великом не пренебрегаем ими, будто не стоит и замечать их, но везде стремимся распознать и научаемся читать не раньше, чем с этим справимся.
— Верно.
— Значит, и изображения букв, отражающиеся где- нибудь в воде или в зеркале, мы узнаем не прежде, чем будем знать сами буквы, впрочем, это требует того же самого искусства и упражнения.
— Безусловно.
— Но ведь это-то я и утверждаю, клянусь богами: нам точно так же не овладеть мусическим искусством — с ни нам самим, ни тем стражам, которых, как мы говорим, мы должны воспитать, пока мы не распознаем повсюду встречающиеся виды рассудительности, мужества, благородного образа мыслей, великодушия и всего того, что им сродни, а также и. их противоположности, и пока мы не заметим всего этого там, где оно существует — само по себе или в изображениях; ни в малом, ни в великом мы не станем этим пренебрегать, но будем считать, что здесь требуется то же самое — искусство и упражнение.
— Это совершенно необходимо.
— Значит, — сказал я, — если случится, что прекрас- а ные нравственные свойства, таящиеся в душе какого- нибудь человека, будут согласовываться и с его внешностью, поскольку они будут принадлежать к одному роду, это будет прекраснейшее зрелище для того, кто способен видеть.
— Конечно.
— А ведь высшая красота в высшей степени привлекательна.
— Еще бы!
— Таких-то вот людей и любил бы всего больше тот, кто предан мусическому искусству. А в ком нет этой гармоничности, тех бы он не любил.
— Да, не любил бы, если это недостаток душевный;
если же физический, можно еще выдержать и находить встречи приятными. в
— Понимаю,— сказал я,— у тебя есть или был такой любимец, поэтому я не возражаю. Но скажи мне вот что: имеется ли что-нибудь общее между рассудительностью и излишествами в удовольствиях?
— Как можно! От них становишься безумным не меньше, чем от страдания.
— А есть ли у них общее с какой-нибудь другой добродетелью?
— Ни в коем случае. ш
— А, например, с наглостью и разнузданностью?
— С ними-то более всего.
— Можешь ли ты назвать удовольствие более сильное и острое, чем любовные утехи?
— Не могу, да и нет ничего более безумного.
— Между тем правильной любви свойственно любить скромное и прекрасное, притом рассудительно и гармонично.
— Конечно.
— Значит, в правильную любовь нельзя привносить неистовство и все то, что сродни разнузданности?
— Нельзя.
— Стало быть, нельзя привносить и наслаждение: с ним не должно быть ничего общего у правильно любящих или любимых, то есть ни у влюбленного, ни у его любимца.
— Да, Сократ, клянусь Зевсом, наслаждение сюда не следует привносить.
— В создаваемом нами государстве ты установишь, чтобы влюбленный был другом своему любимцу, вместе с ним проводил время и относился к нему как к сыну во имя прекрасного, если тот согласится. А в остальном пусть он так общается с тем, за кем ухаживает, чтобы никогда не могло возникнуть даже предположения, что между ними есть нечто большее. В противном случае он навлечет на себя упрек в грубости и непонимании прекрасного 58.
— Да, это так.
— Не кажется ли и тебе, — сказал я, — что наше рассуждение о мусическом искусстве пришло к концу? Оно завершилось тем, чем должно было завершиться,— ведь все, что относится к мусическому искусству, должно завершаться любовью к прекрасному.
— Согласен,— сказал Главкон.
Взаимо- — Вслед за мусическим искусством
обусловленность юноши должны обучаться и гимнас-
мусического тике 59.
— 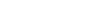 Конечно.
Конечно.
— И в этом отношении нужно воспитывать тщательно, начиная с детства и в течение всей жизни. Дело здесь, я думаю, вот в чем (впрочем, решай и ты): я не считаю, что, когда тело у человека в порядке, оно своими собственными добрыми качествами вызывает хорошее душевное состояние; по- моему, наоборот, хорошее душевное состояние своими добрыми качествами обусловливает наилучшее состояние тела 60. А тебе как кажется?
— По-моему, тоже так.
— Стало быть, если мы достаточно позаботимся о духовном облике наших стражей и затем уже их разумению поручим тщательную заботу о теле, сами же во избежание многословия ограничимся указанием нескольких образцов, мы поступим правильно?
— Вполне.
— Что они должны воздерживаться от опьянения, мы уже говорили. Напиться так, что даже не знаешь, где ты находишься, скорее уж можно кому-нибудь другому, только не стражу.
— Смешно, если страж сам нуждается в страже.
— А как насчет их питания? Ведь эти люди — участники величайшего состязания. Разве не так?
— Да, так.
— Не подойдут ли для них условия жизни атлетов? 404
— Возможно.
— Но ведь это ведет к сонливости и опасно для здоровья. Разве ты не наблюдаешь, что эти атлеты спят всю жизнь и, чуть только нарушат предписанный им режим, сейчас же начинают очень сильно хворать?
— Да, я это наблюдаю.
— Военные атлеты нуждаются в более совершенной подготовке: им необходимо иметь чутье, как у собаки, отличаться крайне острым зрением и слухом и обладать таким здоровьем, чтобы в походах оно не пошатнулось от перемены воды, разного рода ь пищи, от зноя или ненастья.
— И мне так кажется.
— Но наилучшее гимнастическое воспитание разве не родственно тому простому мусическому искусству, которое мы только что разбирали?
— Как ты это понимаешь?
— Такое воспитание должно быть простым и подобающим особенно в отношении военного дела.
— Как это?
— Об этом можно узнать даже у Гомера. Ты ведь знаешь, что во время похода Гомер йе кормит героев ни рыбой, хотя дело происходит у моря, на Геллеспонте, ни вареным мясом, а только жареным, что для с воинов в самом деле удобнее: ведь огонь, так сказать, везде под рукой, и не надо возить с собою посуду.
— Да, это много удобнее.
— И о приправах, насколько мне известно, Гомер никогда не упоминает. Впрочем, и атлеты это знают: кто хочет поддерживать свое тело в хорошем состоянии, тому надо воздерживаться ото всего такого.
— И правильно, они это знают и воздерживаются.
— Как видно, ты не одобряешь сиракузского стола а и сицилийского разнообразия блюд, раз по-твоему это правильно? 61
— Не одобряю.
— Значит, и если коринфская девушка полюбилась тому, кто хочет поддерживать свое тело в хорошем состоянии 62, ты это также порицаешь?
— Разумеется.
— И аттические печенья, хотя они славятся приятным вкусом? 63
— Конечно.
— Я думаю, мы правильно уподобили бы такое питание и образ жизни мелической поэзии и*ш
е песнопению, сочиненному одновременно во всех музыкальных ладах и во всех ритмах.
— Конечно.
— Там пестрота порождает разнузданность, здесь же — болезнь. А простота в мусическом искусстве дает уравновешенность души, в области же гимнастики — здоровье тела.
— Совершенно верно.
405 — Когда в государстве распространятся распущен
ность и болезни, разве не потребуется во множестве открыть суды и больницы? И разве не будут в почете судебное дело и врачевание, когда ими усиленно станут заниматься даже многие благородные люди?
— Да, выйдет так.
— Какое же ты можешь привести еще большее доказательство плохого и постыдного воспитания граждан, если нужду во врачах и искусных судьях испытывают не только худшие люди и ремесленники, но даже и те, кто притязает на то, что они
ь воспитаны на благородный лад? Разве, по-твоему, не позорна и не служит явным признаком невоспитанности необходимость пользоваться, за отсутствием собственных понятий о справедливости, постановлениями посторонних людей, словно они какие-то владыки и могут все решить!
— Это величайший позор.
— А не кажется ли тебе еще более позорным то обстоятельство, что человек не только проводит большую часть своей жизни в судах как ответчик либо как истец, но по своей невоспитанности еще
с и чванится этим в уверенности, что он горазд творить несправедливости, знает всякие уловки и также лазейки, чтобы увернуться от наказания, и все это ради мелких, ничего не стоящих дел? Ему неведомо, насколько прекраснее и лучше постро-
ить свою жизнь так, чтобы вовсе не нуждаться в клюющем носом судье.
— Да, это еще более позорно.
— А когда нужда в лечении возникает не из-за ранений или каких-либо повторяющихся из года в год болезней^ но из-за праздности и того образа жизни, d о котором мы уже упоминали,—это ли не позорно? Влага и испарения застаиваются тогда, словно в болоте, и это побуждает находчивых Асклепиадов64 давать болезням название «ветры» и «истечения».
— В самом деле, это новые и нелепые названия болезней.
— Не существовавших, я думаю, во времена Аск- лепия. Я заключаю так потому, что под Троей его в сыновья не порицали той женщины, которая дала раненому Еврипилу выпить прамнийского вина, густо насыпав туда ячменной крупы и наскоблив сыра, что как раз должно было, по-видимому, вызвать слизистое 40б воспаление. Не возражали сыновья Асклепия и против лечебных мер Патрокла 65.
— Вот уж действительно странное питье для человека в таком состоянии!
— Не так уж оно страпно, если ты учтешь, что в те времена, до появления Геродика66, Асклепиады, как утверждают, не умели направлять течение болезни, то есть не применяли нынешнего способа лечения. Геродик же был учителем гимнастики. Когда он заболел, он применил для лечения гимнастические приемы; сперва он терзал этим главным образом ь самого себя, а затем, впоследствии, и многих других.
— Каким образом?
— Он отодвинул свою смерть; сколько он ни следил за своей болезнью — она у него была смертельной, и излечиться он, я думаю, был не в силах, вот он и жил, ничем другим не занимаясь, а только лечась да мучаясь, как бы не нарушить в чем-либо привычный ему образ жизни. Так, в состоянии беспрерывного умирания он и дожил до старости благодаря своей премудрости.
— Хорошо же его вознаградило его искусство!
— По заслугам, раз человек не соображал, что с Асклепий не по неведению или неопытности ничего не сообщил своим потомкам об этом виде лечения. Асклепий знал, что каждому, кто придерживается законного порядка, назначено какое-либо дело в обще-
стве и он его обязан выполнять, а не заниматься всю жизнь праздным лечением своих болезней. Забавно, что подтверждение этому мы наблюдаем у ремесленников, а у людей богатых и слывущих благополучными этого не замечается.
— Что ты имеешь в виду?
d — Плотник, когда заболеет, обращается к врачу за лекарством, вызывающим рвоту или слабительное действие, чтобы таким путем избавиться от болезни, а не то просит сделать ему прижигание или разрез. Если же ему назначат длительное лечение, велят кутать голову и так далее, он сразу же скажет, что ему недосуг хворать, да и ни к чему будет жить, если обращать внимание на болезнь и пренебрегать надле- е жащей работой. Распростившись с такого рода врачом, он возвращается к своему обычному образу жизни и, если выздоровеет, продолжает заниматься своим делом; если же его тело не способно справиться с болезнью, наступает конец и избавление от хлопот.
— Такому человеку, видимо, именно так подобает пользоваться врачеванием.
*07 — Не потому ли, что у него есть какая-то
работа, и, если он не будет ее выполнять, ему и жить ни к чему?
— Очевидно.
— А у богатого, как мы говорили, нет ведь такого обязательного дела, что ему и жизнь станет не в жизнь, если он будет вынужден от него отказаться.
— Но в этом обычно не признаются.
— Ты ведь не согласен с утверждением Фокилида, что крепость тела надо развивать в себе лишь тогда, когда уже обеспечены условия жизни? 67
— Я думаю, что это надо начинать еще раньше.
— Не будем из-за этого воевать с Фокилидом, а лучше выясним для самих себя, нужно ли богатому человеку заботиться об этом и не будет ли и ему
ь жизнь не в жизнь, если он этим не занимается, или же только плотникам и другим ремесленникам нельзя возиться со своими болезнями, так как это отвлекает их внимание от работы, и совет Фокилида вообще-то ничему не мешает.
— Клянусь Зевсом, — сказал Главкон,— мешает в высшей степени, если такая излишняя забота о своем теле выходит за пределы обычной гимнастики: тогда это раздражает и в домашних делах, и в
военных походах и неприятно также в представителях городской власти.
— Но самое главное, такая излишняя забота служит препятствием для приобретения любых знаний, для размышлений и работы над собой: ведь с людям при этом постоянно мнится, что у них болит или кружится голова, а винят в этом философию, так что там, где эта забота главенствует, она является помехой в том, чтобы развивать и проверять свою добродетель, поскольку из-за этой заботы человек мнит себя вечно больным и непрестанно чувствует боли
в теле.
— Это похоже на правду.
— Так не сказать ли нам, что и Асклепию это было известно: у кого от природы здоровое тело и кто ведет здоровый образ жизни, но схватил какую- d нибудь необычную болезнь, таким людям и при таком их состоянии Асклепий указал, как надо лечиться,— лекарствами и разрезами надо изгонять болезни, сохраняя, однако, обычный образ жизни, чтобы не пострадали общественные дела. В случае же внутренних болезней, продолжающихся всю жизнь, Асклепий не делал попыток чуть-чуть облегчить положение больного и, изменяя его образ жизни и затягивая болезнь, удлинить человеку никчемную его жизнь да еще дать ему случай произвести, естественно, такое же точно потомство. Кто в положенный человеку срок не способен жить, того, считал Асклепий, не е нужно и лечить, потому что такой человек бесполезен
и для себя, и для общества.
— Ты утверждаешь, что Асклепий заботился об обществе?
— Это очевидно. Да и его сыновья показали, что
он был таков. Разве ты не видишь, как они отличились 408 в битвах под Троей, где применяли свое врачебное искусство именно так, как я говорю? Или не помнишь, что у Менелая из раны, полученной от стрелы Пандара, они
Кровь отжимали, смягчающим зельем обсыпавши рану68.
А насчет того, что нужно потом пить и есть, они дали Менелаю ничуть не больше предписаний, чем Еврипилу, потому что для излечения довольно бывает лекарства, если до ранения человек был здоров и вел упорядоченный образ жизни, хотя бы сейчас и дове- ь
лось ему выпить смесь из вина, меда, ячменной крупы и тертого сыра. А жизнь человека, от природы болезненного, да к тому же еще невоздержного, Аскле- пиады находили бесполезной и для него самого, и для окружающих, так что, считали они, не стоит за ним ухаживать и его лечить, будь он даже богаче Мидаса 69.
— Если верить тебе, сыновья Асклегшя были очень смышлеными.
— Так им и полагается, хотя с нами не согласятся ни трагики, ни Пиндар: они уверяют, что хотя Асклепий и был сыном Аполлона, однако дал себя
с подкупить, чтобы исцелить одного уже умиравшего богача, за что и был испепелен молнией 70. Но мы, исходя из того, о чем у нас уже шла речь, не верим им ни в том ни в другом: если он был сыном бога, он, скажем мы, не должен был быть корыстолюбив, а если он корыстолюбив, он не был сыном бога.
— Это-то совершенно верно. Но что ты скажешь, Сократ, в отношении следующего: разве не требуются в нашем государстве хорошие врачи? А такими могли бы быть, всего вероятнее, те, через чьи руки прошло
d как можно больше людей как здоровых, так и больных. Точно так же и с судьями: те из них лучше, кому приходилось общаться с самыми разными по своим природным задаткам людьми.
— Конечно, они должны быть очень хорошими врачами. А знаешь, кого я считаю такими?
— Пожалуйста, скажи мне.
— Что ж, попытаюсь. Но ты в своем вопросе объединил не сходные между собою вещи.
— Как так?
— Искуснейшими врачами стали бы те, кто, начиная с малолетства, кроме изучения своей науки имел бы дело по возможности с большим числом совсем безнадежных больных, да и сам перенес бы всякие
е болезни и от природы был бы не слишком здоровым. Ведь лечат, по-моему, не телом тело — иначе было бы недопустимо плохое телесное состояние самого врача,— нет, лечат тело душой, а ею невозможно хорошо лечить, если она у врача плохая или стала такой.
— Это верно.
409 — А судья, друг мой, душой правит над душами.
Нельзя, чтобы она у него с юных лет воспитывалась среди порочных душ, общалась с ними, прошла бы
через всяческие несправедливости и сама поступала так, — и все это только для того, чтобы по собственному опыту заключать о чужих поступках, как о чужих болезнях заключают по своим. Напротив, душа должна смолоду стать невинной и не причастной к дурным нравам, если ей предстоит безупречно и здраво вершить правосудие. Потому-то люди порядочные и кажутся в их молодые годы простоватыми и легко поддаются обману со стороны людей несправедливых — ведь у них самих нет никаких черточек, ь созвучных людям испорченным.
— В самом деле, с ними часто так случается.
— Поэтому хорошим судьей будет не юноша, а старик, который лишь в зрелые годы ознакомился с тем, что такое несправедливость. Ее наличие он подметил не у себя в душе и не как собственное свойство, а, напротив, в душах других людей как нечто ему чуждое. Понадобилось много времени, чтобы он научился разбираться в том, каково это зло, — ведь для него оно предмет знания, а не собственного опыта, с
— Это будет отличный судья, как видно.
— Да, хороший: вот то, о чем ты спрашивал. Ведь хорош тот, у кого хорошая душа. А человек ловкий и во всем подозревающий лишь дурное, сам совершивший немало несправедливостей и считающий себя мастером на все руки и мудрецом, правда общаясь с себе подобными, выглядит знатоком своего дела, потому что он всего остерегается, наблюдая на самом себе дурные примеры, но, когда он встречается с хорошими людьми и с теми, кто постарше его, он выглядит глупо, так как бывает некстати недоверчив из-за своего неведения здоровых нравов, — ведь ати примеры d ему чужды. А так как с людьми порочными он сталкивается чаще, чем с хорошими, то и самому себе
и другим он кажется скорее мудрым, чем невеждой.
— Совершенно верно.
— Стало быть, не такого судью нам надо искать, если мы хотим, чтобы был он хорош и мудр, а такого, как мы указывали прежде. Порочность никогда не может познать ни добродетель, ни самое себя, тогда как добродетель человеческой природы, своевременно получившей воспитание, приобретет знание и о самой себе, и о порочности. Именно такой человек, кажется е мне, и становится мудрым, а вовсе не негодяй.
— И мне так кажется.
— Значит, вместе с такого рода судебным искусством ты узаконишь в нашем государстве и врачевание в том виде, как мы говорили. Оба они будут заботиться
4ю о гражданах, полноценных в отношении как тела, так и души, а кто не таков, кто полноценен лишь телесно, тем они предоставят вымирать; что касается людей с порочной душой, и притом неисцелимых, то их они сами умертвят.
— Ясно, что так будет всего лучше и для тех, кто страдает подобными недостатками, и для всего государства.
— А юноши, видно, поостерегутся у тебя обращаться в суд, раз они будут владеть тем простым мусическим искусством, которое, как мы говорили, порождает рассудительность.
— Конечно.
ь — Следуя тем же путем, человек, владеющий мусическим искусством, если пожелает, примет такое же решение, занимаясь гимнастикой, то есть не станет прибегать к врачебной помощи без необходимости.
— Я с этим согласен.
— Он будет заниматься гимнастическими упражнениями и преодолевать трудности во имя природной отваги и пылкости духа, ради их пробуждения, а не ради приобретения силы — не то, что другие атлеты, которые и питаются, и переносят тяготы только для того, чтобы стать покрепче.
— Ты совершенно прав.
— Те, кто установил, что воспитывать надо с по- с мощью мусического и гимнастического искусства, для
того ли сделали это, Главкон, чтобы, как думают некоторые, посредством одного развивать тело, а посредством другого — душу?
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|