
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
ВНИМАНИЕ! 3 страница
Русаков бережно освободил ее от газеты и, взглянув на обложку, обрадовался.
– Ну, Епифан, большое тебе спасибо, – и крепко потряс ему руку.
– С этой книжкой, – продолжал Епиха, – подрожал я дорогой. Приехали мы в деревню Пепелино. Остановились на ночь на постоялом. Народу в избу набилось много. Залез я с Оськой на полати и сунул ее в изголовье под армяк. Утром просыпаюсь – книжки нет. Метнулся с полатей на печь, где сушились пимы, а она, милая, в пиме и лежит. Стал припоминать. Верно, ходил ночью лошадей проведать, сунул ее спросонья в пим и забыл.
В тот вечер Русаков просидел за книгой всю ночь.
Дня через два, когда Устинья шла доить корову, она увидела как от ворот к дому прошла какая‑то молодая, по‑городскому одетая женщина и вошла, видимо, в комнату ссыльного.
Устинью разбирало любопытство. Подоив корову, она процедила молоко и направилась с полной крынкой к жильцу. Дернула дверь, которая оказалась закрытой на крючок, и стала ждать. На пороге показался Григорий Иванович, он пропустил девушку вперед себя. Устинья поставила молоко на столик и, взглянув на гостью, посветлела.
– Нина Петровна! – воскликнула она радостно. – Да как ты долго у нас не была, соскучилась по тебе, голубушка.
Дробышева улыбнулась и, протягивая руку Устинье, сказала:
– Теперь я буду заходить к вам чаще.
Слушая девушек, Русаков взял в руки небольшую книжку.
«Не до меня им сейчас», – подумала Устинья.
Закрывая дверь, она услышала голос Григория Ивановича:
– …Развитие, – пишет Ленин, – есть борьба противоположностей.
«Про политику толкуют», – подумала Устинья и уселась за прялку в своей комнате.
Глава 18
В голубом вечернем небе тихо плыли окрашенные в пурпур облака. Порой они принимали причудливые формы, напоминая то фантастические скалы, то исполинские фигуры зверей, и, расплываясь в небесной лазури, продолжали свой далекий путь. Дневной зной спадал. Было слышно, как в городском саду играл оркестр.
Русаков вышел из дому и не спеша направился к бору, темневшему на окраине города. Ему хотелось побыть одному. Итти к Виктору было еще рано, и он решил сходить к обрыву. Этот лесной уголок он любил и раньше. Речка здесь вилась среди столетних деревьев, петляла по опушке бора и вновь пряталась в его густой заросли. Русаков прошел Лысую гору и, цепляясь за ветви, стал спускаться с обрыва. Впереди, за рекой, лежала равнина, и на ней озаренные лучами заходящего солнца виднелись полоски крестьянских полей. Усевшись на выступ камня, Русаков снял кепку, провел рукой по волосам и опустился на стоявший недалеко пенек. В лесу чувствовался тонкий аромат увядающих трав и смолистый запах деревьев, был слышен нежный голос горлицы. Внизу обрыва, в крутых берегах, спокойно текла мелководная речушка, и на ее зеркальной глади тут и там виднелись чудесные кувшинки.
Русаков задумался. Как давно он не имеет вестей из родного города. Многих нет уже в живых, иные в ссылке. Ему стало грустно.
– Да, многих нет в живых, – прошептал он чуть, слышно. – Что ж, живые будут бороться, падать, вставать и итти к заветной цели.
Речные волны тихо плескались о берег. Слегка качались широкие листья кувшинок, над ними кружились стрекозы. За рекой был слышен рожок пастуха. Его несложная музыка напомнила Григорию Ивановичу далекое детство.
…Степь. Богатый хутор немца‑колониста. Горячая земля жжет босые ноги пастушонка Гриши. Старый Остап, положив возле себя длинный кнут, спит под кустом. Палящее солнце, оводы гонят подпаска в прохладу ленивой речки. Пара молодых бычков, задрав хвосты, несется в хлеб. Пока мальчик вылазил из воды, они уже были там. Тарахтит рессорная бричка хозяина. Увидев бычков, он останавливает коней и, размахивая кнутом, бежит навстречу подпаску. Резкий удар обжигает мальчика. За ним второй. Багровея от злобы, немец кричит, коверкая русские слова: «Паршиви щенк! На! – Третий удар кнутом. – Выгоняйт!»
Вечером Остап, сидя возле избитого мальчика, жалостливо выводит что‑то на своем пастушьем рожке.
Так прошла юность. Затем прощанье с Остапом, и четырнадцатилетний паренек, закинув котомку за спину, ушел в город. Дня три бездомный подросток скитался по улицам города Николаева, добывая себе кусок хлеба случайным заработком. Затем работа на заводе, знакомство с революционерами, подпольные кружки и арест.
По выходе из тюрьмы начинается упорная борьба с царизмом. Григорий Иванович, отдавшись воспоминаниям, на миг закрыл глаза и медленно провел рукой по лицу.
Вспомнил он, как однажды, оттолкнувшись от берега веслом, он не спеша направил свою лодку мимо островка заросшего лозняком. Скрылись из глаз купола церквей, заводские трубы, крыши богатых домов. Загнав лодку в узкий проход среди камыша, он выпрыгнул на берег Невдалеке виднелась небольшая березовая роща, и Русаков, оглядываясь, направился к ней.
Неожиданно из кустов вышел какой‑то человек. Приблизившись к нему, Русаков узнал рабочего своего за вода.
– Пароль? – тихо спросил тот.
Назвав условный пароль, Григорий Иванович, углубившись в рощу, вскоре вышел на небольшую поляну. Здесь уже собралось человек тридцать участников маевки. Выступал председатель местного Совета рабочих депутатов Крутояров по кличке «дядя Вася».
– …Булыгинская дума – это неуклюжий маневр царизма. Им не расколоть революции, они не оторвут нас от народа, – продолжал Крутояров. – Наша задача – полный бойкот булыгинцев. Нужно разъяснить трудящимся, что это лишь ширма, за которую прячется реакция перед лицом революции.
Неожиданно на поляну выбежал какой‑то подросток с криком: «Нас окружают! Спасайтесь!». Русаков оглянулся. На опушке леса показались полицейские. Слышны были свистки, топот бегущих людей. Юркнув мимо полицейского, который, вытянув руки и раскорячив ноги, пытался его схватить, Григорий Иванович бросился в прибрежные кусты. В роще прохлопало несколько выстрелов. Когда все стихло, он вечером добрался до заброшенного сарая и провел там ночь. Домой было итти опасно. Через три дня после маевки его схватили жандармы.
Перед Русаковым промелькнули картины прошлого, и, вздохнув, он поднялся на ноги.
Лучи заходящего солнца погасли. На заречную равнину опустились вечерние тени. Внизу оврага потянуло сыростью. Григорий Иванович стал подниматься наверх. Лес стоял молчаливый и грустный.
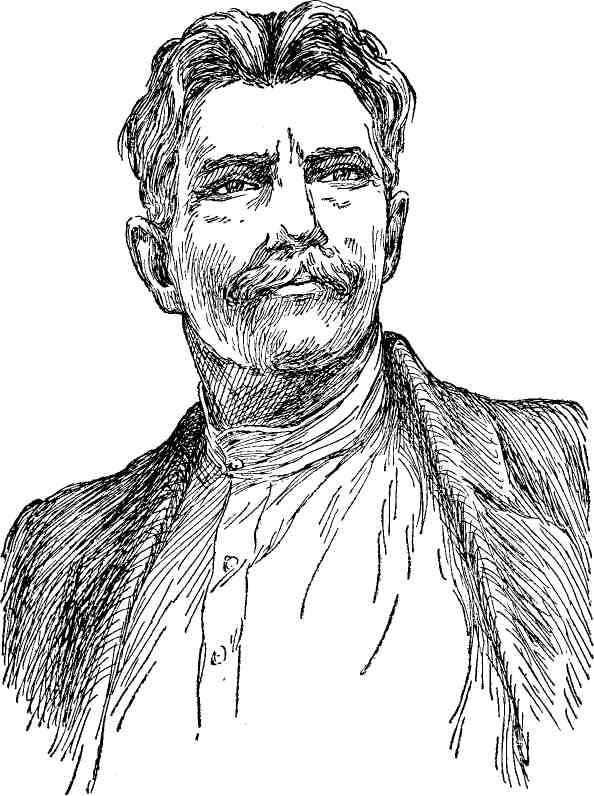
К Виктору Русаков пришел уже в сумерках. Из комнаты слышались возбужденные голоса спорящих людей.
«Очередное сражение с Кукарским», – подумал Русаков и толкнул дверь.
– …Повторяю, стачка не должна носить политического характера. Выступления рабочих должны сводиться только к экономическим требованиям. Если объединить то и другое, то получится мешанина, которая, кроме вреда, ничего не принесет, – засунув по обыкновению пальцы за жилет, говорил с присущим ему апломбом Кукарский.
– А я повторяю, что это чистейший вздор и глупость, – горячился Виктор. – Революционная массовая стачка содержит в себе и политические и экономические требования. Отрывать одно от другого совершенно невозможно.
Заметив Русакова, Словцов пригласил его сесть и обратился к нему:
– Григорий Иванович, у нас с Кукарским идет разговор о стачках. Он говорит, что революционного характера массовые стачки не должны иметь. Ведь это же чистейшей воды «экономизм».
– Да, – сухо ответил тот.
Григорий Иванович выдержал короткую паузу и, посмотрев в упор на Кукарского, произнес: – Отрицание необходимости политической борьбы рабочего класса ведет к превращению его в политический придаток буржуазии. Ваши мысли, господин Кукарский, не новы. Это или отступление от марксизма, или прямая измена ему.
– Но, позвольте, – Кукарский развел руками, – я нахожусь здесь на правах оппонента…
– Которого никто не приглашал, – хмуро заметил Виктор.
– Хорошо, в таком случае я ухожу, – схватив фуражку, Кукарский круто повернулся к выходу. – Но все же я не теряю надежды, что на эту тему мы продолжим разговор, – заявил он с порога Григорию Ивановичу.
– Лично с вами я считаю бесполезным его вести, – ответил решительно Русаков.
– Почему? – Кукарский нетерпеливо повертел фуражку в руках.
– Меньшевик всегда останется меньшевиком, какой бы он фразой ни прикрывался. Наши взгляды на революционное движение в России различны, и точек соприкосновения в этом вопросе я не ищу, – сдвинув брови, ответил Григорий Иванович.
– Ах вот как, – протянул Кукарский, – мне кажется, вы просто уклоняетесь от дискуссии, – прищурил он глаза. – Но позвольте мне думать так, как я хочу, – бросил он уже надменно.
– Это ваше дело, – спокойно ответил Русаков.
Кукарский, хлопнув дверью, вышел.
В комнате Виктора остались Устюгов, Андрей, Русаков и молодой приказчик Николай Томин, который иногда заходил к Словцову. Революционно настроенный, энергичный Томин сблизился с Русаковым и через него вел работу среди приказчиков. Постепенно налаживалась связь с Зауральским профсоюзом приказчиков, где видное место занимал близко стоящий к большевикам Николай Кривошапкин.
– Нам нужно использовать легальные организации для того, чтобы вытеснить оттуда людей типа Кукарского и иже с ним. Тебе, товарищ Томин, – обратился Русаков к Николаю, – придется усилить работу среди приказчиков. Когда ты едешь в Зауральск?
– Завтра, – ответил тот. – Вот письмо к товарищу Кривошапкину, – подавая Томину толстый конверт, сказал Григорий Иванович. – Здесь, кроме вопросов профсоюзного характера, имеется статья Н. Петрова (Ленина), опубликованная в газете «Невская звезда», об экономической и политической стачке.
– Хорошо, – ответил тот и спрятал конверт в потайном кармане пиджака.
* * *
Утром, когда Андрей еще спал, в комнату вошел Никита, потряс сына за плечо и сердито произнес:
– Поднимайся, внизу околоточный ждет. Достукался, – сказал он злорадно и, запахнувшись в халат, косо посмотрел на Андрея. – Сколько раз тебе говорил: не связывайся с сыцилистами, так нет, не послушался.
– Отец, это касается только меня, – одеваясь, ответил спокойно Андрей.
Никита по привычке торопливо забегал по комнате.
– Ишь ты, ево касается, а меня не касается. А ежли пальцем будут тыкать, что сын купца Фирсова сыцилистом стал, тогда как?
– Ответите, что у старшего сына своя дорога, – холодно заметил Андрей и пригладил волосы.
Никита круто повернулся к нему.
– Вот тебе мой сказ, – он подошел вплотную к Андрею, – вывеску «Торговый дом Фирсова и сыновья» марать тебе не позволю. Не тобой дело начато, не тобой будет и кончено.
– Не знаю, может быть, и мной, – многозначительно ответил Андрей, – поживем, увидим, – хлопнув дверью, он вышел из комнаты. Спустился вниз на кухню, где сидел полицейский, и сухо спросил:
– Что вам угодно?
– От господина исправника, – козырнул тот, подавая пакет.
Андрей вскрыл конверт и, пробежав глазами письмо, сказал полицейскому:
– Хорошо, скажите, что буду.
– Распишитесь на конверте. Такой у нас порядок‑с, – вновь козырнул околоточный.
Возвращаться в свою комнату Андрею не хотелось, и он вышел на улицу. Итти к исправнику было рано, и Андрей решил побродить по лесу. Прошел мимо пивоваренного завода Мейера и, обогнув татарское кладбище, стал углубляться в рощу. Омытые утренней росой, молчаливо стояли молодые березы. Воздух был чист и прозрачен. В одном месте ветви деревьев так густо сплелись, что Андрей с трудом выбрался на небольшую поляну, заросшую травой, из которой выглядывали фиолетовые колокольчики и белая ромашка.
Из нечаянно задетой Андреем белоснежной ромашки, как слеза, выкатилась капелька росы и исчезла в траве. Гудели шмели. По широким листьям лопуха ползали божьи коровки и, расправив крылышки, поднимались вверх.
За кромкой леса шли поля и был слышен голос пахаря, понукавшего лошадь. Вскоре показался и сам сеятель. Налегая на сабан, он дергал вожжой заморенную лошаденку, которая с трудом тащилась по неглубокой борозде.
Поровнявшись с Андреем, пахарь остановил лошадь и, опустившись на деревянную стрелу сабана, вытер рукавом рубахи вспотевший лоб.
– Нет ли покурить? – спросил он.
Андрей подал папиросу. Сделав большую затяжку, пахарь закашлял и потер рукой плоскую грудь.
– Ржи думаю немного посеять, – не то обращаясь к Андрею, не то к самому себе, промолвил крестьянин и уныло посмотрел на свою клячу.
– Плохо тянуть стала, – сказал он со вздохом, – овса‑то нет с весны, а на подножном корму много не наработаешь. Да и год‑то ныне неурожайный, – пожаловался он Андрею.
– Ну, а земство не помогает? – спросил тот.
– Помогает, – криво усмехнулся мужик. – Сунулся я как‑то раз в кредитное товарищество, а мне там кукиш показали: «Таким, как ты, голоштанникам, ссуды не даем».
– А кому же дают? – заинтересовался Андрей.
– Кто побогаче, тем и кредит, а наш брат, хоть песни пой, хоть волком вой, не жди, не дадут, – махнул рукой пахарь.
– Ну хорошо, можно было бы обратиться в Крестьянский банк.
– Одно только название что крестьянский, а на деле там лавочники да купцы орудуют.
Крестьянин всердцах бросил папиросу и, тронув коня вожжой, зашагал по борозде.
Опустив в раздумье голову, Андрей направился к городу.
На душе было тяжело. «Сколько таких обездоленных и где выход?»
…Исправник, Пафнутий Никанорович Захваткин, сидел в своем кабинете, просматривая почту. Его круглое мясистое лицо с большой бородавкой на левой щеке лоснилось от жира, круглые глаза были сонны.
Расстегнув воротник кителя, он обтер клетчатым платком бычью шею и, заслышав шаги Андрея, выжидательно уставился на дверь.
– Пришли? – с легкой хрипотой спросил он Фирсова и показал взглядом на стул.
– Из уважения к вашему почтеннейшему родителю я решил побеседовать с вами по душам. – Захваткин отодвинул от себя пресспапье и уставился на посетителя. – Мне известно, что вы не разделяете мнения благомыслящих людей на существующий строй. Ваши взгляды на переустройство общества, скажу вам прямо, подпадают под действие закона о государственных преступниках и могут иметь за собой неприятные последствия. Да‑с. – Захваткин откинулся в глубь кресла. – Мне прискорбно говорить об этом, но, знаете, служба, – развел он руками. – Вы курите?
– Спасибо, – Андрей открыл свой портсигар.
– Брожение умов – это, так сказать, знамение времени. Я не пророк. Но, молодой человек, когда вы накопите жизненный опыт, поверьте, вам будет смешно вспомнить о своих ошибках. Да‑с. И, говоря конфиденциально, я сам когда‑то, в дни молодости, был привержен к идеям либерализма. Но благодарение богу, – Захваткин поднял глаза к потолку, – эти семена заглохли, не успев дать свои ростки.
– Я чувствую, что и мои юношеские взгляды на переустройство общества приходят к концу, – скрывая усмешку, ответил ему в тон Андрей.
– Вот и чудесно. – Опираясь на ручки кресла, исправник приподнял свое тучное тело. – Я вижу, батенька мой, что вы человек неглупый.
– Благодарю за комплимент, – сухо поклонился Фирсов.
– Да‑с, неглупый, – не замечая иронии, продолжал Пафнутий Никанорович. – И чем скорее порвете знакомство с разными там Русаковыми, Словцовыми и прочими бунтовщиками, тем для вас лучше.
– В рекомендательных списках знакомых я не нуждаюсь, – ледяным тоном произнес Фирсов и поднялся на ноги.
– Мое дело, милостивый государь, предупредить вас о неприятных последствиях, которые несет за собой ваше знакомство с политическими ссыльными, – поднялся в свою очередь с кресла Захваткин. – Повторяю, что только из уважения к вашему родителю вы пользуетесь свободой, дарованной нам монархом.
– Венцом этой свободы вы, очевидно, считаете девятое января 1905 года? Залитые кровью рабочих декабрьские баррикады Пресни? Пытки и виселицы по всей России? Не так ли? – горячо ответил Андрей.
– Вы забываетесь, милостивый государь! – лицо Захваткина побагровело. – Вы находитесь в полицейском управлении, а не на тайном сборище. Предупреждаю вас последний раз, что если вы не порвете связи с ссыльными, я вынужден буду принять суровые меры. Можете итти.
Андрей круто отвернулся от исправника и вышел из кабинета.
«Либерализм, облаченный в мундир исправника, – что же, хороший урок для меня», – подумал с горечью Андрей.
В тот день Андрей долго бродил по кривым переулкам города, вернулся усталый и, поднявшись к себе в комнату, лег на диван.
«Христина, как жаль, что нет тебя со мной. Один я, никому не нужный и чужой в этом доме».
Тихо скрипнула дверь, и показалась одетая во все темное Василиса Терентьевна. Андрей поднялся.
– Что, мама?
Старая женщина уселась рядом с сыном и погладила его по волосам. Чувство материнской ласки пробудило в Андрее воспоминания детства, и он доверчиво припал к ее плечу.
– Тяжело мне, мама.
– Знаю, – тихо промолвила Василиса Терентьевна и, вздохнув, сказала: – И мне не сладко живется. Сам‑то стал чистый скопидом, на свечку жалеет. Сережа совсем отбился от рук. Одни гулянки на уме. Да и ты редко бываешь дома. Не с кем слова вымолвить, Агния – по магазинам да по портнихам, и мать забывать начала. Одна у меня надежда под старость – ты.
Помолчав, Василиса Терентьевна спросила:
– Зачем звали в полицию?
– Так, пустое дело, – уклончиво ответил Андрей.
– Пенял мне отец сегодня, что не на ту дорожку сына поставила.
– Нет, мама, дорога моя прямая, к лучшей жизни она ведет, – стараясь найти понятные для матери слова, тихо заговорил Андрей. – Знаю, труден будет путь, но своей цели достигну.
– Ну, дай бог. Только мать не забывай. – Поцеловав сына, Василиса Терентьевна поднялась на ноги и, осенив его крестным знамением, вышла.
Глава 19
Захватив с помощью Дарьи Видинеевой паровые мельницы на Тоболе, Никита Фирсов стал подбираться к фирме «Брюль и Тегерсен», крупному мясопромышленному комбинату датчан в Зауральске.
Итти на сделку с союзом сибирских маслодельных артелей, которые помимо масла вырабатывали бекон, Никите не хотелось. Денежные средства кооперативов были ограничены, и Фирсов повел с ними тонкую игру.
– Тебе, Александр Павлович, мешать я не буду, – говорил Никита заводчику Балакшину, который был главным учредителем союза маслодельных артелей. – Перерабатывай молоко, разводи свиней, а где надо, я подсоблю деньгами. У тебя что, контракт с датчанами есть? – спросил он неожиданно.
– Да, часть свинины я сдаю на консервный завод, – ответил своему собеседнику Балакшин.
Никита поднялся с кресла и, шагая по мягкому ковру, заговорил не торопясь:
– Опутывают нас иноземцы, ох, как опутывают. Ведь ты сам посуди, – Фирсов, заложив руки за спину, остановился перед хозяином. – В Челябинске два завода принадлежат немцам и бельгийцам. До самого Омска по всей железной дороге склады американца Мак‑Кормика, в Омске засели немец Ган и швед Рандрупп. На винокуренных и пивоваренных заводах хозяйничают иностранцы, и здесь у тебя под самым носом орудуют датчане, а нашему брату, русскому купцу, и повернуться негде. – Помолчав, Никита продолжал: – Слышал я, что масло и свинину ты отправляешь в Англию.
Балакшин, поглаживая свою пышную с проседью бороду, внимательно слушал гостя, на его вопрос ответил утвердительно.
– Ну вот, и ты со своими артелями ихнюю же руку тянешь, а какая нам с тобой польза?
– Тебе – не знаю, а мне от фирмы Тегерсена – один убыток, – заметил хозяин.
– А ежли нам с тобой, допустим, создать компанию, ас… ас… как это на ученом языке называется? – Фирсов наморщил лоб и уставился на ковер. – Припомнить не могу, ведь говорил же мне этот кутейник. «Его бы лучше послать», – промелькнула у него мысль про Никодима.
– Ассоциацию, – сказал более осведомленный в торговой терминологии Балакшин, который когда‑то учился в коммерческом училище.
– Ну вот, эту самую, будь она неладная, и придумают, прости господи, такое слово, – произнес с облегчением Никита.
– Что ж, я непрочь, – заявил хозяин, – мне эти «Брюль и Тегерсен», признаться, крепко ножку подставляют. Создают свои механизированные маслодельные заводы, и артелям тягаться с ними трудновато.
– Не удержаться им против нас, – забегал по привычке Никита, – а деньгами я тебе пособлю. Начинай накидывать цену на молоко с пятачка, а там посмотрим, кто кого.
– Ну, хорошо, а разницу в повышении цен кто оплачивает?
– Я.
Хозяин задумался. Побарабанил пальцами по мраморному столику, накрытому зеленой бархатной скатертью, и перевел взгляд на Никиту.
– Допустим, цену повышаем. Но Тегерсен не может останавливать маслодельные заводы, ясно, что будут оплачивать молокосдатчикам по ценам выше артельных. Но когда‑то должен быть предел?
Никита хитро улыбнулся:
– Ты только начинай бить их, а я уж добью.
– Опасная игра, – Балакшин затеребил бороду. – Требуются большие деньги.
– Для начала я открою вам кредит в Крестьянском банке тысяч так на пятнадцать, – заявил Никита.
– Ну, а если мы не выдержим конкуренции? – продолжал расспрашивать осторожный Балакшин.
Никита потер руки.
– Брюль и Тегерсен лопнут скорее, чем мы, – заявил он уверенно. И, помолчав, добавил: – Для пользы дела думаю поставить в ваше правление своего человека.
– Хорошо, я посоветуюсь, – поднимаясь, заявил хозяин. – Прошу денька через два заглянуть ко мне, – сказал он, пожимая руку гостя.
Через неделю в степь к Бекмурзе прискакал гонец от Фирсова. Никита пригласил Яманбаева в Марамыш по важному делу. Попутно фирсовский человек, с таким же наказом, заехал и к Дорофею Толстопятову.
Сергей приезду своего степного друга обрадовался:
– Бекмурза!
И когда тот, несмотря на свою дородность, легко соскочил с седла, он обнял Яманбаева.
– Салем! – Бекмурза с чувством потряс руку молодого Фирсова.
– Мало‑мало твой старик толмачим, потом гулям. Никодим‑та где? – не видя Елеонского, спросил он Сергея.
– В Зауральск уехал по отцовским делам.
– А‑а, латна. Ташши свой юрта.
Сергей взял под руку гостя и повел его наверх.
Бекмурзе отвели боковую комнату, в которой когда‑то жил Андрей. Стряпка Мария каждое утро ругалась, подтирая заплеванный гостем пол. Не выносил «кыргыцкого духа» и сам хозяин, но из уважения к богатству скотопромышленника свое недовольство не выказывал. Василиса Терентьевна была с гостем любезна и вскоре снискала его расположение. Агния, проходя каждый раз мимо комнаты «азиата», как она мысленно назвала Бекмурзу, прикладывала к носику надушенный платок.
На другой день приехал Дорофей Толстопятов. Никита с гостями закрылся в своем кабинете.
Поговорив о погоде и прочих малозначащих предметах, хозяин перешел к делу.
– Бекмурза Яманбаевич, ты кому теперь скот продаешь?
– Зауральск гоням.
– С Султанком, Сашкой Марьяновым, Колькой Шахриным ты в дружбе живешь?
– Вместе пьем. – Узкие, заплывшие жиром глаза Бекмурзы весело посмотрели на хозяина.
– Та‑ак, – задумчиво протянул Никита и хрустнул костлявыми пальцами. – Можешь ты нажать на них, чтобы скот они в Зауральск не гоняли?
– Можна. У меня сарский бумага есть, – заявил Бекмурза, вытаскивая из‑за пазухи пачку векселей.
Никита, точно ястреб, схватил ценные бумаги. Скотопромышленники Тургая влезли в долги Яманбаеву на большую сумму. Довольный Фирсов потер руки.
– Заворачивай их скот в Марамыш, – заявил он весело Бекмурзе. – Будем свою скотобойню строить. Мясо пойдет теперь мимо Зауральска в Екатеринбург и Москву. Как твоя думка?
– Моя согласна, – хлопнул себя по коленке Бекмурза.
Никита зорко посмотрел на Толстопятова.
– Я не супорствую, – произнес медлительный Дорофей, – Свиней могу закупать у мужиков, съезжу в Александрову и Всесвятскую к хохлам.
– Сколько деньга надо? – спросил нетерпеливый Бекмурза.
– Пока немного, – ответил Никита. – На первых порах так тысяч восемьдесят, – Фирсов испытующе взглянул на Яманбаева.
– Латна, даем.
Осторожный Толстопятов молчал.
– Ну, а ты как, Дорофей Павлович? – спросил его хозяин.
Заимщик поднял глаза к потолку.
– Тысяч двадцать могу дать, – вздохнул он, – с деньгами‑то у меня плоховато.
«Жилистый мужик», – подумал Никита и стал подробно рассказывать о своем плане.
К осени скотобойня была готова. Построили ее недалеко от заимки Дарьи Видинеевой.
Бекмурза вместе со своим другом Султанком, договорившись с остальными скотопромышленниками, погнали гурты в Марамыш, на новую скотобойню. Консервный завод «Брюля и Тегерсена» в Зауральске остался без сырья и к весне заглох.
Не выдержав конкуренции с маслодельными артелями, остановились и заводы датчан по переработке молока.
Никита денег не жалел. В январе получилась заминка с Крестьянским банком, и Фирсов потянулся к деньгам Дарьи Видинеевой. В правление сибирских маслодельных артелей, по настоянию Никиты, вошел Никодим. «Большого ума человек. Дельный работник», – говорил он членам правления про Елеонского.
Глава 20
В конце мая 1913 года к дому Фирсова подкатила дорожная коляска, из нее вышел господин средних лет, одетый в пепельного цвета макинтош с желтыми отворотами из шагреневой кожи. На ногах были одеты модные ботинки. Перекинув привычным движением трость с серебряным набалдашником, он протер носовым платком пенсне с золотой пружиной. Продолговатое, нездорового оттенка лицо, с бесцветными глазами, над которыми свисали дряблые мешочки, тонкие бескровные губы, маленькие завитые колечком усики, длинный стручковатый нос и вся как бы расслабленная фигура приезжего были неприятны.
– Скажите, пожалста, это дом Фирсоф? – с заметным акцентом спросил он выходившую из ворот стряпку Марию.
– Ага. Только Никиты Захаровича дома‑то нету. Вам его, поди, надо. Ладно, скажу хозяйке, – Мария повернула обратно в дом. Приезжий смахнул платком пыль с макинтоша и, не торопясь, последовал за ней.
Увидев незнакомого человека, Василиса Терентьевна смутилась. В последнее время в их дом постоянно заходили прилично одетые люди и вежливо просили хозяина о помощи.
– Гони их в шею, стрекулистов, – сердито говорил Никита жене. – Бездельники, балаболки. Умеют только языком чесать.
Но богатый костюм гостя, манера держать себя свободно возымели свое действие, и Василиса Терентьевна пригласила его в дом.
– Мартин Тегерсен, – подавая хозяйке руку, отрекомендовался приезжий. Сняв в передней макинтош, он повесил мягкую фетровую шляпу и, мимоходом взглянув на себя в зеркало, вошел в богато обставленную гостиную.
Усевшись на стул, он не спеша разгладил складки брюк и вежливо спросил:
– Ви супруг Никит Захарович Фирсоф?
– Ага. – Василиса Терентьевна не знала, куда деваться от приезжего «немца», как она мысленно его окрестила, и шумно поднялась со своего стула. – Пойду насчет самоварчика похлопочу, – облегченно вздохнув, она спустилась на кухню.
Мартин стал разглядывать обстановку, но, заслышав легкий шелест платья, выжидательно уставился на дверь.
Показалась Агния. Тегерсен вскочил со стула, церемонно поклонившись, назвал свое имя. Девушка подала руку, и гость почтительно припал к ней. Одетая в поплиновое платье голубого цвета, отделанное дорогим гипюром, Агния произвела на немолодого холостяка сильное впечатление. Полусогнувшись, Тегерсен прижал руку к сердцу и произнес:
– Ошшень рад видеть вас, ви дочь Никит Захарович? – Да, – ответила девушка и показала гостю на стул.
Слегка придерживая складки тщательно выутюженных брюк, Тегерсен опустился на свое место.

– Как вам понравился наш городок?
– Ошшень милый. Увидев вас, я мог бы сказывайть, – вытянув вперед руку, Тегерсен продекламировал:
…Нефольно к этим грюстным берегам
Меня влечет нефидимый сил….
– Как вы чудесно декламируете! – воскликнула Агния, едва сдерживая улыбку, и, увидев входившую Василису Терентьевну, она обратилась к ней: – Мама, господин Тегерсен, оказывается, артист.
– О! Как кофорится рюсский поковорка: «кушайт мед вашим губ», – произнес самодовольно гость.
За чаем Мартин, стараясь быть любезным, болтал без умолку.
Василиса Терентьевна, поглядывая из‑за самовара на гостя, думала: «С виду как будто деловой человек, а стрекочет, как сорока».
Агнии гость понравился и, кокетничая с ним, она строила глазки. Тегерсен несколько раз невольно передвигал свой стул ближе к девушке. Оживленно беседуя, он не заметил, как вошел Никита Захарович и хмуро посмотрел на гостя.
«Хлыст какой‑нибудь из благотворительного общества», – недружелюбно подумал Фирсов и сухо поздоровался с ним.
– Мартин‑Иоган Тегерсен.
Лицо хозяина преобразилось. Состроив радостную физиономию, он заговорил:
– Дорогой ты мой, да каким ветром занесло тебя к нам в Марамыш? Вот не ждали, так не ждали. Мать, – обратился он к Василисе Терентьевне, – принеси‑ко нам бутылочку ренвейна, – и, поманив ее пальцем, сказал на ухо: – Ту, что со спиртом!
Под вечер Никита Захарович помог Тегерсену подняться из‑за стола, и гость, поддерживаемый хозяином, нетвердо зашагал в одну из комнат его обширного дома.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|