
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
ВНИМАНИЕ! 2 страница
Место для пикника было выбрано за Лысой горой, в трех километрах от города.
Это была небольшая возвышенность, покрытая густым лесом, который спускался вниз с восточного склона, круто обрываясь над рекой. Северная сторона ее переходила постепенно в широкую равнину, по которой на десятки километров протянулась таежная глухомань. С вершины открывался чудесный вид на городок, утонувший в зелени деревьев. Справа виднелись небольшие квадратные полоски полей. Стоял теплый августовский день.
В доме Фирсова заканчивались последние приготовления к празднеству Городская стряпуха Лукьяновна, укладывая в корзины румяные булочки, пончики и ватрушки, говорила стоявшему перед ней работнику:
– Ты, Прокопий, вези осторожно, от ухабов отворачивай, а то все перемнешь.
– В сохранности доставлю, Лукьяновна. Што, я не понимаю.
Нагрузив телегу, Прокопий двинулся в путь. Через час он уже суетился на опушке леса, раскладывая содержимое ящиков и корзин.
Вскоре со стороны дороги послышалась песня:
Сосны зеленые с темными вершинами,
Тихо качаясь, стоят…
Впереди большой группы молодых людей в студенческом кителе нараспашку шел Виктор Словцов. Дирижируя, он пел:
Снова я вижу тебя, моя милая,
В блеске осеннего дня…
Глаза Виктора сверкали, на щеках выступил румянец. Виктор поднялся на поляну и взмахнул рукой. Песня смолкла.
– Нашей дорогой хозяйке в день именин – ура! – раздался чей‑то голос.
Молодежь дружно подхватила, и эхо, пролетев над обрывом, замерло в лесу.
Агния подняла глаза от букета полевых цветов, преподнесенных ей Штейером, и взволнованно сказала:
– Спасибо, господа!
Андрей с Ниной Дробышевой отстали от компании и не торопясь поднимались в гору.
Дробышеву нельзя было назвать красавицей. Но немного продолговатое лицо с чуть раскосыми глазами было приятно, в особенности когда она смеялась, обнажая ряд ровных зубов.
– Я так рада, что познакомилась с вами, – говорила она Андрею. – После Одессы Марамыш кажется мне тихой пристанью, но и здесь чувствуется дыхание страны. Я уверена, что живая, прогрессивная мысль найдет и в Марамыше, свой отклик. Скоро, скоро наступит весна. Так будем же ее вестниками! – горячо произнесла она.
– Да, хочется жить и бороться! Хочется отдать все свои силы, все свои знания народу, – досказал ее мысли Андрей.
Дробышева в раздумье, медленно начала обрывать лепестки. Она посмотрела на Андрея и спросила:
– Вы любите Горького? – и, не дожидаясь ответа, продекламировала: – «Это смелый Буревестник гордо реет между молний, над ревущим гневно морем, то кричит пророк победы: «Пусть сильнее грянет буря!» Пусть сильнее грянет буря! – страстно повторила она. – Однако мы отстали, поторопимся, – с оттенком извинения в голосе сказала она.
Они ускорили шаг. Нина продолжала:
– На днях я постараюсь познакомить вас с участником майской забастовки в городе Николаеве, политическим ссыльным Григорием Ивановичем Русаковым. Он очень интересный собеседник. Если бы вы знали, какая огромная внутренняя сила кроется в этом простом человеке, какая глубокая убежденность в правоте идей коммунизма!
– Вот мы и дошли. Слышите? – спросил Андрей.
На поляне звучала песня:
Быстры, как волны,
Дни нашей жизни,
Что день, то короче к могиле наш путь…
На опушке леса пылал яркий костер. Дым, сползая с обрыва, тонкой пеленой висел над рекой, расплывался в наступившей полумгле. Над бором тихо плыли звуки церковного колокола. Прислушиваясь к его медному гулу, Андрей запел:
Вечерний звон,
Вечерний звон,
Как много дум
Наводит он…
Рядом с ним сидела Нина Дробышева. Она, казалось, вся отдалась песне. Пламя костра освещало ее невысокую тонкую фигуру.
Недалеко от костра полупьяный семинарист Пучков спорил с гимназистом Воскобойниковым.
– Я тебе говорю, что платонической любви не существует.
– Ты не понимаешь этого чувства, – упорствовал Воскобойников. – Платоническая любовь – это высший идеал любви.
– Глупость, – обрезал семинарист.
– А по‑твоему, что такое любовь?
– Самое обыкновенное физиологическое чувство с примесью «охов» и «ахов», ведущих в конечном итоге к венцу.
– Это пошло и прозаично.
Гимназист поднялся на ноги и продекламировал:
…Мою любовь широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега…
– Чепуха! – махнул рукой семинарист.
– Полегче! – сердито заговорил Воскобойников.
Разговор перешел на высокие ноты.
Агния поспешила к молодым людям:
– В чем дело, господа?
– Мы спорим с этим ученым мужем о любви. Сей юноша утверждает, что платоническая любовь есть высший идеал. Но скажу, что он так же ошибается сейчас, как и ошибался тогда, когда задумал отравиться со своей Офелией из седьмого класса гимназии и вместо цианистого калия принял касторку. Ха‑ха! – залился пьяным смехом Пучков.
– Прошу вас грязными инсинуациями не заниматься, – побледнев от злости, Воскобойников повернулся спиной к семинаристу.
Агния, подавляя улыбку, взяла его под руку и отошла с ним к костру.
Пикник на Лысой горе затянулся, и ночь решили провести у костра.
Глава 15
На другой день молодежь собралась у Фирсовых. Пришли Нина Дробышева, Пучков, Воскобойников и еще несколько гимназистов. В компании двух молодых людей явился Виктор.
– Михаил Кукарский, – одергивая модный жилет, на котором болталась тонкая позолоченная цепочка карманных часов, отрекомендовался один из них. Рядом с ним стоял человек, одетый в косоворотку и плисовые шаровары, заправленные в сапоги.
«Этот, вероятно, и есть господин «экономист», как назвал его Виктор», – подумал Андрей.
– Иван Устюгов, – подавая руку, сказал тот хрипловатым голосом и внимательно, точно изучая Андрея, посмотрел на него мрачными глазами.
Скуластое лицо Устюгова, с низким покатым лбом, приплюснутым носом, со сросшимися густыми бровями, полными чувственными губами, было неприятно. Устюгов имел привычку широко расставлять ноги, не вынимая при этом рук из карманов шаровар.
– Я очень рад с вами познакомиться, – кивнул он Андрею. – Надеюсь, в моей битве с Кукарским вы будете на стороне «отверженного», каким меня считают в обществе вот этих маменькиных сынков, – кивнул он в сторону гимназистов, столпившихся возле Штейера.
– Не зная ваших убеждений, вексель не выдаю, – улыбнулся Андрей.
– Ловко сказано, – заметил недалеко стоявший от них Кукарский и потер руки.
– Господа, кто желает играть в карты, за мной, – послышался голос Агнии.
Вслед за молодой хозяйкой ушел Штейер и еще несколько гимназистов. В комнате Андрея остались Виктор с Ниной, Устюгов, Кукарский, Воскобойников и Пучков.
Шаркнув ножкой и прижав руку к сердцу, Кукарский остановился перед Дробышевой и продекламировал:
…Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу…
– Вы полны противоречий.
– А именно? – Кукарский почтительно склонил голову.
– Бы не только не молчите в моем присутствии, но и прекрасно декламируете стихи.
– Пардон! Это, так сказать, веление сердца моего… которое напичкано сонетами и чувствительными романсами наподобие фаршированной щуки, – вместо Кукарского насмешливо отозвался из угла Устюгов.
– Вы не понимаете поэзии, – круто повернулся к нему Кукарский.
– Смотря какой, – спокойно ответил тот. – Песенок и романсов, вроде «Негра из Занзибара» и прочей декадентской чепухи, не признаю, так же, как и «Прекрасную даму» Блока, хотя последнего люблю за «Матроса». Устюгов вышел на середину комнаты, широко расставил ноги и хрипло продекламировал:
…И матрос, на борт не принятый,
Идет, шатаясь, сквозь буран.
Все потеряно, все выпито!..
– Моя поэзия, – продолжал он, – поэзия выброшенного из жизни человека, поэзия о грубой правде жизни, а не вздохи о нарциссах. Я отрицаю и некрасовское «Размышление у парадного подъезда», – уже окрепшим голосом сказал он.
– Почему? – спросила его Нина.
– Мужик, по‑моему, должен взять железные вилы и топор, и не размышляя у подъезда, ворваться в хоромы и поднять толстопузого барина на вилы, разгромить, сжечь все дотла, – взгляд Устюгова стал колючим.
– Да ведь это же бунтарство, обреченное на провал, – возразила Дробышева.
– Пускай оно кончается неудачей, но вспышки народного гнева заставят кое‑кого призадуматься о судьбе России, – ответил тот хмуро.
– Задумываться не будут, – поднимаясь со стула, заговорила Нина. – Просто‑напросто перепорют мужиков, и все пойдет по‑старому.
– Что же, по‑вашему, нужно? – спросил ее тот.
– Нужна организация. Без нее немыслима революционная борьба, – четко сказала Дробышева. – Только под руководством марксистской партии возможна победа рабочего класса и трудового крестьянства в тяжелой борьбе с самодержавием. Только при этих условиях мир обновится, станет радостным и светлым.
– У меня иной взгляд на судьбу России, – хмуро ответил Устюгов.
– Какой? – спросила Нина.
– Для того, чтобы народ был счастлив, нужно разрушить церкви, театры, музеи, фабрики, заводы, станки, сжечь все, обратить в пепел, развеять по ветру и начать новую жизнь. Человек новой жизни должен трудиться, одеваться в сотканную им самим одежду, его единственным оружием должна быть дубина. Все зло, все несчастия людей происходят от машин и прогресса.
– …Значит, согласно вашей идее, мы должны вернуться к пещерному веку? – спросил его Виктор.
– Да, – решительно тряхнул головой Устюгов.
– Могу вас порадовать, что своим мышлением вы недалеко ушли от той эпохи, ярым проповедником которой являетесь. Признаться, – продолжал он с сарказмом, – на этом поприще вы делаете успехи. Я надеюсь, – уже не скрывая своего насмешливого тона, сказал Словцов, – что очередной своей декларацией вы объявите «Сумасшедшего» Апухтина.
В комнате послышался сдержанный смех.
Улыбнувшись, Виктор продолжал:
– Но у апухтинского героя все же были проблески сознания, что, к сожалению, незаметно у нашего нового пророка.
– Браво, Словцов, – вскочив с мест, захлопали присутствующие. Нина улыбнулась.
– Вы берете под сомнение мои умственные способности? – обиделся Устюгов.
– Нет, конечно, – ответил Виктор, – но вся беда в том, что вы не понимаете самого главного.
– А именно?
– Что весь корень зла, о котором вы говорили, заключается в непонимании роли пролетариата, непонимании того, что он является единственной силой, способной вывести наш русский народ на дорогу свободы и счастья, а отсюда шараханье в крайности и призывы к пещерному веку.
– Может быть, вы и правы, – задумчиво произнес Устюгов.
Виктор подошел к нему вплотную и, положив руку на его плечо, проникновенно сказал:
– Устюгов, вы неплохой человек, но идете не по той дороге, по которой вам, сыну крестьянина, надлежало бы итти. Вспомните свое детство, о котором вы мне говорили, нужду и дикость деревенской жизни. Сейчас, когда ваши знания особенно нужны народу, вы витаете где‑то в эмпиреях, в мире беспочвенных и вредных суждений. Надо глубже понять страдания народа, вернуться к реальной жизни. Поверьте мне, – страстно продолжал Словцов, – что все эти разговоры о разрушении машин, идея возврата к патриархальной жизни – пагубная утопия, уводящая от основного – борьбы с капитализмом.
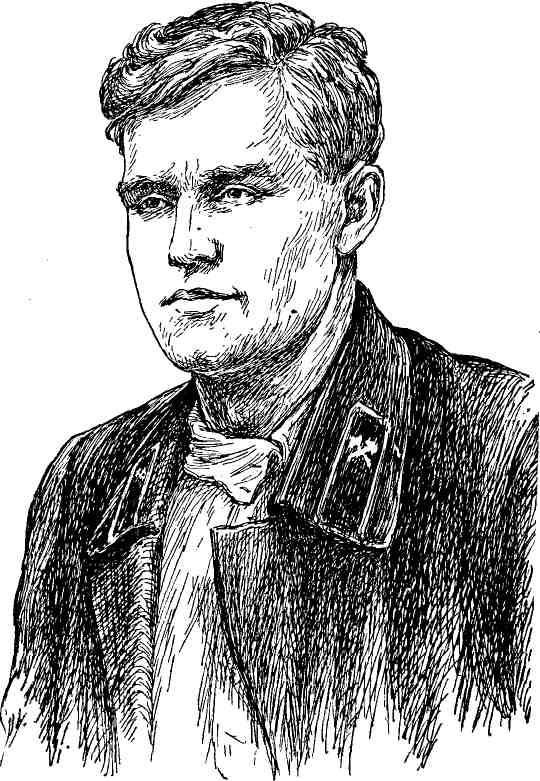
– Зря вы, Устюгов, отрицаете цивилизацию, науку. В ней, в частности, заложена идея «гражданина мира», как высший идеал человечества, – заметил молчавший Кукарский. – Да, гражданин мира, – продолжал он восторженно, – гражданин вселенной! – Сделав театральный жест, Кукарский продолжал: – Правда ведь, гордо звучит? – обратился он к Нине.
– Да. Человек – это звучит гордо, но я вижу в подлинном смысле человека лишь в труде и борьбе, – задумчиво ответила девушка. – Когда будет достигнута свобода, когда человек труда станет хозяином, а не рабом, когда ему будут принадлежать духовные и материальные ценности страны, только тогда он оправдает слова Горького.
В комнате настала минутная тишина.
Как бы сглаживая произведенное впечатление, Кукарский спросил:
– А гражданин мира?
– Вредная утопия, – ответил за Нину Словцов и, повернувшись к девушке, извинился. Та улыбнулась.
– Продолжайте, – кивнула она.
Виктор взволнованно заговорил:
– Вспомните слова Белинского: «Кто не любит отечество, тот не любит и человечество». И, если верить вашему «гражданину мира», – повернулся он к Кукарскому, – то я, как русский человек, должен отказаться от своей родины, должен отбросить национальные патриотические традиции, нашу культуру, ее богатства, значит, я должен отказаться от Пушкина, Льва Толстого, Чернышевского. Ведь это же безумие! – потряс он кулаком. – Ваш «гражданин мира» отрицает самостоятельное существование государства и его право на самоуправление. Ваш «гражданин мира» стоит за уничтожение национальной независимости народов. Да ведь это, наконец, подлость! – выкрикнул он. – Это самая последняя ступень падения человека! – Бледное лицо Словцова покрылось красными пятнами.
В комнате наступило тяжелое молчание.
– Отказаться от интересов своей родины, быть чужим своему народу, его культуре – значит стать предателем, – глухо произнес Виктор. – Вот к чему ведет ваша философия.
Глаза Кукарского растерянно забегали по слушателям.
…Вечер у Фирсовых закончился поздно. Нина и Словцов вышли вместе. Ночь была светлой. Подняв воротник шинели, Виктор сказал своей спутнице:
– Жаль, что сегодня не было Русакова.
– И я очень жалею об этом, – ответила девушка. – Его присутствие принесло бы большую пользу.
Простившись с Ниной, Словцов направился к своей квартире.
Глава 16
Проводив своих гостей, Андрей зашел в гостиную, где все еще сидели друзья Агнии: поручик Штейер и новый помощник присяжного поверенного Жорж Стаховский, недавно приехавший в Марамыш.
Агния представила Стаховского брату. Андрей поклонился и молча сел. Разговор шел о «Грозе» Островского, которую ставили на днях местные любители драматического искусства. Говорил Стаховский:
– Идея перпетуум‑мобиле – этого вечного двигателя, над созданием которого трудился один из персонажей Островского, напоминает мне безумцев, которые стремятся к коренному переустройству общества и видят спасение России в пролетарской революции.
Штейер, не спуская глаз со своего собеседника, утвердительно кивнул головой.
– Боже мой, как это скучно, опять свели на политику, – не скрывая своей досады, капризно протянула Агния. – Сколько можно говорить! Неужели нет более интересных тем?
– Пардон, – Стаховский поднялся со стула. Его угреватое, с синими прожилками лицо расплылось в улыбке. – Я очень рад, что в лице Константина Адольфовича нашел единомышленника, – кивнул он в сторону Штейера. Тот самодовольно погладил свой подбородок.
– Надеюсь, что и вы, Андрей Никитович, разделяете мои убеждения?
– Я воздерживаюсь от дискуссии, – сухо ответил Фирсов. – Нет настроения, – добавил он и, поклонившись, вышел.
«Болтуны, – подумал он про гостей Агнии. – Спорить не с кем, да, пожалуй, и бесполезно».
Андрей ушел в свою комнату и лег спать. Он долго ворочался на постели, пытаясь уснуть. Вспомнил Устюгова, полемику с Кукарским, затем выплыло взволнованное лицо Виктора. Андрею казалось, что он слышит его гневные слова: «…отказаться от интересов своей родины, быть чужим своему народу, можно ли после этого называться человеком».
Фирсов долго лежал с открытыми глазами, и лишь когда за окном начал брезжить рассвет, он забылся тревожным сном.
Поднималось солнце; позолотило церковные кресты и, спускаясь с соборного купола, зайчиками заиграло на окнах домов.
Было слышно, как открывались калитки да хлопали железные засовы ставней. На улице пронеслось протяжное: «У‑угли! У‑угли!»
Марамыш просыпался. Открылись магазины, лавки. Послышался бойкий говор приказчиков, неторопливая речь прасолов, идущих на конный базар. Проковылял, ощупывая заборы, слепой нищий и, усевшись на углу двух улиц, гнусаво затянул «Лазаря». Прошел седобородый купец в стеганом картузе; истово перекрестился на церковь и, опустив в шапку нищего три копейки, вынул из нее пятачок.
Солнце поднималось все выше и выше, освещая топкие берега речушки, где на шатких плотцах, переругиваясь с водовозами, стирали белье говорливые мещанки.
Андрей проснулся поздно. Распахнул окно; легкий, освежающий ветерок хлынул в комнату. Наскоро выпив стакан чаю, он направился к Виктору. Словцова он нашел под навесом старого сарая. Виктор выпиливал из фанерного листа рамки для портретов.
– Вступай в наш кооператив, – сказал он весело, протягивая Андрею руку. – Правда, членов только двое, я да Марковна, но по уставу открыт доступ и другим. Как ты думаешь, Марковна, – крикнул он проходившей мимо сарая старушке, – можно Андрея Фирсова принять в наше кооперативное общество?
– Можно, – махнула та приветливо рукой. – Только пускай со своим инструментом идет.
– Она у меня человек практичный. Покупай лобзик и включайся в общественную форму труда.
Виктор повел своего друга в комнату.
– Ну как спалось? – спросил он Андрея.
– Плохо. Все еще нахожусь под впечатлением вчерашних споров.
– Да, – задумчиво произнес Виктор. – Иван Устюгов искренен, его еще можно убедить в ошибочности его взглядов, но Кукарский – это законченный тип меньшевика. – Помолчав, Виктор продолжал: – Есть еще один серьезный противник, адвокат Стаховский. Он причисляет себя к лагерю реформаторов и является сейчас председателем клуба приказчиков в Зауральске. Между прочим, эта организация сильная и служит опорой местных меньшевиков.
Поговорив с Андреем о городских новостях, Виктор заметил:
– Кстати, я обещал тебя познакомить с Григорием Ивановичем Русаковым. У тебя есть намерение пойти сейчас к нему?
– Да, – ответил Андрей. – Знакомство с Русаковым мне обещала и Нина Дробышева.
Приближаясь к ямщицкой слободке, где жил ссыльный, Виктор продолжал:
– Русаков большой оптимист. Ни тяжелые условия ссылки, ни каторжные этапы – ничто не сломило бодрость его духа. Наоборот, в нем как бы сконцентрировалась воля к борьбе.
– Епифан! – крикнул Словцов парню, сидевшему на скамейке небольшого домика, – Григорий Иванович дома?
– Дома, дома, заходите, – высунув голову из окна, ссыльный приветливо помахал им рукой. Встретил он гостей на крыльце.
– Давненько не был, – сказал мягким баритоном Русаков, крепко пожимая руку Словцову.
– Знакомьтесь, – Виктор повернулся к своему другу.
Андрей почувствовал в своей руке широкую ладонь ссыльного и с уважением пожал ее.
– Ваша фамилия мне знакома. Вы не сын хлеботорговца Фирсова? – Глаза Русакова внимательно посмотрели на Андрея.
– Да.
– Слышал о вас и о вашем папаше, – произнес он слегка сдвинув брови. – Проходите в комнату.
Андрей прошел кухню, у порога которой сидел, ковыряя шилом хомут, хозяин дома Елизар Батурин. Андрей вошел к Русакову. В углу стояла простая железная кровать, затянутая цветным пологом, три стула, возле окна – небольшой стол, на столе – книги.
– Прошу, – Григорий Иванович подвинул стул Андрею и обратился к Словцову: – Как здоровье Марковны? – Видимо, Русаков был у Виктора постоянным гостем.
– Бегает, – ответил тот. – Беспокойная старуха.
Григорий Иванович внимательно посмотрел на Фирсова.
– Что‑то я вас не видел раньше. Вы здесь живете? – обратился он к Фирсову.
– Нет, я учусь в Петербурге. Каникулы провожу в степи на мельнице отца, у знакомого мне механика.
– Почему не дома?
– Во‑первых, я не разделяю взглядов отца на жизнь, во‑вторых, я живу самостоятельно.
– И это еще не все, – вмешался Виктор в разговор. – Там недалеко от мельницы есть у него симпатия. – Словцов знал об отношениях Андрея к Христине Ростовцевой.
– Что же, все это достаточно веские причины, они делают честь Андрею Никитичу. Устенька! – крикнул он в соседнюю комнату. – Самоварчик бы нам.
Поправляя на ходу косу, Устинья прошла в кухню. Фирсов успел заметить ее красивую, статную фигуру.
– Между прочим, у Никиты Фирсова есть интересный субъект, – заговорил Словцов и, улыбнувшись Андрею, продолжал: – Хотите расскажу о встрече с ним? – Виктор закурил.
– Однажды иду по улице, день был праздничный. Смотрю, навстречу мне шагает какой‑то огромный человечище. Вытянул руки и рычит, аки зверь: «Варав‑ва, дай облобызаю». Винищем прет от него за версту. «Скорбна юдоль моя. Эх, студиоз, студиоз, – похлопал он меня по плечу. – Пойдем, говорит, в кабак». Облапал меня ручищами и загудел, как колокол:
…Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье…
«Пью я, студиоз. Пью и буду пить, пока чортики перед глазами не запрыгают». Умный человек, говорю, до такого состояния никогда не дойдет. «А я что, по‑вашему, дурак?» – Я не сказал этого. – «Может, я пью от неустройства жизни, а?» – Не знаю, но человек себе хозяин. – А он так ехидно: «Если ты хозяин, поезжай обратно в Петербург, в свой университет». Чтобы отвязаться от пьяного Елеонского, отвечаю шуткой: – Рад бы в рай, да грехи не пускают. «Вот то‑то и оно, – расстрига поднял указательный палец и изрек: бог есть внутри нас, остальное все переменчиво. Адью», – и, приподняв над головой рваный картуз, шаркнул босой ногой и, напевая что‑то церковное, зашагал от меня в переулок.
Внимательно слушая Виктора, Русаков прошелся раза два по комнате.
– Теория богоискательства не нова, – начал он. – За последние годы, в особенности после поражения революции 1905 года, ею начали увлекаться слабонервные интеллигенты. – Григорий Иванович провел по привычке рукой по волосам и продолжал не спеша:
– Нашлись так называемые «новые апостолы» марксизма, в частности Базаров, Берман и другие, и последователи у них нашлись типа Елеонского.
Андрей заметил, что последнюю фразу Русаков произнес с нескрываемым презрением.
– …Мы должны бороться с любой разновидностью религии. Это азбука всего материализма и, следовательно, марксизма, так учит Ленин. Кстати, у меня сохранился экземпляр газеты «Пролетарий», где опубликована передовая статья Ленина «Об отношении рабочей партии к религии». Советую вам ее почитать. Одну минутку. – Русаков вышел из комнаты.
Было слышно, как за ним скрипнула дверь. Через некоторое время Григорий Иванович с довольным видом передал газету Андрею.
– Только прошу вернуть. Очевидно, она еще нам потребуется.
Вскоре на пороге комнаты показалась Устинья с самоваром. Поставила его на стол и украдкой посмотрела на Андрея, которого она знала понаслышке.
«На Сергея‑то не похож, больше на мать», – подумала девушка и стала расставлять посуду.
В дверь просунулась голова Епихи и вскоре скрылась.
– Епифан, заходи в комнату, – заметив парня, пригласил его Григорий Иванович.
Епиха робко переступил порог и остановился в нерешительности.
– Заходи, заходи, не бойся, – подбадривал его Русаков и подвинул стул.
– Это брат Сергея Фирсова, Андрей, – показал он на сидевшего рядом с Виктором Андрея. – Тоже социалист, как и я.
– Ты суди, – недоверчиво протянул Епиха и уселся на краешек стула. – Диво берет, – продолжал он, осмелев, – Сергей Никитович‑то, говорят, весь в отца и капиталом ворочает не хуже Никиты Захаровича, а вы, стало быть, больше по ученой части? – оглядывая плотную фигуру Андрея в студенческой тужурке, спросил он.
– Будущий инженер, – ответил за Фирсова Виктор.
Епиха робко подвинул свой стул ближе к Русакову, к которому он с первых же дней знакомства почувствовал большое доверие. Разговор затянулся до вечера.
Глава 17
Был тихий августовский вечер. Над котловиной города, купаясь в лучах заходящего солнца, медленно плыли с полей серебряные нити паутинок.
Русаков переоделся и направился в мастерскую, которую Елизар Батурин вместе со своим квартирантом устроили из старой, когда‑то заброшенной бани, стоявшей в глухом переулке. Русаков раздул угли и, сунув в них паяльник, осмотрел старый, позеленевший самовар, который дал течь.
В мастерскую пришел Епиха; он молча уселся на мельничный жернов, лежавший недалеко от порога, и стал наблюдать за работой Русакова.
Стачивая рашпилем заусеницы и наплывы олова, Григорий Иванович спросил:
– Ты умеешь отгадывать загадки?
– А ну‑ко, может, отгадаю, – Епиха в нетерпении полез в карман за кисетом.
Русаков, отложив рашпиль, уселся рядом с парнем.
– Вот тебе загадка: один с сошкой, семеро с ложкой. Отгадай.
Закурив, Епиха задумался.
– Не знаю, – признался он мастеру. – Мудреная какая‑то.
Тот улыбнулся.
– Эх ты, горе луковое, – похлопал он по плечу парня. – А еще хвалился, что умеешь отгадывать. Слушай: это мужик пашет землю, а за ним с ложками в руках тянутся поп, староста, урядник, писарь и другие захребетники.
Лицо Епихи озарилось улыбкой:
– А ведь верно, Григорий Иванович. Как это я не догадался.
Часто молодой Батурин заходил к мастеру покурить вместе со своими приятелями Осипом и Федоткой.
Обычно парни усаживались на старый жернов и молча вынимали кисеты. Григорий Иванович, отложив в сторону начатую работу, подходил к ребятам.
– Закури‑ко нашего, уральского, – предложил Русакову Федотко.
Ссыльный не торопясь свертывал цыгарку и, затянувшись табаком, одобрительно кивал головой:
– Крепок.
– Самосад, – довольный Федотко переглянулся лукаво с товарищем. – Прошлый раз дал покурить одному антиллигенту, так он чуть от дыма не задохнулся, – усмехнулся парень.
– А что такое «антиллигент»? – Григорий Иванович вопросительно посмотрел на Федотку.
– Антиллигент – это значит, – ответил бойко Федотко и презрительно сплюнул, – тот, кто носит брюки на выпуск и галстук бантиком.
– Нет, ребята, не так надо понимать это слово, – сказал Русаков.
– А мы не про всех, – оправдывался Федотко.
– Про кого, например?
– О тех, кто нос задирает перед нашим братом, – отозвался Осип.
– По‑вашему, если человек одет по‑городскому, значит он интеллигент?
– Ясно, – кивнул головой Епиха.
– Нет, не ясно, – горячо заговорил Русаков. – Настоящий интеллигент – это тот, кто зарабатывает хлеб своим трудом и знания которого идут на пользу народа, ну, например, учитель, доктор, писатель. Но и интеллигенты бывают разные. Иные служат верой, правдой трудовому народу, иные свои знания продают хозяину‑капиталисту, защищают его интересы, тех и других в один ряд ставить нельзя…
– Вы слышали про таких интеллигентов, как Белинский, Чернышевский и Добролюбов? – спросил Григорий Иванович.
Парни, забыв обо всем, не опускают внимательных глаз с ссыльного, рассказывающего о героической жизни революционных демократов.
Наступает вечер. В переулке, где стоит мастерская, тихо ложатся от заборов мягкие тени.
Ребята неохотно поднимаются с жернова.
– Приходите почаще, нам еще о многом надо поговорить, – пожимая им руки, говорит Русаков и, простившись, закрывает мастерскую.
* * *
Как‑то зимой, подрядившись везти зерно в Челябинск на архиповекую мельницу, Епиха по привычке забежал к Русакову, который только что вернулся из мастерской.
– Еду утром в уезд. Оттуда подрядили везти муку в горы, – заявил он Григорию Ивановичу. – Идет целый обоз.
– Что ж, поезжай, кстати, не сможешь ли ты, Епифан, передать письмо одному человеку. Как его найти, я тебе расскажу.
Вынув из кармана пиджака небольшой конверт, он передал его Епихе: – Письмо очень важное и передать нужно лично в руки. Сможешь ли ты это сделать? – Глаза Русакова смотрели на Епиху серьезно, даже строго.
Парень замялся.
– Тут что, насчет политики?
– Да, – ответил твердо Русаков, – я на тебя надеюсь, Епифан, спрячь только подальше.
– Боязно как‑то, Григорий Иванович, – неуверенно протянул Епиха. – А вдруг кто узнает? Тогда как?
– Пойдем оба в Сибирь, – улыбнулся Русаков и шутливо сдвинул шапку Епифана ему на глаза. – Волков бояться – в лес не ходить.
Веселый тон ссыльного ободрил Епиху и, поправив шапку, он ответил:
– Ладно, передам.
Дней через десять Епифан привез Русакову ответ.
– Ну и дружок у тебя живет в Челябе, принял, как родного брата, – рассказывал Епиха ссыльному. – Прихожу с письмом, прочитал и повел меня в горницу. Правда, домишко у него неказистый и сам одет бедно, но душевный человек. Напоил чаем, сходил со мной на постоялый. Помог запрячь мне лошадей и увез к себе. Три дня у него жил. Не отпускает на постоялый, да и все. Велел тебе поклончик передать и вот эту книгу. – Епиха полез за пазуху и вынул завернутую в газетную обложку книгу.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|