
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Еще раз о местепризнакам замечаю, что мы всего 595 поэзии 6 страница
Протарх. Совершенно верно.
Сократ. Вот теперь сила блага перенеслась у нас в природу прекрасного, ибо умеренность и соразмерность всюду становятся красотой и добродетелью.
Протарх. Без сомнения.
С о к р а т. Но мы сказали, что к соединению их примешана также истина.
Протарх. Разумеется.
Сократ. Итак, если мы не в состоянии уловить бла-
plQ ООО о
го одной идеен, то поймаем его тремя — красотой, со- 65 размерностью и истиной; сложив их как бы воедино, мы скажем, что это и есть действительная причина того, что содержится в смеси, и благодаря е^ благости самая смесь становится благом.
Протарх. Это как нельзя более верно.
Сократ. Стало быть, Протарх, теперь всякий из нас может быть сведущим судьей относительно удовольствия и разумения: которое из них более сродно высшему благу и что драгоценнее у людей и у богов, ь
Протарх. Видимо, так, хотя лучше рассмотреть это путем рассуждения.
Сократ. Будем же судить об отношении трех [названных начал] к удовольствию и уму, беря их порознь. Ибо нужно посмотреть, к удовольствию или к уму мы отнесем каждое из них как более сродное.
Протарх. Ты имеешь в виду красоту, истину и меру?
Сократ. Да. Прежде всего возьми, Протарх, истину. Взяв ее и присмотревшись к трем [началам] — с уму, истине и удовольствию, выжди подольше и затем отвечай самому себе, что более сродно истине — удовольствие или ум?
Протарх. К чему тут время? Думаю, что между ними — большое различие. Ведь, как говорят, ничему так не присуща хвастливость, как удовольствию, а в любовных наслаждениях, которые кажутся самыми сильными, боги прощают даже клятвопреступление, так как наслаждения, словно дети, лишены всяких а признаков ума. Ум же либо тождествен с истиной, либо всего более ей подобен и близок.
Сократ. Вслед за этим рассмотри таким же образом умеренность: удовольствие ли обладает ею в большей степени, чем разумение, или разумение в большей степени, чем удовольствие?
Протарх. И эту предложенную тобой задачу решить нетрудно. Я думаю, в целом мире нельзя найти ничего столь неумеренного по природе, как удовольствие и ликование, и. ничего столь проникнутого мерой, как ум и знание.
е Сократ. Прекрасно сказано. Но упомяни еще и о третьем: в большей ли степени причастен наш ум красоте, чем род удовольствия,— так что он прекраснее последнего, или же наоборот?
Протарх. Что касается разумения и ума, Сократ, то никто никогда ни наяву, ни во сне не видел и не думал никоим образом, что ум был, есть или будет безобразным.
Сократ. Правильно.
Протарх. Что же касается удовольствий, и притом, пожалуй, величайших, то, когда мы видим кого-либо им предающегося и подмечаем в них либо нечто смеш- 66 ное, либо в высшей степени безобразное, мы и сами стыдимся и стараемся отвернуться, предоставляя все это ночи, как то, что не должно видеть свету.
Сократ. Стало быть, ты, Протарх, будешь всячески утверждать, и через вестников и лично обращаясь к присутствующим, что удовольствие не есть ни первое достояние, ни даже второе, но что на первом месте как бы стоит все относящееся к мере, умеренности и своевременности и все то, что, подобно .этому, принадлежит вечности.
П р о т а р х. Из сказанного сейчас это представляется очевидным.
Сократ. Второе место занимают соответствующее, ь прекрасное, совершенное, самодовлеющее и все то, что относится к этому роду.
П р о т а р х. Похоже на то.
Сократ. Поставив же на третье место, согласно моей догадке, ум и разумение, ты, я думаю, не очень уклонишься от истины.
П р о т а р х. Пожалуй.
Сократ. Ты не ошибешься также, отведя четвертое место сверх только что названных трех тому, что было. признано нами свойствами самой души,— знаниям, искусствам и так называемым правильным мнениям, 0 коль скоро все это более родственно благу, чем удовольствие. Не правда ли?
П р о т а р х. Может быть.
Сократ. Не поставить ли на пятом месте те удовольствия, которые мы определили как беспечальные и назвали чистыми удовольствиями самой души, сопровождающими в одних случаях знания, а в других — ощущения?
П р о т а р х. Пожалуй.
Сократ. «На шестом же колене 60,—говорит Орфей,— прервите песенный строй». По-видимому, и наше рассуждение прерывается на шестом выводе. После этого нам остается лишь увенчать сказанное заключе- d ние 61.
П р о т а р х. Да, это следует сделать.
Сократ. Итак, третья чаша — богу-хранителю 62. Давайте вновь пересмотрим наше рассуждение и подкрепим его доводами.
П р о т а р х. Какое рассуждение? ч
Сократ. Филеб утверждал, что удовольствие есть полное и совершенное благо.
П р о т а р х. Ты, Сократ, сказал только что: «третья», разумея, видно, что нужно еще раз обозреть наше рассуждение с самого начала.
Сократ. Да. Выслушаем же следующее. Предвидя в все то, что нами теперь рассмотрено, и досадуя на довод, приводимый не только Филебом, но часто и многими другими, я сказал, что в человеческой жизни ум гораздо лучше и превосходнее, чем удовольствие.
П.р о т а р х. ..Это было.
Сократ. Подозревая при этом, что существует много другого в таком же роде, я сказал, что, если обнаружится нечто лучшее, чем ум и удовольствие, я буду .
сражаться за второе место для ума, против удовольствия, и это последнее лишится даже второго места.
67 П р о т а р х. Да, ты говорил это.
Сократ. Но потом наиболее удовлетворительным оказалось то, что ни одно ни другое не удовлетворительно.
П р о т а р х. Сущая правда.
Сократ. Не были ли в тогдашнем рассуждении совершенно отброшены и ум, и удовольствие как лишенные самодовлеющего значения, а также достаточности и совершенства, ибо ни то ни другое не оказалось благом?
П р о т а р х. Вполне правильно.
Сократ. Когда же обнаружилось иное, третье [начало], лучшее каждого из упомянутых двух, ум оказался бесконечно более близок и сроден по своей природе с победившей его идеей, чем удовольствие.
Протарх. Без сомнения.
Сократ. Таким образом, согласно приговору, вынесенному теперешним рассуждением, способность к удовольствиям должна занимать пятое место.
Протарх. По-видимому.
ь Сократ. Первое же место ей ни в каком случае не принадлежит, хотя бы это утверждали все быки, лошади и прочие животные на том основании, что сами они гоняются за удовольствиями. Веря им, как гадатели верят птицам, большинство считает удовольствия лучшим, что есть в жизни, и готово скорее руководствоваться скотскими похотями, чем страстью к вещаниям философской Музы.
Протарх. Мы все теперь согласны, Сократ, что ты говоришь совершенную истину.
Сократ. Значит, вы отпускаете меня?
Протарх. Осталось еще немногое, Сократ, и ты, конечно, не уйдешь отсюда раньше нас. А я напомню тебе, что еще остается.
ГОСУДАРСТВО
Сократ, Главной, Полемарх, ФрасНмах,
Адимант, Кефал
КНИГА ПЕРВАЯ
[Сократ]. Вчера я ходил в Пирей вместе с Главно- 327 ном, сыном Аристона, помолиться богине, а кроме того, мне хотелось посмотреть, каким образом справят там ее праздник,— ведь делается это теперь впервые. Прекрасно было, по-моему, торжественное шествие местных жителей, однако не хуже оказалось и шествие фракийцев *.
Мы помолились, насмотрелись и пошли обратно в город, ь
Увидев издали, что мы отправились домой, Полемарх, сын Кефала, велел своему слуге догнать нас и попросить, чтобы мы его подождали. Слуга, тронув меня сзади за плащ, сказал:
— Полемарх просит вас подождать его.
Я обернулся и спросил, где же он.
— Да вон он, подходит, вы уж, пожалуйста, подождите.
— Что ж, подождем,— сказал Главкон.
Немного погодя подошел и Полемарх, а с ним Ади- с мант, брат Главкона, и Никерат, сын Никия, и еще кое- кто, также, вероятно, с торжественного шествия.
Полемарх сказал:
— Сдается мне, Сократ, вы спешите вернуться в город.
— Ты догадлив, — сказал я.
— А разве ты не видишь, сколько нас здесь?
— Как же не видеть!
— Вот вам и придется либо одолеть всех нас, либо остаться здесь.
— А разве нет еще и такого выхода: убедить вас, что надо нас отпустить?
— Как же можно убедить тех, кто и слушать-то не станет?
— Никак,— сказал Главкон.
— Вот вы и учтите, что мы вас не станем слушать, зге Адимант добавил:
— Неужели вы не знаете, что под вечер будет конный пробег с факелами 2 в честь богини?
— Конный? — спросил я.— Это нечто новое. Будут передавать из рук в руки факелы при конных ристаниях? Так я тебя понял?
— Да, так,— сказал Полемарх, — и вдобавок будут справляться ночные торжества, а их стоит посмотреть. После ужина мы пойдем смотреть празднество, и здесь можно будет встретить много молодых людей и побе-
ь седовать с ними. Пожалуйста, останьтесь, не раздумывайте.
Главкон отвечал:
— Видно, придется остаться.
— Раз уж ты согласен,— сказал я, — так и поступим.
И мы пошли к Полемарху 3 домой и застали там Лисия и Евтидема, его братьев, а также халкедонца Фраси- маха, пэанийца Хармантида и Клитофонта, сына Аристо- нима. Дома был и отец Полемарха Кефал — он мне показался очень постаревшим: прошло ведь немало време-
с ни с тех пор, как я его видел. Он сидел на подушке в кресле с венком на голове, так как только что совершал жертвоприношение 4 во внутреннем дворике дома. Мы уселись возле него — там кругом были разные кресла.
Чуть только Кефал меня увидел, он приветствовал меня такими словами:
— Ты, Сократ, не частый гость у нас в Пирее. Это напрасно. Будь я еще в силах с прежней легкостью выбираться в город, тебе совсем не понадобилось бы ходить
а сюда — мы бы сами посещали тебя там; но теперь ты должен почаще бывать здесь: уверяю тебя, что, насколько во мне угасли всякие удовольствия, связанные с телом, настолько же возросла потребность в беседах и удовольствии, связанном с ним. Не уклоняйся же от общения с этими молодыми людьми и посещай нас, мы ведь с тобой друзья и близкие знакомые.
— Право же, Кефал, — сказал я, — мне приятно бе~
е седовать с людьми преклонных лет. Они уже опередили
нас на том пути, который, быть может, придется пройти и нам, так что, мне кажется, нам надо у них расспросить, каков этот путь — тернист ли он и тягостен или удобен и легок 5. Особенно от тебя, раз уж ты в таких летах, когда стоишь, по словам поэтов, «на пороге старости» 6,
мне хотелось бы узнать, в тягость ли тебе жизнь. Или тебе кажется иначе?
— Тебе, Сократ,— отвечал Кефал,— я, клянусь Зев- 329 сом, скажу так, как мне кажется. Часто сходимся мы вместе, люди примерно тех же лет, что и я, оправдывая старинную поговорку 7. И вот, когда мы соберемся, большинство из нас сокрушенно вспоминают вожделенные удовольствия юности — любовные утехи, попойки, пирушки и тому подобное — и брюзжат, словно это для нас великое лишение: вот тогда была жизнь, а теперь разве жизнь! А некоторые старики жалуются на родственни- ь ков, помыкающих ими, и тянут все ту же песню, что старость причиняет им множество бед. А по мне, Сократ, они напрасно ее винят: если бы она была причиной, то и
я испытывал бы то же самое, раз уж я состарился, да и все прочие, кто мне ровесник. Между тем я не раз встречал стариков, у которых все это не так; например, поэту Софоклу был при мне задан такой вопрос:
«Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли с ты еще иметь дело с женщиной?» — «Что ты такое говоришь, право,— отвечал тот.— Да я с величайшей радостью избавился от этого, как убегает раб от необузданного и лютого господина».
Ответ Софокла мне и тогда показался удачным, да и теперь нравится не меньше. Ведь в старости возникает полнейший покой и освобождение ото всех этих вещей; ослабевает и прекращается власть влечений, и во всех отношениях возникает такое самочувствие, как у Софокла 8, то есть чувство избавления от многих неистовст- а вующих владык. А [огорчения] по поводу этого, как и домашние неприятности, имеют однуч причину, Сократ,— не старость, а самый склад человека. Кто вел жизнь упорядоченную и был добродушен, тому и старость лишь в меру трудна. А кто не таков, тому, Сократ, и старость, и^1Ш5дасть’бывает в тягость.
В восхищении от этих его слов и желая вызвать его на дальнейший разговор, я сказал:
— Мне думается, Кефал, что люди, скажи ты им это, е не согласятся с тобой, они решат, что ты легко переносишь свою старость не потому, что ты человек такого склада, а потому, что ты обладатель большого состояния. Они считают, что у богатых есть чем скрасить старость.
— Ты прав,— сказал Кефал, — они не согласятся и попытаются возражать. Но их доводы не так уже весомы, а вот хорош ответ Фемистокла одному серифийцу, кото-
рый поносил его, утверждая, что своей славой Феми- стокл 9 обязан не самому себе, а своему городу: «Правда, я не стал бы знаменит, будь я серифийцем, зато и тебе не прославиться, будь ты хоть афинянином». Точно так же можно ответить и тем небогатым людям, которым тягостна старость: да, и человеку кроткого нрава, но бедному легко переносить старость в бедности, но уж человеку дурного нрава, как бы богат он ни был, старость всегда будет тягостна.
— А то, чем ты владеешь, Кефал,— спросил я,— ты большей частью получил по наследству или сам приобрел?
— Куда уж мне приобрести, Сократ! Как делец, я где-то посередине между моим дедом и моим отцом. Мой дед — его звали так же, как и меня,— получил в наследство примерно столько, сколько теперь у меня, но во много раз увеличил свое состояние, а мой отец Лисаний довел его до меньших размеров, чем теперь у меня. Я буду доволен, если оставлю вот им в наследство не меньше, а немножко больше того, что мне досталось.
— Я потому спросил,— сказал я, — что не замечаю в тебе особой привязанности к имуществу: это обычно бывает у тех, кто не сам нажил состояние.«Адсто сам нажил, те ценят его вдвойне. Как поэты любят свои творения, а отцы — своих детей, так и разбогатевшие люди заботливо относятся к деньгам — не только в меру потребности, как другие люди, а так, словно это их произведение. Общаться с такими людьми трудно: ничто не вызывает их одобрения, кроме богатства.
— Ты прав.
— Конечно, а скажи мне еще следующее: в чем состоит наибольшее благо от обладания значительным состоянием?
— Пожалуй,— сказал Кефал,— Постановка большинство не поверит моим словам.
О справедливости Знаешь, Сократ, когда кому-нибудь приходит мысль о смерти, на челове-
ка находит страх и охватывает его раздумье о том, что раньше и на ум ему не приходило. Сказания, передаваемые об Аиде,— а именно, что там придется подвергнуться наказанию тому, кто здесь поступал несправедливо,— он до той поры осмеивал, а тут они переворачивают его душу: что, если это правда? Да и сам он — от старческой ли немощи или оттого, что уже ближе стоит к тому миру,— как-то больше прозревает.
И вот его уже одолевают сомнения и опасения, он прикидывает и рассматривает, уж не обидел ли он кого чем. Кто находит в своей жизни много несправедливых поступков, тот, подобно детям, внезапно разбуженным от сна, пугается и в дальнейшем ожидает лишь плохого. зз< А кто не знает за собой никаких несправедливых поступков, тому всегда сопутствует отрадная надежда, добрая «кормилица старости», как говорится и у Пиндара. Превосходно он это сказал, Сократ, что, кто проводит жизнь праведно и благочестиво, тому
Сладостная, сердце лелеющая сопутствует надежда,
Кормилица старости;
Переменчивыми помыслами смертных
Она всего более правит 10.
Хорошо он это говорит, удивительно сильно. К этому я добавлю, что обладать состоянием — это, конечно, очень хорошо, но не для всякого, а лишь для порядочного чело- ь века. Отойти отсюда в тот мир, не опасаясь, что ты, пусть невольно, обманул кого-нибудь, соврал кому-нибудь или же что ты остался должен богу какое-либо жертвоприношение либо человеку — деньги,— во всем этом большое значение имеет обладание состоянием. И для многого другого нужно богатство, но, сравнивая одно с другим, я бы лично полагал, Сократ, что во всем этом для человека с умом богатство не последнее дело и очень ему пригодится.
— Прекрасно сказано, Кефал, но вот что касается с этой самой справедливости: считать ли нам ее попросту честностью и отдачей взятого в долг, или же одно и то же действие бывает подчас справедливым,ч а подчас и не справедливым? Я приведу такой пример: если кто получит от своего друга оружие, когда тот был еще в здравом уме, а затем, когда тот сойдет с ума и потребует свое оружие обратно, его отдаст, в этом случае всякий сказал бы, что отдавать не следует и несправедлив тот, кто отдал бы оружие такому человеку или вознамерился бы сказать ему всю правду.
— Это верно. а
— Стало быть, не это определяет справедливость: говорить правду и отдавать то, что взял.
— Нет, именно это, Сократ, — возразил Полемарх,— если хоть сколько-нибудь верить Симониду 11.
— Однако, — сказал Кефал, — я препоручаю вам беседу, а мне уже пора заняться священнодействиями.
— Значит, следником? 12
— 

 Разумеется,
Разумеется,
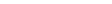 — Так скажи же ты, наследник Ке- фала в нашей беседе,— обратился я к Полемарху,— какие слова Симонида о справедливости ты считаешь правильными?
— Так скажи же ты, наследник Ке- фала в нашей беседе,— обратился я к Полемарху,— какие слова Симонида о справедливости ты считаешь правильными?
— Да то, что справедливо отдавать каждому должное. Мне по крайней мере кажется, что это он прекрасно сказал.
— Конечно, нелегкое дело не верить Симониду — это такой мудрый и божественный человек! Смысл его слов тебе, Полемарх, вероятно, понятен, а я вот не могу его постичь. Ясно, что у Симонида говорится не о том, о чем мы только что вспомнили, а именно, будто все, что бы нам ни дали во временное пользование, надо отдавать по требованию владельца, даже когда тот и не в здравом
332 уме, хотя, конечно, он-то и одолжил нам то, чем мы пользовались, Не так ли?
— Да.
— Но ведь ни в коем случае не надо давать, когда этого требует человек не в здравом уме?
— Правда.
— Значит, у Симонида, по-видимому, какой-то другой смысл в утверждении, что справедливо отдавать каждому должное.
— Конечно, другой, клянусь Зевсом. Он считает, что долг друзей делать только хорошее своим друзьям и не причинять им никакого зла.
— Понимаю,— сказал я.— Когда кто возвращает деньги, он отдает не то, что должно, если и отдача
ь и прием наносят вред, а между тем дело происходит между друзьями. Не об этом ли, по-твоему, говорит Симонид?
— Конечно, об этом.
— Ну а врагам, если случится, надо воздавать должное?
— Непременно, как они того заслуживают. Враг должен, я полагаю, воздать своему врагу как надлежит, то есть каким-нибудь злом 14.
— Выходит, что Симонид дал лишь поэтическое, с смутное определение того, что такое справедливость,
вложив в него, как кажется, тот смысл, что справедливо
было бы воздавать каждому надлежащее, и это он назвал должным*
— А, по-твоему, как?
— Клянусь Зевсом, если бы кто спросил его: «Симонид, что (разумеется, из надлежащего и подходящего) чему должно назначать врачебное искусство, чтобы считаться истинным?» Как бы он, по-твоему, нам ответил?
— Ясно, что лекарства, пищу, питье — телу.
— А что чему надо придать (надлежащее и подходящее), чтобы выказать поварское искусство?
— Приятный вкус — блюдам. а
— Прекрасно. А что кому надо воздать, чтобы такое искусство заслужило название справедливости?
— Если следовать тому, Сократ, что было сказано ранее, то это будет искусство приносить друзьям пользу, а врагам причинять вред.
— Значит, творить добро друзьям и зло врагам — это Симонид считает справедливостью?
—- По-моему, да.
— А что касается болезней и здорового состояния, кто всего более способен творить добро своим друзьям, если они заболеют, и зло — своим врагам?
— Врач.
— А мореплавателям среди опасностей мореходства? е
— Кормчий.
— Как же обстоит дело с тем, кто справедлив? Какими действиями и в какой области он более всего способен принести пользу друзьям и повредить врагам?
— На войне, помогая сражаться, мне кажется.
— Прекрасно. Но, дорогой мой Полемарх, тем, кто не болен, врач не нужен.
— Правда. 4
— А кто не находится в плавании на корабле, тому не нужен и кормчий.
— Да.
— Значит, кто не воюет, тем не нужен и справедливый человек?
— Это, по-моему, сомнительно.
— Так справедливость нужна и в мирное время?
— Нужна. ззз
— А земледелие тоже? Или нет?
— Да, тоже.
— Чтобы собрать урожай?
— Да*
— И разумеется, нужно также оапожное дело?
— Да.
— Чтобы снабжать нас обувью, полагаю, скажешь ты.
— Конечно.
— Так что же? Для какой надобности и для приобретения чего, по-твоему, нужна в мирное время справедливость?
— Она нужна в делах, Сократ.
— Под делами ты понимаешь совместное участие в чем-нибудь или нет?
— Именно совместное участие.
ь — Будет ли хорошим и полезным участником в игре в шашки тот, кто справедлив, или же тот, кто умеет играть?
— Тот, кто умеет играть.
— А при кладке кирпича или камня справедливый человек как участник полезнее и лучше, чем строитель?
— Никоим образом.
— Но в каких делах участие справедливого человека предпочтительнее участия строителя или, скажем, ки- фариста, ведь ясно, что в игре на кифаре кифарист предпочтительнее?
— В денежных делах, как мне кажется.
— За исключением, может быть, расходования денег, Полемарх. Ведь когда понадобится сообща купить
с или продать коня, тогда, думается мне, полезнее будет искусный наездник.
— Видимо.
— А при приобретении судна — кораблестроитель или кормчий.
— Естественно.
— Когда надо сообща распорядиться серебром или золотом, бывают ли случаи, чтобы справедливый человек был полезнее других?
— Бывают, Сократ. Это когда надо отдать их на хранение или сбережение.
— То есть, по твоим словам, когда они лежат без употребления?
— Конечно.
— Значит, когда деньги бесполезны, тогда-то и по-
Ь лезна справедливость?
— Похоже, что это так.
— И чтобы хранить садовый нож, полезна справедливость общественная и частная, для пользования же им требуется умение виноградаря?
— Видимо, так.
— Пожалуй, ты скажешь, что, когда нужно хранить щит и лиру и в то же время ими не пользоваться, справедливость полезна, а когда нужно пользоваться, тогда полезно умение воина и музыканта.
— Непременно скажу.
— И во всем остальном так: справедливость при пользовании чем-нибудь не полезна, а при использовании полезна?
— Видимо, так.
— Стало быть, друг мой, справедливость — это не е слишком важное дело, раз она бывает полезной лишь при бесполезности. Давай рассмотрим вот что: кто мастер наносить удары в кулачном бою или в каком другом, тот, не правда ли, умеет и уберечься от них?
— Конечно.
— А кто способен уберечься от болезни, тот еще гораздо более способен незаметно довести до болезненного состояния другого?
— Мне кажется, так.
— И воинский стан тот лучше оберегает, кто спосо- зз4 бен также проникнуть в замыслы неприятеля и предвосхитить его действия?
— Конечно.
— Значит, тот горазд беречь, кто способен и воровать.
— По-видимому.
— Значит, если справедливый человек способен сохранить деньги, то он способен и похитить их.
— По крайней мере к этому приводит наше рассуждение. ч
— Значит, справедливый человек оказывается каким-то вором. Это ты, должно быть, усвоил из Гомера: он высоко ставит Автолика, деда Одиссея по матери, и гово- ь рит, что Автолик превосходил всех людей вороватостью
и заклинаниями 15. Так что, и по-твоему, и по Гомеру, и по Симониду, справедливость — это нечто воровское, однако направленное на пользу друзьям и во вред врагам. Разве ты не так говорил?
— Нет, клянусь Зевсом. Впрочем, я уж и не знаю, что говорил. Однако вот на чем я все еще настаиваю: приносить пользу друзьям и вредить врагам — это и будет справедливость.
— А кто, по-твоему, друзья: те ли, кто кажутся хоро- с шими людьми, или же только те, кто на самом деле
таковы, хотя бы такими и не казались? То же и насчет врагов.
— Естественно дружить с тем, кого считаешь хорошим, и ненавидеть плохих людей.
— Но разве люди не ошибаются в этом? Многие кажутся им хорошими, хотя на деле не таковы, и наоборот.
— Да, ошибаются.
— Значит, хорошие люди им враги, а негодные — друзья?
— Это бывает.
— Но тогда будет справедливым приносить пользу а плохим людям, а хорошим вредить?
— Оказывается, что так.
— А между тем хорошие люди справедливы, они не способны на несправедливые поступки.
— Это правда.
— По твоим же словам, было бы справедливо причинять зло тем, кто не творит несправедливости.
— Ничего подобного, Сократ! Такой вывод, конечно, никуда не годится.
— Значит, справедливо было бы вредить несправедливым и приносить пользу справедливым людям.
— Этот вывод явно лучше.
— Значит, Полемарх, с теми из людей, кто ошиба- с ется, часто бывает, что они считают справедливым
вредить своим друзьям — они их принимают за плохих людей — и приносить пользу своим врагам как хорошим людям. Таким образом, мы выскажем нечто прямо противоположное тому, что мы привели из Симонида.
— Да, это часто бывает. Но давай внесем поправку: ведь мы, пожалуй, неверно установили, кто нам друг, а кто враг.
— А как именно мы установили, Полемарх?
— Будто, кто кажется хорошим, тот нам и друг.
— А теперь какую же мы внесем поправку?
— Тот нам друг, кто и кажется хорошим, и на са- зз5 мом деле хороший человек. А кто только кажется, а
на деле не таков, это кажущийся, но не подлинный друг. То же самое нужно установить и насчет наших врагов.
— Согласно этому рассуждению, хороший человек будет нам другом, а плохой — врагом.
— Да-
— А как, по-твоему, прежнее определение спра-
ведливого, гласящее, что справедливо делать добро другу и зло врагу, нужно ли теперь дополнить тем, что справедливо делать добро другу, если он хороший человек, и зло — врагу, если он человек негодный?
— Конечно. Это, по-моему, прекрасное определе- ь ние.
— Значит, справедливому человеку свойственно наносить вред некоторым людям?
— Да, конечно, надо вредить плохим людям и нашим врагам.
— А кони, если им нанести вред, становятся лучше или хуже?
— Хуже.
— В смысле достоинств собак или коней?
— Коней.
— И собаки, если им нанести вред, теряют достоинства собак, но не коней?
— Обязательно.
— А про людей, друг мой, не скажем ли мы, что и с они, если им нанесен вред, теряют свои человеческие достоинства?
— Конечно.
— Но справедливость разве не достоинство человека?
— Это уж непременно.
— И те из людей, друг мой, кому нанесен вред, обязательно становятся несправедливыми?
— По-видимому.
— А разве могут музыканты посредством музыки сделать кого-либо немузыкальным? ч
— Это невозможно.
— А наездники посредством езды отучить ездить?
—■ Так не бывает.
— А справедливые люди посредством справедливости сделать кого-либо несправедливым? Или вообще: могут ли хорошие люди с помощью своих достоинств а сделать других негодными?
1 — Но это невозможно!
Ведь охлаждать, я думаю, свойство не теплоты, а того, что ей противоположно.
— Да.
— И увлажнять — свойство не сухости, а противоположного.
— Конечно.
— И вредить — свойство не хорошего человека, а наоборот.
— Очевидно.
— А справедливый — это хороший человек?
— Конечно.
— Значит, Полемарх, не дело справедливого человека вредить — ни другу, ни кому-либо иному; это дело того, кто ему противоположен, то есть человека несправедливого.
— По-моему, Сократ, ты совершенно прав.
— Значит, если кто станет утверждать, что воздавать каждому должное — справедливо, и будет понимать это так, что справедливый человек должен причинять врагам вред, а друзьям приносить пользу, то говорящий это вовсе не мудрец, потому что он сказал неправду, ведь мы выяснили, что справедливо никому ни в чем не вредить.
— Я согласен с этим, — отвечал Полемарх.
— Стало быть,— сказал я,— мы с тобой сообща пойдем войной на тех, кто станет утверждать, что это было сказано Симонидом, или Биантом, или Питтаком, или кем-нибудь другим из мудрых 16 и славных людей.
— Я готов,— сказал Полемарх, — принять участие в такой битве.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|