
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
{10} Одержимость
{9} I
Одержимость
И вот общественное мненье!
Два лика империи: устрашение и безответственность
Лямин, Куропеев, Чешков
«Чудные люди» в необычайных обстоятельствах
{10} Одержимость
Не делай себе кумира.
Библия. Исход. Гл. 20.
Урания. Не будем применять к себе то, что присуще всем… Не будем подавать виду, что речь идет о нас.
Ж. ‑ Б. Мольер.
«Критика “Школы жен”».
Почему в первом явлении знаменитой пьесы Мольера на сцене отсутствуют оба главных героя — Тартюф и Оргон? Вот простейший ответ на этот вопрос: в споре матери Оргона, г‑ жи Пернель, с домочадцами ее сына экспонируется ситуация в доме. Мы узнаем про «увлечение» Оргона (и его мамаши) Тартюфом. Пока отсутствуют и сам Тартюф, и его восторженный поклонник, всем членам семьи Оргона, да и служанке Дорине, удобнее высказать все, что они думают о подозрительном лице, появившемся в их респектабельном доме. Эти высказывания — весьма нелестные — провоцирует своим преклонением перед Тартюфом г‑ жа Пернель.
Но возникает еще один наивный вопрос: почему г‑ жа Пернель, покидая дом своего сына, дает оплеуху молчаливой служанке Флипот? Тут тоже напрашивается легкий ответ: так она срывает на служанке свою злость, свой гнев, свое возмущение теми, кто ее мнение о Тартюфе как человеке святом не разделил, — женой Оргона Эльмирой, его сыном Дамисом, другими лицами. Пощечина предназначена им всем. Тем, с которыми г‑ жа Пернель, не будучи в этом доме хозяйкой, поделать ничего не может.
Объяснения весьма разумные. Но при этом первое явление пьесы рассматривается само по себе — вне контекста. А в драматургии отдельная сцена (как любая деталь, «часть» в произведении искусства вообще) обладает лишь относительной самостоятельностью. Здесь она — звено в цепи сменяющихся, взаимно углубляющих друг друга ситуаций. Контекст составляют не только те положения, что впрямую примыкают друг к другу, но и эпизоды, разделенные большой временной дистанцией. Они способны взаимодействовать не менее {11} активно, чем противоборствующие персонажи. Особенного эффекта добивается Мольер, сопрягая первое явление «Тартюфа» с пятым. Ведь действие в драме — не постепенный и непрерывный, а дискретный, прерывистый, скачкообразный процесс. В ключевых сценах действие резко подымается с одной ступени на другую. Пушкин высоко оценил в пьесе Мольера «напряжение комического гения», «смелость изобретения», благодаря которой «план обширный объемлется творческой мыслью». Эта смелость изобретения сказывается уже в том, как и во имя чего Мольер «монтирует» первые же явления своей комедии.
Разумеется, г‑ жа Пернель фанатически преклоняется перед Тартюфом. Поэтому есть свой драматизм в ее споре с теми, кто отказывается видеть в нем святого. Но этот драматизм лежит на поверхности. В первом явлении Мольер не только экспонирует исходную ситуацию, как принято думать.
Г‑ жа Пернель «взрывается». Но за этим взрывом вскоре последует новый взрыв драматической энергии — совсем иной мощности и иного качества. Так именно взрывается энергия Оргона в пятом явлении.
Входит Оргон, и мы сразу же убеждаемся: ослепление ослеплению — рознь.
Разгневанная, возмущенная, осатаневшая даже, г‑ жа Пернель все же слышала реплики тех, кто ей достаточно дерзко возражал. В первом явлении все же была лишь перебранка, которую жена Оргона, Эльмира, всячески пыталась погасить: стоит ли, мол, препираться с фанатичкой? Ведь это — бессмысленно.
Совсем иного уровня ослепление Тартюфом Оргона, и ведет оно к последствиям катастрофическим. Мамаша, как вскоре оказывается, и в подметки не годится сыну. Он способен на такую силу страстного преклонения и благоговения, какая его матери — существу весьма примитивному — и не снилась. Вернувшийся из отлучки Оргон как будто бы намерен «разузнать про здешние дела» и обращается к Дорине с вопросом: «Все ль у вас здоровы? » Служанка сообщает ему о недомогании жены. Оргон эту информацию решительно игнорирует. Он ее не воспринимает, ибо весь, сполна, сосредоточен на своем:
Оргон. Ну, а Тартюф?
Дорина. Тартюф? И спрашивать излишне:
Дороден, свеж лицом и губы словно вишни.
{12} Оргон. Ах, бедный.
Дорина. Вечером у ней была тоска…
Оргон. Ну, а Тартюф?
Дорина. Барыня совсем и не уснула…
Оргон. Ну, а Тартюф? [3]
Кроме Тартюфа, никакие «здешние дела» для Оргона не существуют. Его настойчивое «А Тартюф? » вошло в поговорку, подобно афоризмам и сентенциям из «Горя от ума» или «Ревизора».
Комедия любит такое построение диалога, когда он оказывается не подлинным, а мнимым. Гоголь в «Ревизоре», как увидим, рисует подобного рода диалог в сцене первой встречи Хлестакова с Городничим. У Гоголя каждый персонаж «слышит» в репликах другого лишь то, что он готов и боится услышать. У Мольера Оргон полностью погружен в свою страсть и потому совершенно не хочет, не может, лишен способности воспринимать что-либо, кроме известий о Тартюфе. И это — уже при первом появлении Оргона на сцене. Естественно, что такая «точка отсчета», такое состояние персонажа стимулирует наши ожидания. Мы предчувствуем: столь разгоревшееся чувство, столь болезненное благоговение найдет свое непредсказуемое действенное выражение.
Однако наша реакция на диалог Оргон — Дорина сложна. Прежде всего нам не сдержать смеха при виде такого исступления, граничащего с безумием, но чем-то, как ни странно, и привлекательного. В книге «Расин и Шекспир» Стендаль говорит о соотношении комического и смешного. В «Тартюфе», одной из самых замечательных комедий мирового репертуара, явно смешны и рассчитаны на веселый и громкий смех зрительного зала, полагает Стендаль, только две сцены. Первая — с повторяющим свой вопрос Оргоном. Мы бы теперь сказали: Оргона на этом «заклинило». Он «зациклился». Но не по мелкому поводу.
Стендаль был прав. Многие сцены этой комедии непременно возбуждают ту или иную разновидность смеха (а их — не так уж и мало). Но диалог Оргона с Дориной всегда вызывает в зале гомерический, как его называют, хохот. Выражает ли этот смех всего лишь ощущение нашего превосходства над Оргоном? Или, напротив, родства (потаенного) с ним? Не станем торопиться с ответом на этот вопрос.
{13} Ведь прежде всего нас, несомненно, поражает в Оргоне способность человека к такому не знающему границ поклонению, к такой самоотдаче. О том, что Оргон ослеплен лицом, крайне того недостойным, мы еще толком не знаем: Тартюфа нам Мольер пока что не показал.
Оргон с первой же минуты становится для нас фигурой загадочной. Мы сразу же понимаем: в его поведении сопрягаются и некая сила, и, безусловно, какая-то слабость, смысл которой весьма и весьма непрост. В сцене с Дориной он как будто спокоен — агрессивным он станет в следующих эпизодах. Но тут самое спокойствие таит в себе агрессивность совсем другой природы, чем та, которую обрушила на своих противников г‑ жа Пернель.
Пусть в каком-то спектакле она предстанет перед нами совершенно осатаневшей в своем гневе — реакция как бы вполне спокойного Оргона на реплики Дорины скажет нам, что перед нами человек, способный на преклонение совсем иного уровня и иной глубины. Мольер наградил Оргона второй женой, молодой и пленительной особой (перед ней, как вскоре выяснится, не может устоять и Тартюф, хотя его притязания и ставят сластолюбца в рискованные ситуации). Но Оргону не до своей жены и ее недомоганий.
Он всецело поглощен другой заботой. Дорина, воспринимая ее как временную, незначительную, безопасную блажь, заканчивает диалог с Оргоном явно насмешливой репликой:
И я бегу скорей, чтоб ей сказать два слова
О том, как рады вы, что барыня здорова.
Оргон, однако, вовсе не в том состоянии, когда человек способен чувствовать иронию. Он переживает своего рода эйфорию. Клеант, брат Эльмиры, присутствующий при диалоге Дорины с Оргоном, пытается его отрезвить и образумить: пусть, мол, в Тартюфе и таится «колдовство», нельзя же ради него пренебречь всем на свете. Оргон этого и слушать не может, он обрывает Клеанта:
Ах, шурин, если б вы и впрямь его узнали,
Вы в восхищении остались бы навек!
Вот это человек… Ну, словом… человек!
Как следует ему — вкушает мир блаженный,
И мерзость для него все твари во вселенной.
{14} Я стал совсем другим от этих с ним бесед:
Отныне у меня привязанностей нет.
В своем упоении Оргон признается, что ничем на свете, кроме Тартюфа, он не дорожит:
Пусть у меня умрут брат, мать, жена и дети,
Я этим огорчусь вот столько, ей‑ же‑ ей!
Это, конечно, комедийная гиперболизация страсти, на наших глазах еще нарастающей до вовсе немыслимых пределов. Разумеется, «так в жизни не бывает». Но в искусстве — бывает, в поэзии — бывает. Комедия ведь один из поэтических жанров драматургии, ставящих своей задачей создавать образную, каждый раз неповторимую, картину жизни — ради постижения ее глубинных аспектов и закономерностей.
В одном из прощальных «определений» сущности своей поэзии Пастернак сказал:
Прощай, полет крыла расправленный,
Размаха вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.
Ранее были у поэта и иные толкования предназначения поэзии, но в этом четверостишии речь, по существу, идет не только о лирике, но и о так называемой «художественной» прозе, и о драматургии: их предназначение — создавать образ мира, явленный в слове.
Поэтическое слово таит в себе разные, хотя и родственные, потенции, оно способно служить лирике, повествовательным жанрам, драматургии. В произведениях для сцены слово становится элементом диалога, средством такого непрерывного общения персонажей, какое в реальной жизни невозможно. Тут в непрестанно длящемся, подхватываемом то одним, то другим лицом диалоге (как бы скрывающем «прерывистый» ход событий) выражают себя чувства и мысли, энергия и страсти лиц, без устали взаимодействующих, направляющих свою активность друг на друга. В поэзии драматической слово служит созданию «образа мира», связанного с особой концепцией бытия, согласно которой действующие лица ничего не могут достичь в одиночку — они совместно и непрерывно творят новые ситуации вместо разрушаемых, создавая, сотворяя новые взаимоотношения, сотворяя себя.
{15} В «Тартюфе» перед нами созданный Мольером комедийный образ мира. В созидающей его, «отобранной» поэтом группе персонажей (Оргон и Тартюф, Дамис и Эльмира, Дорина и Клеант, г‑ жа Пернель, другие лица) главенствуют страсти двоих: Тартюфа и Оргона. И пока они себя не исчерпали, пока длится сопряжение этих страстей, действие не может стать «правдоподобным». Пусть г‑ жа Пернель тоже «тронутая», ее фанатизм все же правдоподобен, узнаваем. Оргон и Тартюф — неправдоподобны. Но в этом комедийном «неправдоподобии» зрителю предстоит все больше и больше опознавать некую правду о своих ситуациях и о себе самом.
Касаясь этой проблемы, Пушкин писал: «Изо всех родов сочинений самые неправдоподобные (invraisemblables) сочинения драматические, а из сочинений драматических — трагедии, ибо зритель должен забыть, по большей части, время, место, язык; должен усилием воображения согласиться в известном наречии — к стихам, к вымыслам». Позднее эту мысль Пушкин еще углубил: «самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие». Здесь речь уже идет не только о «неправдоподобии» места и времени действия и т. д., но об особой «сущности», несовместимой с правдоподобием. На этот раз Пушкин не выделяет трагедию как самый «неправдоподобный» жанр драматургии. Ведь комедия в своих поисках скрытой правды человеческих коллизий, характеров и взаимоотношений позволяет себе не менее «неправдоподобную», условную образность, чем трагедия.
Состояния, действия Оргона, хотя он доходит на наших глазах до полнейшего алогизма и абсурда, нас и смешат, и, возможно, даже возмущают, но вместе с тем захватывают. Есть в них нечто манящее; мы, видимо, ощущаем свою какую-то тайную причастность к тому, что он сотворяет и вытворяет. Резонер Клеант, человек здравого смысла, пытается отрезвить и его и нас, он говорит об Оргоне как о впавшем в элементарное безумие. Если бы дело шло у Мольера о душевной болезни, подлежащей ведению медицинской науки, комедия эта лишилась бы не только своего высочайшего «человековедческого», но и какого бы то ни было смысла вообще.
Когда Ф. Дюрренматт (кстати, удостоенный Мольеровской премии) переносит действие своих «Физиков» {16} в дом умалишенных, он, обращаясь к гиперболе, сатире и гротеску, к вымышленным человеческим характерам и ситуациям, говорит при этом об актуальной проблеме наших дней, о разобщенности как одной из причин угрожающей нам всемирной катастрофы.
Мольер, создавая образ Оргона, гиперболизирует чувства и желания, которые могут взыграть не у умалишенного, а, напротив, у вполне здорового человека. В его поведении зритель, в отличие от Клеанта, «узнает» (во всяком случае, должен узнавать) нечто сугубо для него важное и ему близкое. Писал же Гоголь о том, что в каждом из нас сидит Хлестаков, хотя, разумеется, герой Гоголя — лицо фантасмагорическое.
Но чтобы отнестись серьезно к Оргону и понять высокий комизм этой фигуры, надо прежде всего отказаться от весьма распространенного мнения, будто этот персонаж — столь доверчивый простофиля, что его запросто можно обмануть.
Один из самых почтенных наших литературоведов и знатоков Мольера писал про его героев: «Лицемерие для Тартюфа — такая же “абсолютная страсть”, как скупость для Гарпагона, и комедия, в которой Тартюф делается главным героем, представляет собой типичный образец классицистской комедии характеров». Называя Тартюфа единственным главным героем комедии, этот автор сводил ее задачу к «разоблачению лицемерия, показу его социальной опасности». В последних двух актах комедии Мольер сгущает краски и «вносит в нее элементы трагедии, заставляя глупца Оргона более сурово расплачиваться за свою доверчивость, чем это обычно принято в комедии»[4].
Если Оргон — не более чем глупец и доверчивый простофиля, то комедийные ситуации, в которые он попадает, могут лишь потешать и забавлять нас — не более того. О глупости Оргона говорил, к сожалению, и В. Г. Белинский. Он то восторгался «Тартюфом», в котором Мольер со страшною силою поразил «ядовитую гидру ханжества», то ставил эту пьесу очень низко, поскольку в ней «все лица присочинены для главного, и сам Тартюф так нехитер, что мог обмануть только одного человека, и то потому, что этот один — пошлый {17} дурак»[5]. Тут великому критику изменило свойственное ему тончайшее эстетическое чутье. Да и был он неточен: Тартюф «обманул» все-таки двух людей. И если г‑ жа Пернель — женщина упрямо-туповатая, то Оргон — вовсе не дурак (хотя такая слава давно и необоснованно тянется за ним).
Иногда требуются десятилетия и даже столетия для того, чтобы коренным образом изменилось устойчивое представление о произведении искусства и выявились ранее недооцененные, по разным причинам, его содержательные аспекты. Если для Мокульского «особенно большой», первостепенный интерес представляет фигура Тартюфа, если, по его утверждению, пьеса написана ради разоблачения святоши и ханжи, то здесь ученый не оригинален, он наследует традиционное ее толкование. Да и название комедии как бы подтверждает именно такой к ней подход.
Здесь надо, однако, отдать справедливость Э. Бентли, оспаривавшему в своей книге (The Life of the Drama, 1967) тех, для кого «отправным пунктом в “Тартюфе” продолжает оставаться пара традиционных типов — плут и простак, обманщик и глупец, — предстающая в обличье ханжи-святоши и его легковерной жертвы».
В пьесе Мольера все сложнее. Тартюф не просто плут — он похотлив, но можно усомниться в его ханжестве: разве нельзя предположить, что он, подобно иным верующим, легко впадает в грех? С такой точки зрения он из «законченного негодяя» превращается в «драматический характер».
И в Оргоне Бентли видит не только простака. Тут Мольер показывает, «какими опасностями чревата вера». Бентли отступает (пусть все же — робко) от традиционного толкования «Тартюфа», заявляя: не ханжество, а религиозное рвение — «подлинная мишень насмешки Мольера»[6].
У нас коренной перелом в осмыслении «Тартюфа» (и гораздо более радикальный, чем у Бентли) совершился в 1939 году, когда МХАТ осуществил свою постановку этой комедии.
Мы и впредь не раз будем сталкиваться со сложным взаимодействием сцены и литературной критики {18} в осмыслении произведений драматургии. Известно, к примеру, что добролюбовские статьи повлияли и продолжают влиять на театральные интерпретации «Грозы». Вместе с тем известно, что, «разгадав» чеховскую «Чайку», Художественный театр опередил современную критику, подсказав ей то истолкование драматургии Чехова, которое, к сожалению, без конца тиражируется (с вариациями, разумеется) по сей день.
Обычно в постановках «Тартюфа» на сцене господствовали потешные маски «простака» Оргона и «проходимца» Тартюфа. Такого рода сценические интерпретации комедии Мольера, складываясь десятилетиями, обретали страшную живучесть, сопротивлявшуюся «отмене». Но К. С. Станиславский, приступив к работе над спектаклем «Тартюф», позволил себе не считаться с традицией, добираться до в высшей степени напряженных страстей, обуревающих ее главных героев, до вечно живой сути пьесы.
После смерти великого режиссера его работу завершил М. Н. Кедров. Он же исполнил роль Тартюфа, а Оргона сыграл В. О. Топорков. Двух в ту пору начинающих критиков — автора этих строк и П. П. Громова — потрясли своей новизной режиссерское решение в целом и трактовка Топорковым образа Оргона. Их впечатления об этом новаторском исполнении «Тартюфа» нашли отклик в рецензии, опубликованной в 1940 году[7].
Наиболее поразительным в этой сценической интерпретации оказалось выдвижение Оргона на первый план и в сюжете, и в проблематике спектакля. Возможность такого подхода таилась в самом тексте пьесы, в развитии ее действия — таилась, ждала и дождалась своего часа.
Правда, мхатовский спектакль не пришелся по душе тем, кто полностью отождествляет комедийное и смешное. Им он показался слишком — для Мольера — серьезным. Далее мы еще обратимся к вопросу о соотношении комедии и смеха. Спектакль М. Н. Кедрова внес свою лепту в решение этой труднейшей проблемы.
Здесь не было Тартюфа — «неотесанного» мужлана и грубого, да еще неудачливого лицемера; а Оргон оказался отнюдь не глупцом и доверчивым простофилей.
{19} К такой проницательной сценической интерпретации взывали ключевые сцены пьесы, в частности явление шестое третьего действия, требующее от исполнителей, в особенности — роли Тартюфа, искуснейшего мастерства. Тут Тартюф в условиях «дефицита времени» (так это именуется в современной психологии) принимает рискованнейшее решение, представая глубочайшим знатоком человеческого сердца и тончайшим психологом.
Тартюф, казалось бы, на грани катастрофы. Он поставлен Дамисом на край пропасти, и ему только и остается, что свалиться в нее. Подслушав, как святоша признавался в своем «любовном недуге» Эльмире, сын тут же, в присутствии Тартюфа, обо всем докладывает отцу. Оргон потрясен, он готов поверить:
Что слышу я, творец! Как? Мыслимо ли это?
Тартюф перед роковой неожиданностью. Времени на осмысление ситуации у него нет. И тут сказывается особое, может быть главное его качество, гораздо более важное, чем лицемерие, в котором видят присущую ему «абсолютную страсть». Тартюф реагирует молниеносно. В ответ на реплику ошеломленного Оргона Тартюф произносит монолог — смиренный и коварный. Он опровергает Дамиса? Нисколько! Он как бы подхватывает слова своего врага, изобретательно превращая их в нечто явно несуразное, абсурдное, в низкую клевету.
Вчитаемся, вдумаемся в тираду Тартюфа, она того требует и стоит:
Да, брат мой, я злодей, гад, поношенье света,
Несчастная душа, погрязшая во зле,
Последний негодяй из живших на земле.
Мой каждый помысел исполнен гнусной скверны,
Вся жизнь моя — злодейств клубок неимоверный.
Но небо, наконец грехи мои казня,
По справедливости унизило меня.
И в чем бы вы меня ни обвиняли ныне,
Я свой удел приму без гнева и гордыни.
Так верьте же всему, творите ваш закон
И, как преступника, меня гоните вон.
Какое бы меня глумление ни ждало,
Мне, по моим делам, еще все будет мало.
Как реагирует Оргон на эту тираду? Так именно, как того ожидал Тартюф. В мгновение ока он поставил все на карту и сразу же добился победы над Дамисом. Именно к последнему обращены гневные слова Оргона, {20} человека, у которого сын чуть было не отнял обретенное счастье общения с праведником:
Ах, плут! Ты думаешь, что этой клеветой
Затмится чистота души его святой?
Когда характеризуют Тартюфа как лицемера, притворщика, святошу, мошенника, подонка, сладострастника — все это верно. Но к этому надо добавить едва ли не самое главное: он очень тонкий психолог, прекрасно понимающий, как велико в Оргоне стремление к возвышенному, идеальному, святому. Он умело играет на этой «слабости» своего патрона. А тот в сцене с разоблачающим Дамисом получает радостную возможность еще раз убедиться в чистоте души Тартюфа, украшенной готовностью смириться с любыми несправедливыми гонениями. Дамис, как это часто бывает с персонажем драматическим, в особенности комедийным, добился прямо противоположного тому, чего он хотел. И проиграл он потому, что, в отличие от Тартюфа, не понимает, какой страшной, неодолимой силой может стать человеческая одержимость.
В условиях «дефицита времени», — полагает современная психология, — человек совершает ошибки: чем больше задач падает на него при этом, тем чаще он поступает «неправильно». Несколько по-иному дело обстоит в драматургии. Она то и дело ставит своих персонажей в экстремальные ситуации, в перипетии-испытания, выход из которых надобно найти незамедлительно.
Нередко, подчиняясь эмоциям, герой драматургии тоже совершает «ошибки», подобно пушкинскому Самозванцу: в ответ на боль, причиненную ему Мариной, тот не может удержаться от рокового признания. Но и в этом признании тоже проявляется рисковый характер Самозванца, стимулируемого экстремальной ситуацией.
Дамис ставит Тартюфа в подобное, чуть ли не безвыходное положение. Он побуждает его рисковать. Но испытание, которому Дамис подвергает его и Оргона, умнейший Тартюф возлагает на плечи одного Оргона. Обманщик тут подвергает ослепление и одержимость Оргона решительной проверке на прочность. Тартюф ведь не присутствовал при его диалогах с Дориной, а затем — с Клеантом, когда хозяин дома в запальчивости объявил, что Тартюф ему дороже жены, детей, родни, всего на свете. Но кумир Оргона сам в этом уверен. Потому он идет на риск и выходит победителем из {21} опаснейшего положения, в которое попал. В этой ситуации, чуть было не обернувшейся для него полным крушением, Тартюф еще более глубоко погружает Оргона в состояние, из которого тот ни за что не желает выходить.
Теперь коллизия стремительно обостряется, поскольку, в отличие от г‑ жи Пернель, Оргон — полновластный хозяин в своем доме. В исступлении, отстаивая от несправедливых нападок своего святого, он совершает агрессивные акции — одну за другой. Сын изгнан из дома, дочь объявляется невестой Тартюфа. Под его же попечение поставлена Эльмира. Мало того: ему подарен дом, наивысшая ценность, которой Оргон обладает. К ногам своего кумира одержимый Оргон складывает все, чем он владеет, все до последнего. Преклонение перед Тартюфом достигает предела, когда он отдает ему и шкатулку с документами, компрометирующими хозяина дома перед самим королем.
Что более всего в ситуации Тартюф — Оргон волновало зрителя XVII века, что становится здесь первостепенным для нас, зрителей XX‑ го? Проблема эта сложна. Ее ставит и Жорж Бордонов, автор книги о Мольере (Париж, 1967). Он подробно освещает историю борьбы Мольера за свою комедию с церковниками, с так называемой «шайкой святош». Целых пять лет (с 1664 по 1669) длилась эта борьба, вызванная тем, что в образе главного героя противники комедии увидели обличение не показной набожности, а «истинного благочестия». Автор «Тартюфа» возбудил яростную ненависть этой «шайки», требовавшей костра для одного из «самых опасных врагов церкви». Победителем в итоге оказался Мольер. Имя Тартюфа с момента появления пьесы стало синонимом лицемерия и ханжества, подлости и предательства. «Тартюфами кишит и наше время, они только приняли иной вид, но их роль остается столь же зловещей, средства у них все те же».
Но на образ Оргона французский автор смотрит слишком благодушно, недооценивая всю глубину, в нем скрытую и открывающуюся в нем ныне. «Спятивший болван? Такое суждение высказывалось. По-видимому, для него есть основания», — пишет Бордонов, но считает возможным увидеть в Оргоне и другое: прямодушного, глубоко религиозного человека, каких было немало во времена Мольера. В Оргоне можно рассмотреть характер, хотя и «не слишком сложный», но отличающийся {22} «слепой верой» в своих друзей, готовый оправдывать их «вопреки любой очевидности». Можно в нем обнаружить и «ограниченного, упрямого домашнего тирана». Средний француз, во всем своем сумасбродстве, эгоизме, наивности, безусловно нам очень близкий и симпатичный, — заключает автор свою характеристику Оргона[8].
Разумеется, она не очень-то согласуется с образом, созданным художественной фантазией Мольера, — в нем ведь нет ничего «среднего», а все «чрезмерно» и гротескно. А главное, как показало время, речь идет у Мольера не только о «среднем» французе. Разве в феномене Оргона не скрыта некая общечеловеческая проблема?
Спектакль Московского Художественного театра положил начало новому, весьма глубокому подходу к образу Оргона. В этой фигуре театр увидел нечто более сложное, чем психология «среднего француза» эпохи Мольера — верующего в своих друзей и подчиняющегося их «обаянию». Нет, Оргон относится к Тартюфу совсем не как к обаятельному другу. Он для Оргона — существо высшего порядка, — так полагали авторы этого спектакля, и их толкование оказалось в своем роде провидческим.
В спектакле мхатовцев (как и в самой пьесе) действие стимулировалось активностью Оргона не в меньшей, а в большей мере, чем энергией Тартюфа и других лиц. Каждая акция Оргона во втором и особенно в третьем действиях была новой ступенью его нарастающей слепой одержимости.
Тут МХАТ (осознанно или интуитивно — это вопрос особый) обратился к проблеме, оказавшейся одной из самых мучительных для нашего времени. Что представляет собой одержимость Оргона? Каковы истоки этого не только сугубо психологического, но и социального, общественного феномена? Изображая «малый» мир дома Оргона, Мольер дает здесь определенный «образ мира» большого. Все, происходящее в «Тартюфе» на сцене семейной, легко проецируется на большую сцену общественной жизни с ее комедиями, драмами и трагедиями.
Ослепление Оргона связано с «дефицитом веры» (в чем сам Оргон не отдает себе отчета), с недоверием {23} к общепринятым ценностям и стремлением обрести новые. Но «ирония истории» может сказаться и в пределах одного дома: выходит так, что Оргон возводит в ранг святого существо порочное. Глубоко укорененная в психологии индивида (а тем более — массы) вера в могущество творимых им (а тем более — массой) кумиров порождает своего рода одержимость.
В ситуации Оргон — Тартюф проявляет себя феномен, весьма характерный для человеческой истории. Начиналось все еще, видимо, в первобытном обществе, когда вождь племени представал священной персоной, обладающей мощью магической, сверхъестественной. В Библии речь идет уже о языческом идолопоклонстве со стороны массы, зараженной духовным рабством, хотя, казалось бы, от порабощения в прямом смысле слова она освободилась. Этой оказавшейся в пустыне, отчаявшейся массе было сказано: «Не делай себе кумира», когда она уже успела его соорудить. Идолопоклонство в ходе истории трансформировалось разнообразно: соответственно экстремальным ситуациям, в которые попадали человеческие массы; соответственно слабостям массового сознания, более или менее охотно поддававшегося манипулированию. Языческое поклонение впоследствии сменяла потребность и готовность обожествлять некое лицо — «всеведущее» и «могущественное». Испытываемый перед ним священный трепет и страх сопрягался с несбыточными надеждами, с болезненным «наслаждением», вызванным чувством причастности к таким загадочным и непостижимым достоинствам, которыми обыкновенный человек, да еще обезличенный и обессиленный, обладать не способен и не смеет.
Мольер в «Тартюфе» изображает психологию индивида. Но мы, в XX веке, связываем индивидуальное ослепление Оргона с массовым умопомрачением, наступающим тогда, когда массовой психологией и нравственностью «дирижируют» еще более умело и коварно, чем Тартюф «дирижирует» Оргоном. Не так уж давно социолог Макс Вебер даже счел нужным использовать определение «харизма», говоря о феномене обожествления политических лидеров. Вебер дожил лишь до 1920 года и не успел стать свидетелем наступивших в нашем веке «харизм», питавшихся личными вкладами вершителей истории, которые завели ее в тупики и пропасти.
{24} В комедиях Мольера изображаемые им своеобразные «харизмы» связаны то с невинными капризами, то с маниакальными одержимостями. Особенную глубину приобретают мольеровские ситуации, когда его ослепленный персонаж захвачен низменным, а тем более — порочным объектом, которого он воспринимает как исполненного беспредельно загадочным, возвышенным содержанием.
В «Тартюфе» перед нами такого рода одержимость — не столько человеком, сколько высокой идеей святости, персонифицированной в определенном, скрыто порочном лице. Когда одержимый доходит до исступления — это зрителя и смешит, и страшит, и удручает одновременно. Здесь — и это спектакль МХАТ показал с непререкаемой убедительностью — «культовая» устремленность предстает как чреватая не меньшей опасностью, не меньшим злом, чем все низменные вожделения Тартюфа, вместе взятые. Из двух героев комедии Мольера, — настаивал спектакль, — труднее разгадываем тот, кто ослеплен и одержим, чьи действия способны обернуться последствиями еще более непредсказуемыми, еще более страшными для человека и общества, чем действия явного подонка Тартюфа.
Разумеется, о серьезной, даже трагической проблеме Мольер говорит с комедийной легкостью и даже водевильным изяществом. Как и в «Ревизоре», и в других выдающихся комедиях мирового репертуара, в «Тартюфе» много от водевиля — разновидности комедийного жанра, где интрига часто основана на том, что одно лицо выдает себя за другое. Но водевильные обманы никогда не бывают чреваты серьезными последствиями: они разрешаются в благополучной развязке.
В своих комедиях Мольер охотно сохраняет этот прием водевильной интриги, когда одно (одного) принимают за другое (другого). Но в «Тартюфе» он обретает глубокое идейное, социально-психологическое содержание. Оргону нужен кумир, дабы таким путем приобщиться к святости, которой алчет его душа. Комизм ситуации — серьезный, глубокий — в том, что свои реальные потребности человек способен удовлетворять, доверяясь «заменителям», мнимым, подложным ценностям. Низменное, бездуховное, преступное не только умело выдает себя, но и воспринимается Оргоном как святое и высокодуховное. С беспощадностью, доступной комедии, при всем ее кажущемся «легкомыслии», {25} действие пьесы Мольера вовлекает нас в стремительный процесс нарастания культа личности в пределах, так сказать, одного дома, и на наших глазах «высокая», казалось бы, страсть приобретает разрушительный характер.
Разобраться в этой взаимозависимости образов Оргон — Тартюф было непросто. В XVII веке наибольший интерес вызывала фигура «обманщика», а не «обманутого». Образ святоши подвергался не только злобным нападкам со стороны тех, кто усматривал в нем обличение служителей церкви. Критиковал комедию в XVII веке и писатель-моралист Лабрюйер в своих «Характерах», хотя он не имел ничего общего с оголтелыми церковниками. Поведение Тартюфа Лабрюйер считает неправдоподобным: лицемер не будет соблазнять жену человека, к которому хочет войти в доверие; не станет он пытаться унаследовать состояние своего покровителя, если к тому же имеется в наличии законный сын. Святоша будет действовать осторожно и ловко, в отличие от Тартюфа, все время идущего на риск, благодаря чему и удается его разоблачить.
Лабрюйер хотел бы увидеть на сцене «идеального лицемера», холодно-рассудочного, рационально осуществляющего свои замыслы. За это критикует автора «Характеров» современный исследователь Э. Ауэрбах. Но каково же его собственное толкование образа Тартюфа? Он ценит в этом образе его реализм. Мольеру, оказывается, нужны были «комические эффекты». Потрясающий комизм пьесы, полагает Ауэрбах, основан на том, что сугубо плотский человек «играет до ужаса скверно» роль святоши, противоречащую его наклонностям. Интриги он плетет «грубые и примитивные». Поэтому неотесанному мужлану с его неукротимыми желаниями удается обмануть всего лишь Оргона и его мать.
Ауэрбах прав, оспаривая Лабрюйера, которому вероятным представляется лишь «разумно-очевидное». Комедия ведь вообще изображает коллизии, выходящие за пределы требований разума, а тем более — здравого смысла. В «Тартюфе» главное действующее лицо находится во власти заблуждений, чувств и страстей, способных принимать «неразумные» и даже «чудовищные» формы.
Но называть Тартюфа «неотесанным мужланом»? Это значит пренебречь изощренной софистикой его монологов {26} и перечеркнуть его знание человеческой психологии, его способность играть на слабых, уязвимых сторонах человеческой души.
Еще более упрощенно толкует Ауэрбах образ Оргона. Его «глубочайший инстинкт и сокровеннейшее желание», полагает исследователь, «быть домашним тираном». Тартюф дает ему «возможность удовлетворять эту инстинктивную потребность — садистски мучить и терроризировать домашних»[9]. И именно поэтому Оргон «влюблен» в Тартюфа. Если в образе Тартюфа Ауэрбах ищет и находит «потрясающий комизм» (несоответствие играемой им роли его облику и вожделениям), то о комизме образа Оргона он, по существу, ничего сказать не может.
В ауэрбаховской интерпретации поведения Оргона нетрудно уловить фрейдистские мотивы. Оргон, мол, от природы тиран и мучитель, но ему приходится сдерживать свои инстинкты, покуда Тартюф не открывает перед ним возможность проявить их в полной мере. Между тем поведение главного героя тут определяется не его врожденными качествами, а общественным бытием, психикой и сознанием, ориентированным на определенного рода социальные и религиозные идеалы. Все, происходящее с Оргоном, связано не с подавленным «сокровенным» желанием тиранить домашних, а с явным, доходящим до одержимости стремлением приобщиться к святости, к чистоте, к некоему непорочному идеалу. Тирания здесь следствие, а не первопричина.
Оргон хотел бы подчинить своим представлениям об идеале все свое окружение. Но это ему не удается. И потому, чем более его домашние не принимают Тартюфа за того, за кого он себя выдает, тем более Оргон ожесточается. Но в этом ожесточении реализуются, прежде всего, не его инстинкты, а определенные социально-культурные установки. Оргон действует, подчиняясь эмоциям, но в основе его аффективной агрессивности — интеллектуально-нравственные мотивы.
Комизм его устремлений, порождаемых ими эмоций и агрессивных действий в том, что Оргон принимает мнимые ценности за подлинные. Такого рода человеческие заблуждения коренятся в противоречиях общественного развития, ведущих к тому, что мы способны принимать низменное за возвышенное, что в порочном {27} и преступном мы готовы находить безгрешное и святое.
Толкование Ауэрбахом образа Оргона исключает возможность наступающего у него драматического прозрения. Ежели персонаж подвластен врожденным инстинктам, то в пределах сценического действия от них освободиться, «очиститься» ему не дано. Изображение такого процесса под силу, возможно, роману, в котором действие не ограничено временем настолько, насколько ограничено действие драматическое. Но если действующее лицо пьесы во власти заблуждений, даже глубочайших, если его поведение связано с социально-нравственным опытом, с определенными тенденциями общественного развития, если благодаря им он ослеплен, принимая видимость за искомую им сущность, — на смену ослеплению может прийти и приходит прозрение.
В комедии это прозрение наступает много скорее, чем в реальной жизни. Мольер наследует один из «канонов» драматургии, сложившийся прежде всего в трагедии, где нарастающее ослепление часто переходит в стремительное прозрение. Говоря о «каноне», я имею в виду не общепринятую «технику» построения произведения драматургии, а то, что Пушкин называл ее «сущностью». В образе мира, создаваемом драматургией, воплощаются определенные закономерности общественной, исторической жизни человека и человечества, толкуемые согласно определенной концепции бытия, присущей этому роду поэзии. Согласно ей, бытие, сотворенное в процессе интенсивного взаимодействия людей друг с другом в конкретных обстоятельствах, непременно нуждается в «узнавании», в постижении смысла содеянного, в его «очищении», в обогащающем человеческий дух прозрении, в прорыве к некоей новой истине. Такой именно прорыв отличает подлинную драматургию от назидательно-дидактической, где плоской «истиной» изначально владеет кто-либо из персонажей, настойчиво вдалбливающий ее в чужие головы.
Соотношение между человеческими деяниями и их последствиями в драматургии предстает не таким, каково оно бывает в реальной истории. Она ведет себя сурово: никакие значительные деяния не оставляет без последствий, никакие «преступления» не освобождает от «наказания». Однако в реальной жизни результаты человеческих действий могут сказываться на судьбах поколений, к этим действиям вовсе не причастных. {28} В истории человечества с ее драмами, комедиями и трагедиями следствия часто отдалены от породивших их причин разными, иногда очень длительными временными дистанциями. История возлагает ответственность не только на тех, кто непосредственно «повинен» в разного рода значимых деяниях. Ее возмездие падает и на головы их близких и отдаленных потомков. А. Блок попытался развить эту тему в своем «Возмездии», но в жанре поэмы эта проблематика, видимо, не может быть воплощена.
Структура действия в драматургии основана на присущей лишь ей способности предельно сближать причины и следствия. Участники более или менее стремительно развивающегося от завязки к развязке драматического действия непременно сами расплачиваются за все ими сотворенное: они сами тут же в кульминациях-катастрофах пожинают плоды своего поведения.
Обращаясь снова и снова к проблемам междучеловеческих отношений в меняющемся мире, драматургия не может и в нашем, XX веке вовсе отказываться от «памяти жанра», как называл это качество М. Бахтин, от складывающихся исторически «родовых» структур. Драматургия во все времена не только предельно сближает своих персонажей, сталкивая их лицом к лицу, чем определяется особый характер их взаимо-действия (принимающего часто форму противодействия), но столь же тесно сопрягает завязку с развязкой. Так воплощается ее концепция бытия, согласно которой свободное волеизъявление лица неотделимо от ответственности, которую оно на себя тем самым возлагает и должно понести незамедлительно, в границах действия, завершающегося катастрофой и развязкой. Таков незыблемый принцип построения действия в любом из жанров драматургии и в нашем веке. Слова: «Ты этого хотел, Жорж Данден» — в своеобразной, разумеется, форме — выражают этот принцип. Что же касается «Тартюфа», то здесь действие развивается согласно «классическим» требованиям жанра. В кульминационных сценах, завершающих третий акт комедии, страсть Оргона достигает предельной силы. Ради Тартюфа он вытворяет все, на что способен как владыка в своем доме.
Но ослепленному Оргону — и в этом глубокий, сущностный смысл построения действия в драматургии вообще и в комедии в частности — предстоит пройти через {29} катастрофу-прозрение. Оно наступает в четвертом акте, когда Эльмира решает, что далее так жить невозможно и необходимо раскрыть Оргону глаза. Сцену прозрения Стендаль считал второй из тех двух, что непременно сопровождаются раскатами смеха в зрительном зале. Поместив Оргона под стол, покрытый скатертью, Эльмира заставляет его выслушивать разнузданные речи, обращаемые Тартюфом к ней. Ловко соблазняемый Эльмирой соблазнитель бурно требует исполнения своих желаний, подкрепляя это сентенцией:
Кто вводит в мир обман, конечно, согрешает,
Но кто грешит в тиши — греха не совершает.
Мхатовский спектакль 1939 года, изображая катастрофу, постигающую Оргона, отказывался от общепринятой выигрышной мизансцены: обычно ошеломленный, разгневанный Оргон выскакивает из-под стола и Тартюф заключает его, а не Эльмиру, в свои объятия. На сцене МХАТ создавалась иная ситуация: когда Эльмира приподымала скатерть, позволяя Оргону выбраться из-под стола, тот продолжал сидеть на полу с лицом, окаменевшим от боли, с глазами полными скорби и даже ужаса.
Это толкование сцены резко расходилось с общепринятым, которое разделяет и Э. Бентли, высказавший весьма ценные соображения об обеих центральных фигурах комедии Мольера. Сцену разоблачения Тартюфа Бентли называет кульминационной и толкует ее упрощенно, забывая свои же мысли об Оргоне. «Срывание масок в комедии сводится, как правило, к разоблачению одного-единственного персонажа в кульминационной сцене»[10], — говорит Бентли, ссылаясь при этом на интересующий нас эпизод. Но, во-первых, тут перед нами катастрофа. Кульминация же состоялась ранее, когда Оргон в третьем акте дошел до предела в своем сумасбродстве. А сцена четвертого действия, о которой говорит Бентли, более сложна, чем он думает: ведь здесь Эльмира, срывая маску с лица Тартюфа, вместе с тем ввергает Оргона в мучительную катастрофу. Именно в эти минуты его одержимость дискредитируется с не меньшей силой, чем низость Тартюфа.
Бентли эту ключевую сцену объясняет традиционно, упуская из виду, что здесь катастрофа обрушивается не {30} на одно лицо, как принято считать и как это обычно воплощалось сценически. Каждый из них — Тартюф и Оргон — переживает свою катастрофу. Оргон — нравственную. Так оно и представало на сцене МХАТ. Тут Оргон был не столько смешон, сколько жалок и даже трагичен. Трудно, мучительно давалось ему прозрение-очищение. Как не хотел, как не умел он поверить, что возвел мерзавца в ранг святого! Эта мизансцена была одной из самых новаторских, но и самых проникновенных и провидческих в мхатовском спектакле. Топорков не только понял, но как бы и предвидел, что не каждому дано безболезненно пережить крушение своих иллюзий, не каждый способен признать, как далеко завела его одержимость. Сцену фарсовую МХАТ преобразил в трагическую.
Подобно другим пьесам Мольера, «Тартюф» включает в себя элементы фарса. Муж под столом, а рядом его кумир, домогающийся его же супруги, — ситуация, казалось бы, вполне фарсовая. Однако Оргон — жертва не простого фарсового «недоразумения» и не фарсового же «плута», а изощреннейшего преступника. Но прежде всего он жертва собственной безоглядной веры в сотворенного им же кумира.
В пятом действии, в соответствии с законом симметрии, которому по-своему следует комедия, должна прозреть и прозревает г‑ жа Пернель. Лишь теперь — после долгого отсутствия — во второй раз появляется она на сцене. Мольер забавляет зрителя: именно Оргону предстоит раскрыть ей истину о Тартюфе. А она, не в силах поверить услышанному, на свой лад повторяет те аргументы сына, которые тот выставлял, отказываясь поверить Дамису. Диалог Оргона с г‑ жой Пернель напоминает тот момент в сцене катастрофы-прозрения из «Ревизора», когда Городничий, да и другие лица уже поняли, что Хлестаков — не ревизор, не вельможа, а Анна Андреевна верить в это не хочет, поскольку у нее свой аргумент: «Антоша, он же посватался к нашей дочери! »
Дорина бесцеремонно и злорадно определяет ситуацию:
Вам, сударь, платится по вашим же делам.
Вот, вы не верили? Теперь не верят вам.
В «Тартюфе» даны как бы две развязки. Фабульно-сюжетная строится на том, что Тартюф вот‑ вот станет {31} владельцем дома Оргона, но в дело вмешивается высший Разум в лице короля. Другая развязка связана с проблемой сотворения кумира, с ослеплением и прозрением, наступающим тогда, когда страсть к кумиру и его безумное возвеличивание кончаются крахом. Но и прозрение предстает в комедии в двух аспектах, как глубокое и как примитивное. Подобно тому как мы становимся свидетелями ослепления разного уровня, Мольер показывает нам и прозрение, различное по «качеству». Крах иллюзий Оргона вызывает у нас сострадательный смех. Упорно не желающей избавиться от своей «куриной слепоты» г‑ же Пернель мы отказываем в сочувствии: ее тупое упрямство порождает в нас сознание безусловного превосходства, чего мы по отношению к Оргону все же не испытываем.
Рисуя сцену прозрения г‑ жи Пернель, Мольер добивается ритмически-содержательного завершения темы, возникающей в первом явлении комедии.
О значении ритма в драматическом искусстве говорил в свое время Вс. Мейерхольд. Чеховская «Чайка» провалилась на Александринской сцене по той причине, что там не только не уловили настроения пьесы, но даже не имели об этом никакого понятия. А «секрет чеховского настроения скрыт был в ритме его языка. И вот этот-то ритм услышан был актерами Художественного театра»[11], чему и обязана своим успехом мхатовская постановка.
В стихе «заданный» ритм вызывает определенные ожидания, каждый раз оправдываемые звуковым и семантическим наполнением новой строки, но вместе с тем требующие поступательного развития темы. В стихотворении заданный ритм, как правило, «выдерживается» от завязки к развязке, от зачина к финалу.
Драматические ожидания, образующие ритм пьесы, и оправдываются, и резко меняются в процессе поступательного движения действия.
В комедии Мольера «задано» ожидание нарастающего ослепления, достигающего высшей точки, за которой наступает ожидание другого рода — прозрения. В произведении драматургии ритм «соблюдается» не так, как в стихе. Здесь, соответственно развитию коллизий, ритм ускоряется, замедляется, претерпевает {32} резкие изменения в пределах общего «алгоритма» данной пьесы.
В «Тартюфе» ритмика поэтапного ослепления чуть ли не зеркально «отражается» в ритмике поэтапного же прозрения. Это приводит к своего рода ритмическому равновесию, которое даже можно попытаться выразить схематически:
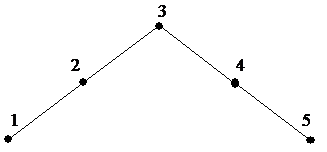
1 — ослепление г‑ жи Пернель;
2 — ослепление Оргона в первой сцене с Дориной;
2 – 3 – нарастающая одержимость Оргона, достигающая своей кульминации (второе и третье действия);
4 — первая комедийная катастрофа: разоблачение Тартюфа и прозрение Оргона (четвертое действие);
5 — вторая катастрофа: прозрение г‑ жи Пернель, стимулируемое Оргоном и бесцеремонным поведением бывшего святого, который уже прибирает к рукам дом Оргона (пятое действие).
Среди персонажей, не поддающихся ослеплению Тартюфом, на первое место претендует Клеант. Он — воплощение здравого смысла и не скупится на пространные монологи, отстаивая свою позицию.
В отличие от трагедии, комедия — так нередко говорят — отстаивает необходимость компромисса с жизненными устоями и наличными, общепринятыми нормами. Она будто бы осмеивает лишь крайности, отступления от нормы, «излишества» в проявлениях чувств и страстей. Французский автор Э. Фаге, представляя Мольера сторонником «золотой середины», сводит смысл «Тартюфа» к простейшей сентенции: «Не предавайтесь набожности — вы будете смешны». В нашей отечественной критике Мольера тоже нередко представляют сторонником «здравого смысла»[12].
В «Тартюфе» несколько лиц действительно выражают такого рода философию: наряду с Клеантом — Дорина {33} и остающийся за сценой король. Он — существо в высшей степени разумное и не знающее «увлечений», а тем более заблуждений. Как видим, Мольер не мог обойтись без небольшой дозы лести покровительствовавшему ему королю. Здесь сказывается и характерная для драматургии XVII века апология разума, чья упорядочивающая энергия противостоит «разрушительным» страстям. Вместе с тем в таком возвеличении короля как носителя высшей справедливости, которого представительствует на сцене некий безымянный офицер, заложена и ирония — пусть для поверхностного взгляда скрытая. Когда сей офицер в своем монологе приписывает королю все возможные добродетели, заявляя, что
Он увлечения не знает никогда,
И разуму его несдержанность чужда, —
то тут ведь, между прочим, осуждается не только «бесстыдный наглец» Тартюф, но и чрезмерно «увлекающийся» Оргон. Однако Мольер ведь прекрасно понимал, что панегирик «идеальному герою», каковым здесь предстает Людовик XIV, может вызвать у зрителя и ироническую реакцию.
Подвергая Оргона осуждению со стороны короля устами офицера, осуждая его и устами Клеанта, чего же все-таки добивается тем самым драматург? Сочувствует ли Мольер Оргону, относится ли к «неразумным» его заблуждениям с пониманием того, что тут сработали не пустяковые прихоти и не врожденные тиранические инстинкты? На это мы не беремся давать однозначный ответ.
Не только король, но и все здравомыслящие персонажи «Тартюфа» относятся к Оргону весьма критически. Дорина — свидетельство «плебейских» симпатий Мольера. Ее, пусть грубоватый, здравый смысл выражает себя в бескомпромиссном отношении к Тартюфу. Она — душа сопротивления тартюфству, возникающему в доме Оргона.
По-иному подан в пьесе Клеант со своим здравомыслием. В этом персонаже иногда пытаются увидеть размышляющего на сцене «интеллектуального» героя. Но Мольер относится к нему не без иронии, побуждая нас вглядеться в противоречивую природу его поведения, размышлений и наставлений. Конечно, Клеанта можно воспринять как вторгающегося в сложную ситуацию {34} говоруна, чья многоречивость утомительна, но безвредна. Мольер побуждает нас вглядеться в него пристальнее. Да, первоначально он пытается образумить Оргона, выдвигая против показной святости и ханжества (а тем самым против Тартюфа) весьма веские аргументы. Слепота Оргона его крайне поражает:
Как? Неужели вы не видите того,
Где благочестие и где лишь ханжество?
Клеант уверен, что «ничего гнусней и мерзостнее нет, чем рвенья ложного поддельно яркий свет». Он выступает против «ловкачей», «проворных», «мстительных», «бессовестных», «жестоких», умеющих «святостью прикрыть свои пороки».
На одержимого Оргона проницательные тирады Клеанта с его моралью «золотой середины» не оказывают никакого воздействия. Но важно не только это: трезвый, рассудительный Клеант в ходе событий обнаруживает все большую беспринципность. В пятом акте, когда ситуация обостряется, он убеждает Оргона пойти с Тартюфом (спешащим заполучить дом, согласно дарственной, выданной ему в третьем акте) на компромисс. Здравомыслие Клеанта оборачивается готовностью к примирению со злом и даже к потворству ему. В последней реплике Клеанта, когда он призывает Оргона не гневаться на подонка Тартюфа, уже звучит отталкивающее ханжество:
Нет, вы должны желать, чтобы отныне он
Был к добродетели душою обращен.
Клеант хотел бы уверить Оргона в том, что в Тартюфе зло способно перерасти в добро. Надежда от начала до конца ханжеская. Ведь Тартюфа подавили, на время обезопасили посторонние силы, а укорененное в нем зло — неустранимо.
Исступленная страсть Оргона раскрыта Мольером во всей ее противоречивой сущности. Посмеиваясь над Оргоном, мы и задумываемся над природой его одержимости. И мы почему-то сочувствуем ему более, чем жертвам его сумасбродств. Что же касается Клеанта с его прописными истинами и банальными призывами, то он подан в комедии весьма иронически. Его «здравый смысл» не представляет реальной жизненной ценности. Осторожность и бесстрастие — почва, на которой может {35} произрастать зло тартюфства. По существу вся философия Клеанта сводится к идее: опасно обострять жизненные ситуации, как бы чего не вышло. Из них двоих именно здравомыслящий Клеант, а не «безумный» Оргон вызывает у зрителя чувство превосходства.
В «Тартюфе», поставленном на сцене того же МХАТ А. Эфросом (1981), критика единодушно одобрила исполнение Ю. Богатыревым роли Клеанта. Здесь патетическая болтовня осмотрительного резонера, этого адепта умеренности с его душеспасительными сентенциями, стала предметом веселого комедийного осмеяния. Тут актер позволял себе безудержно издеваться над своим персонажем, встречая радостное одобрение зрителя.
Такая трактовка образа Клеанта тоже таилась в тексте комедии, таилась долго, покуда не пришло время вызволить и эту тайну на свет божий. К сожалению, в своем спектакле А. Эфрос слишком «простодушно» отнесся к сложной ситуации Оргон — Тартюф. Зато Клеант здесь, видимо, впервые предстал на сцене не добродетельным, хотя и скучным резонером, а персонажем откровенно и безусловно комическим.
Как известно, Гоголь, высоко ценивший Мольера, «так обширно и в такой полноте развивавшего свои характеры», считал «любовную завязку», лежащую в основе его комедий, устаревшей. В «Тартюфе» Мольер дает традиционную развязку любовной завязки: все кончается благополучно для Марианны и Валера.
Однако справедливости ради надо признать: в этой комедии решающее значение приобретает проблематика, которую Гоголь считал «истинно-общественной», а перипетии влюбленных молодых людей отступают на второй план. В «Критике “Школы жен”» Мольер устами Урании настаивает на том, что его комедии «имеют общий смысл», насыщены большим общественным содержанием. Именно Урании принадлежит язвительная реплика, взятая эпиграфом к нашему анализу «Тартюфа». В годы, когда эта пьеса была под запретом, создавались комедии «Дон Жуан», «Мизантроп», «Амфитрион», «Жорж Данден», в каждой из которых более или менее явно звучали трагические ноты.
Мольер начинал с фарсов или полуфарсов, упорно преобразовывая этот жанр в высокую комедию. «Тартюф» знаменует полный расцвет его таланта: тут коллизии {36} обрели гораздо большую общезначимость, чем в его более ранних произведениях. Персонажи-маски все отчетливее предстают как характеры, в которых воплощены общественные нравы, глубокие человеческие страсти и низкие вожделения, прихоти и безудержные заблуждения. Так он поднял комедию на уровень трагедии, представленной в то время творчеством П. Корнеля и Ж. Расина. А в нашем веке комедии Мольера привлекают гораздо больший интерес театров и зрителей, чем трагедии его великих современников.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|