
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
19.07.1965 1 страница
Основной результат прошлого доклада может быть сформулирован в двух положениях. В первой части его я говорил о том, что попытки исследовать мышление, пользуясь категорией процесса, привели нас к выводу, что мышление, если его брать в целом, не является процессом, не может быть представлено как процесс. В связи с этим встал вопрос, должны ли мы применять этот тезис к мышлению, взятому в целом, или также и ко всем его частям. Я склонялся скорее к первой, более узкой точке зрения, что мышление, взятом в целом, не может рассматриваться в виде процесса.
Но это, с моей точки зрения, не исключало того, что внутри мышления могли быть выделены такие элементы, которые, возможно, удалось бы рассмотреть как некоторый процесс. Но этот, второй момент остается пока открытым. Важно, что мышление в целом нельзя рассматривать как процесс, а к нему должна применяться другая, исключающая понятие процесса, категория, а именно категория структуры.
Более точным, наверно, было бы даже говорить не «исключающая» понятие процесса, а включающая его в себя на правах подсобного понятия, относимого к некоторым элементам. Этот тезис имел прежде всего формальный, методический смысл. Он означал, что если мы хотим рассмотреть мышление в целом или некоторые «единицы» мышления, то должны представлять их в виде некоторых структурных образований, содержащих в себе разнородные элементы и связи между ними.
В позапрошлом и прошлом докладе этот тезис специализировался еще положением, что, следовательно, мы не можем подходить к анализу мышления, исходя из понятия однородного времени. Положительный смысл понятия структуры заключается прежде всего в том, что оно предполагает разнородное и разнонаправленное время. А анализ мышления по углом зрения структуры означает, что нельзя спроецировать явления мышления на одну временную ось. Методический смысл применения понятия структуры состоял в том, чтобы исключить попытки анализа мышления, основанной на идее подобных проекций, исключить всякое предположение о возможности представить его в виде ряда следующих друг за другом частей, в частности, операций.
Но дальше, вполне естественно, вставал вопрос, что это за структура, как ее нужно изображать. Обсуждая этот вопрос, мы проделали ряд шагов. Я говорил о том, что уже на первых этапах анализа мышления произошло разделение явлений мышления на две группы: группу, которая в старой терминологии называлась процессом, и группу средств. Мы получили разборный ящик, содержащий по крайней мере две ячейки. Я подчеркивал, что при этом происходит разделение и выделение: первое — материального плана анализа мышления и второе — функционального плана анализа.
Если мы имеем текст в качестве фрагмента эмпирического материала, то все, что мы в нем обнаруживаем, разносится по блокам введенной нами схемы. При этом, если наш анализ текста строится по материальным принципам, то мы не можем разделить текст на ту часть, которая попадает в ячейку процесса, и ту часть, которая попадает в ячейку средств. Одни и те же части текста, взятые как бы с разных точек зрения и в связи с разными задачами, будут попадать в одних случаях в ячейку процесса, а в других — в ячейку средств.
В этой связи перед нами, естественно, встал вопрос о смысле подобных представлений мышления, то есть представление его в виде блок-схемы или разборного ящика. Следующий шаг, который был сделан в этой связи, превращал разборный ящик в структуру.
Средства с одной стороны, и процессы с другой стороны, стали рассматриваться уже не как ячейки разборного ящика для размещения вычленяемых в тексте элементов, а как элементы некоторой целостной системы, связанные между собой. Такое представление неизбежно вело к вопросу о том, что представляют собой связи в подобном структурном представлении мышления и каким образом их можно выявлять или конструировать.
В этой связи мы говорили о том, что определение характера связи между элементами блок-схемы, изображающими мышление, предполагает обращение к общей интуитивной картине того целого, которое мы изучаем, и реконструкцию, хотя бы в общих чертах, того, что мы называли онтологией.
Эта новая онтологическая картина должна была быть представлена как изображение некоторой реально существующей социальной кинетики. А в зависимости от этого представления социального целого, мы должны были вводить те или иные связи — мы выяснили, что их может быть несколько равных, в зависимости от того, в каком плане мы рассматриваем наше целое — и каждый раз приписывать им тот или иной объективный смысл.
В этой связи я рассматривал сначала одно, первое истолкование, которое мы придавали этим словам, детерминированное нашими общими историческими и генетическими принципами; это были связи развития, мыслительной деятельности или деятельности вообще. Я говорил о том, что двухблочное представление деятельности мышления открыло перед нами новые возможности в решении старых и весьма больших вопросов объяснения механизмов развития мышления и других организаций деятельности. Я особенно резко подчеркивал установленный многими исследователями факт, что рече-мыслительные тексты не могут включаться в системы развития и не могут трактоваться, если мы берем их изолированно и сами по себе, как развивающиеся.
Двухблочная структура «средства-процессы», которую мы структурировали в единицы «средства-I — процесс-I — средства-II», наоборот, могли быть организованы в весома простые схемы развития.
Я специально остановился, хотя и не очень подробно на функциях разных блоков или элементов в общей системе развивающегося мышления. Я показывал, что блоки средств и процессов подчиняются, по сути дела, разным законам жизни. Блок процессов выступает как своеобразный смеситель, в котором, исходя из уже имеющихся средств и на их основе, создаются новые образования разного рода, в первую очередь — в виде новых связей, но они затем перетаскиваются в блок средств уже как материально оформленные содержательные элементы, как собственно средства.
По-видимому, именно блок процессов связан с тем, что мы называем ассимиляцией объектов. Именно через процессы и процедуры объекты «схватываются» деятельностью и включаются в ее системы. Я говорил о рефлексивных процедурах, посредством которых новообразования, возникающие в процессах или процедурах, «перетягиваются» затем в блок средств.
Я говорил о том, что, построив схемы развития мышления, мы затем дали им принципиально новое истолкование и стали рассматривать их не как представление процессов развития, а как представление механизмов воспроизводства деятельности. Ясно, что с этой, новой точки зрения должны быть получены новые истолкования и объяснения связи между блоками схемы. Так мы пришли к точке зрения воспроизводства деятельности, которая вскоре стала для нас исходной и определяющей все остальные.
Приняв идею воспроизводства, мы должны были перейти к совершенно новым формам и способам истолкования всего того, что происходит в универсуме деятельности. В связи с этим мы начали по-новому смотреть на саму деятельность и по-новому определять ее структуру.
Если раньше мы исходили из двухблочного представления деятельности в виде связки средств и процессов, то теперь мы должны были как бы «замазать» целое деятельности и поставить вопрос как бы заново: если воспроизводство является главным процессом в универсуме деятельности, то какой должна быть структура деятельности, взятой как в целом, так и в любых ее отдельных фрагментах и единицах, чтобы она сделала возможным воспроизводство и наилучшим образом обеспечило его течение.
Мы взяли на себя обязательства, рассматривать жизнь социального целого прежде всего с точки зрения его воспроизводства. Мы стали говорить, что структура деятельности должна быть такой, чтобы она могла удовлетворить механизмам воспроизводства. Идея воспроизводства дала нам в руки путеводную нить для того, чтобы по-новому определить и задать необходимую структуру деятельности.
Вполне возможно, что в дальнейшем мы должны будем наложить еще дополнительные требования, чтобы структура деятельности обеспечивала бы не только воспроизводство, но, скажем, также и развитие. Но это можно будет сделать только в следующих слоях анализа.
Итак, какой же структурой должна обладать мыслительная деятельность, чтобы непрерывно осуществлялся и не подвергался угрозе разрушения процесс воспроизводства общественной социальной деятельности. Этим закончился прошлый доклад и этим же я начинаю свой сегодняшний доклад.
Прежде всего я хочу обратить ваше внимание на то, что такая постановка вопроса ставит нас в принципиально новую ситуацию по сравнению со всем тем, что было в наших исследованиях до этого. Раньше предметом нашего изучения было мышление. Мы предполагали, что мышление есть та область деятельности и та область эмпирических проявлений, изучение которой даст нам возможность построить методологию науки и содержательно-генетическую логику.
Именно апелляция к мышлению, как к некоторой идеальной действительности и вместе с тем как к некоторой эмпирически выявляемой реальности давала нам возможность говорить о логике и методологии науки как о некоторых эмпирических областях. Выражение «эмпирическое» я употребляю здесь как противоположное выражению «математическое». В этих условиях само понятие деятельности выступало для нас прежде всего как некоторое методическое средство при исследовании мышления. Эмпирическая область задавалась идеей мышления и нашими представлениями и понятиями о мышлении. Это была наша первая эмпирическая область.
Но кроме того, говорили, что мышление надо рассматривать как деятельность. Это означало, что категория деятельности была для нас средством и с помощью этого средства мы получали некоторые изображения мышления, как идеального объекта, соотнесенного с определенными эмпирическими проявлениями. Теперь, когда мы говорим, что социальное целое задается как универсум деятельности, деятельности вообще, и мы должны найти его структуры, обеспечивающие воспроизводство, то сама деятельность из разряда средств анализа переходит в разряд идей, задающих новые идеальные объекты и соответствующую эмпирическую область. Понятие деятельности, в связи с этим, перестает быть для нас чисто методическим понятием и средством, а становится объектно ориентированным понятием, задающим свою особую область эмпирического материала, и требующим, следовательно, точно такого же подхода и такого же анализа, какой мы раньше применяли к мышлению.
И это было, может быть, одним из самых важных результатов, который мы получили на этом этапе развертывания наших представлений. Он очень интересен с методической стороны, и в плане оценки того движения, посредством которого мы пришли к нему. Этот переход может быть охарактеризован как один из регулярных механизмов развития представлений науки. Поэтому, сказав о том основном содержательном результате, который у нас получился, постараюсь еще раз обсудить его более подробно и в собственно-методических аспектах.
Когда в 1951–1952 гг. А.А.Зиновьев поставил задачу построения содержательно-генетической логики, то он прежде всего выделил некоторую область эмпирического материала. Вы знаете, что особое место в этом материале занимал «Капитал» К.Маркса, структуру которого надо было проанализировать.
Считалось, что «Капитал» представляет собой образец принципиально нового построения научной теории и репрезентацию метода восхождения от абстрактного к конкретному. Средств для анализа этого эмпирического материала, как вы знаете, почти не было. Поэтому приходилось анализировать «Капитал» и строить его изображения и как системы теорий, и как очень сложного рассуждения, не имея для этого адекватных средств. В тот период у нас не было четкого различения средств анализа и изображений некоторого объекта. Больше того, как мне кажется, на том этапе развития науки и нашего собственного развития этого различения вообще не могло быть. Но когда затем выделялась новая область эмпирического материала, на который мы хотели перенести тот же самый способ анализа и некоторые принципы, которые были интуитивно нащупаны, при создании первых изображений изучаемого объекта, скажем, процесса мышления в «Капитале», то у нас неизбежно и вообще, по-видимому, всюду начинается раздвоение схем на средства анализа и собственно изображения. Этот процесс происходит очень естественно благодаря происходящим прежде всего смене употреблений или функций. Если по отношению к первой области эмпирического материала эти схемы, бесспорно, были некоторыми изображениями — и только такими они и могли быть — то в отношении к новому эмпирическому материалу и новой области они неизбежно выступают в функции уже готовых средств. Средства как таковые уже не являются или не должны быть изображениями изучаемого объекта; они служат подспорьем для построения таких изображений, тех, которые будут действительными для нового эмпирического материала.
Аналогичную вещь, как мне кажется, обнаружил В.М.Розин, исследуя историю развития алгебры и геометрии. В частности, мы обсуждали эту проблему в теме «Обратных задач». Когда в геометрии или алгебре решена какая-то задача, скажем, задача на составление поля из большого числа частей, а затем ставится так называемая «обратная задача» — разделить уже имеющееся целое поле на части, находящиеся в определенных отношениях друг к другу, то, как правило, решение первой, «прямой» задачи начинает использоваться в качестве средства для построения решения «обратной задачи». Если результат решения первой задачи был некоторым изображением ситуации или объекта в связи с самой первой задачей, то в связи со второй задачей он выступает уже как средство, на базе которого строят новые решения.
Дальнейшая линия наших исследований должна была развиваться и развивалась как бы двумя путями или по двум траекториям. С одной стороны, мы разрабатывали средства логико-методологического исследования, а с другой стороны, строили все новые и новые изображения, входившие в систему самой теории.
Я не буду входить в детальное обсуждение этого вопроса, поскольку он достаточно сложен, а скажу лишь, что при этом происходило не только использование старых изображений в качестве средств для нового анализа — это было бы в каком-то смысле тривиальным, по отношению к тем случаям, о которых я только что рассказал — но при этом, в добавок ко всему, происходило размежевание двух областей по материалу самих знаковых схем и способам их отнесения к онтологическим картинам и эмпирическому материалу.
С какого-то момента разработка средств отделилась от разработки и получения изображений объекта и стала особой линией нашего теоретического анализа. Вполне вероятно, что подобное размежевание происходит в связи с некоторыми дедуктивными процедурами, то есть не в области приложению уже готовых схем в качестве трафарета для анализа эмпирического материала, а тогда, когда мы ставим задачу выделить какую-либо исходную структуру или «клеточку», чтобы потом из нее развернуть более сложную структуру, а потом еще более сложную, и это движение идет во многом безотносительно к анализу эмпирического материала, который находится как бы рядом.
Я не говорю, что как само это движение, так и разделение схем на схемы-изображения и схемы-средства никак не связано с эмпирическим материалом и его анализом. Такого не бывает и не может быть. Любая дедуктивная процедура, ориентирующаяся на реально и эмпирически заданные объекты, всегда так или иначе связана с эмпирическим материалом. Но, когда выделяется линия развертывания схем как средств, то она очень часто — конечно, при определенных дополнительных условиях — превращается в линию, не связанную непосредственно с описанием тех или иных единичностей эмпирического материала. Наверное, на все это накладываются дополнительные моменты осознания схем как средств особого рода.
В самой первой лекции этого цикла я говорил о том, что любая наука может быть представлена в виде связки двух цехов. Первый цех выдает те знания, которые используются либо в практических сферах, либо в других науках. Это — цех выдачи продукции во вне. Но для получения тех знаний, которое первый цех выдает в практику, мы должны иметь определенные средства. Только в том случае, если при производстве знаний существуют и используются определенные средства, мы имеем науку в отличии от искусства. Но сами средства тоже должны быть произведены и этим занимается второй цех «научной фабрики».
На первых этапах развития науки эти два цеха не очень отделены друг от друга — об этом мы уже говорили — и сами средства производятся путем искусства, с опорой на опыт, интуицию и фантазию. Нередко средства возникают сами или производятся случайно. Их не столько изображают и строят, сколько они сами обнаруживаются и проявляются. Когда средства появились, они служат некоторым регулятивом и средством для построения знаний в первом цехе, причем вся эта работа строится по строгим канонам научного производства.
Именно так, как я это здесь описываю в общих чертах, получалось все и у нас самих. Сначала нерасчлененная и недифференцированная фабрика наших исследований постепенно расчленялась на два цеха. Вместе с размежеванием схем на изображения и средства происходило размежевание производящих их деятельностей. На первых этапах проверка правильности или истинности как изображений, так и средств производилась путем отнесения к исходному эмпирическому материалу.
Если схемы, полученные на этой фабрике, «работали» в отношении к исходному эмпирическому материалу и поставленным задачам, то тем самым они оправдывались. Если эти схемы, выступавшие уже как изображение, производились в помощью каких-то средств, то этой же процедурой оправдывались и средства. Но оправдание средств было опосредовано и поэтому даже во времени, оно отодвигалось от проверки тех знаний, которые с их помощью строились. Поэтому с какого-то момента — и это было вполне естественным — возникает тенденция ввести какие-то дополнительные правила, критерии и основания, с помощью которых можно было бы оценивать правильность и истинность тех средств, которые мы строим именно как средства, то есть безотносительно к их функции изображения некоторого объекта и охвата некоторого эмпирического материала.
Это должны быть были основания, оценивавшие средства как таковые, безотносительно к работоспособности полученных на их основе эмпирически ориентированных изображений и знаний.
Вместе с тем уже одна такая постановка задач ведет к тому, что над вторым цехом научной фабрики или рядом с ним начинает надстраиваться третий цех, в котором производится оценка вырабатываемых средств.
Если на первом этапе средства, производимые вторым цехом, нащупывались и создавались на основе интуиции и фантазии, если условиями для них были какие-то определенные эмпирические случаи, то затем, неизбежно, возникает стремление получать их как знания о чем-либо, то есть таким же строгим и точным научным путем, каким мы получаем схемы изображения в первом цехе.
Тогда центр тяжести научной работы смещается на один блок вправо. Средства в третьем цехе производятся теперь интуитивно, путем искусства, а продукты второго цеха производятся уже собственно научным путем, то есть на основе средств, выработанных в третьем цехе.
Важно выделить здесь возникающую с какого-то момента установку на эмпирическую проверку схем, вырабатываемых во втором цехе, проверку, которая производится независимо от какой-либо оценки знаний, вырабатываемых в первом цехе. Одновременно работа по созданию средств, с помощью которых вырабатываются знания, превращается в работу по созданию самих знаний, которые имеют, как обычно говорят, более общий характер и поэтому могут сохранять свою функцию средств по отношению к знаниям, получаемым в первом цехе.
Для этого, как уже говорилось, работа по конструированию средств должна быть превращена из искусства, опирающегося на опыт и интуицию, в собственно научное исследование, использующее специальные средства — те которые создаются в третьем цехе.
Чтобы осуществить первый из названных моментов, мы должны найти для второго цеха свою особую эмпирическую область, чтобы осуществить второй — нужно построить специальный третий цех.
Именно это, как мне представляется, получилось у нас с понятием деятельности. Сначала мы должны были создавать знания о мышлении. Понятие деятельности выступало на этом этапе наших исследований в качестве средства анализа. Оно было, если хотите, понятием метаслоя в наших содержательно-генетических исследованиях. Но в дальнейшем, чем больше мы оперировали понятием деятельности и чем больше появлялось схем, изображающих деятельность, тем острее вставал вопрос: что такое сама деятельность, как она может изображаться, каковы ее специфические черты?
Когда мы пользовались понятием деятельности как средством, то вопрос, что такое деятельность либо вообще не поднимался, либо же ставился в другом смысле. А если кто-то очень начинал приставать к нам с этими вопросами, то мы обычно указывали на наши схемы — те схемы, которые в этот период более всего употреблялись — и говорили: деятельность есть это изображение или, точнее, что таким образом изображается.
На первом этапе таким изображением служило «пятичленка» или, как мы ее называли между собой, «конверт». По сути дела, пятичленка в этот период ничего не изображала; вместе с тем, не существовало никакой эмпирической области, на которую можно было бы относить ее. Мы не относили пятичленку на некоторую эмпирическую области, а мы применяли ее в качестве средства собственной работы, причем — не в качестве трафарета, а в какой-то иной функции, мне кажется — в функции управления нашей собственной деятельности. На этом этапе мы применяли схему пятичленки к другим схемам, в частности, к схемам, изображающим мышление, мы оценивали схемы мышления с точки зрения схемы пятичленки.
Но, чем чаще ставился вопрос: что такое деятельность как объект и каковы ее эмпирические проявления, тем более интенсивными, естественно, делались попытки отнести пятичленку на эмпирический материал и начать работать с ней как с некоторым трафаретом.
Не осознавая достаточно отчетливо свои собственные шаги, мы, по сути дела, проделывали такую работу в прошлом году, когда мы сделали ряд попыток отнести схемы пятичленки непосредственно на эмпирический материал и даже начать с ними работать как с некоторыми дедуктивно выводимыми схемами. По сути дела, мы начали работать со схемами деятельности точно также, как мы раньше работали со схемами знаний и мыслительных процессов.
Естественным результатом всего этого было то, что мы начали искать эмпирическую область и новый эмпирический материал для того, чтобы оправдать свои схемы деятельности. Вы помните, я надеюсь, что в докладе В.М.Розина недавно был сформулирован упрек в том, что у нас фактически нет эмпирического материала для схем массовой деятельности и была сделана попытка рассказать, как искать такой эмпирический материал.
Но все это было лишь разными проявлениями одного процесса, о котором я рассказывал в общем виде — превращения работы по созданию схем-средств в схемы-знания, достраивания нашей фабрики еще одним цехом и смещению центра тяжести исследований на один цех вправо. Но тем самым мы начали создавать рядом с основаниями теории мышления основания еще одной науки — теории деятельности.
На первом этапе понятие деятельности было методическим понятием, это был некоторый способ работы, определенные требования к схемам мышления. На следующем этапе оно перестало быть просто методическим понятием, а стало также указанием на некоторую особую область эмпирического материала, на некоторый новый особый предмет, фактически, на некоторые новые объекты и вместе с тем — установкой на разработку основ теории деятельности. Чтобы изобразить это схематически, нужно зарисовать:
на первом этапе —
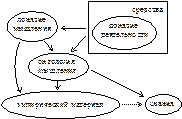
на втором этапе —
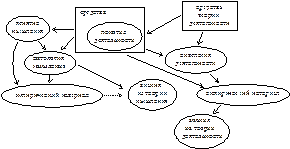
Важно подчеркнуть, что появление всей правой части является результатом специального рефлексивного осознания наших средств. В итоге центр тяжести исследований перемещается в другую область и мы начинаем, как я уже говорил, формировать новую науку — науку о деятельности (вообще).
Здесь я должен оговориться, что для упрощения всей картины и для того, чтобы сформулировать основные мысли в более резкой форме, я выбросил при характеристике происходившего процесса несколько существенных звеньев. В частности, я слишком суммарно рассматривал сами средства и из-за этого могут возникнуть всякого рода замечания и недоразумения.
При более детальном анализе сами средства, наверное, надо было бы разделить на три типа средств. То, что мы называем деятельностью, должно было бы стоять в самом верхнем блоке средств. Кроме того, надо было бы ввести в схему блок метода. Но введение всех этих блоков фактически ничего не изменило бы в моих рассуждениях, поэтому я пошел на ряд огрубляющих упрощений, чтобы резче выразить основную мысль.
Кроме того, я очень нестрого употреблял такие термины как «средство», «понятие», «знание», «онтология», более точные и детализированные изображения их, конечно, внесло бы определенные коррективы в способы моего рассуждения, но, как мне представляется, не изменило бы общего результата.
В результате всего движения, о которым я рассказал, понятие деятельности из методического средства, употребляемого в блоке средств, превратилось в теоретическое понятие, соотнесенное непосредственно с онтологией и эмпирическим материалом. В результате, когда сегодня мы говорим: «деятельность», то мы имеем в виду определенную действительность, в то время как раньше, говоря это слово, мы имели в виду тот способ, каким предполагали строить теорию мышления.
Мы говорили: мышление есть деятельность и таким путем фиксировали характер наших исследовательских процедур, тип знания, которые мы предполагали получить в конце и тип теории; короче говоря, тогда выражение «деятельность» использовалось прежде всего или преимущественно в категориальном смысле.
Теперь же, повторяю, деятельность стала особой действительностью и объектом, который нам надлежит исследовать. Но при этом, очевидно, аспекты самого способа или процедур работы в известном смысле теряются, отходят на задний план и поэтому мы должны заново ставить все вопросы, касающиеся метода. Если на первом этапе, говоря, мышление есть деятельность, мы предполагали, что тем самым определены способы, какими мы должны исследовать мышление, а также формы, в которых оно должно изображаться, то теперь, наоборот, сказав «деятельность» мы должны сразу же спросить себя, как она может быть изображена и как ее нужно исследовать.
Если брать этот вопрос в практическом плане, то ответ на него предрешен: может существовать много разных изображений деятельности, их характер будет зависеть от того, какие практические задачи мы собираемся решать. А в теоретическом и методологическом плане этот вопрос становится подлинной проблемой, ибо мы еще должны выяснить, в чем состоят специфические особенности деятельности и какие категории мы должны применять в анализе ее.
Розин. А можем ли мы после этой смены акцентов и направлений исследования вернуться к решению исходной задачи, касающейся самого мышления?
Можем и должны. Я постараюсь как-нибудь в дальнейшем показать, как мы, пройдя весь цикл в описанном выше мною движении, возвращаемся назад к анализу и описанию мышления и как мы начинаем строить исследования мышления с учетом всего того, что мы узнали про деятельность.
Розин. Анализ истории науки показывает, что каждый раз, когда происходить подобное выделение новых предметов, то никогда потом не возвращаются к старой науке и к старому предмету. Тогда те же самые, казалось бы, задачи решаются другими методами и способами. Каждый раз получается, что уходя как бы для разработки средств, а когда разработают средства, то возвращаясь, начинают решать другие задачи.
То, что ты говоришь, содержит лишь половину правды и поэтому не точно. Верно, что, разработав новые средства, начинают решать задачи иначе, чем решали бы раньше. Но ведь раньше эти задачи очень часто вообще не могли быть решены. Верно также, что сами задачи получают другой смысл, а часто и другой вид. Но в контексте деятельности это все же — старые задачи, именно их решают, хотя благодаря отнесению к ним новых средств эти задачи приобретают другой смысл, а часто и переформулируются.
Но ведь именно ради этого и проделывается все движение. Решить надо именно старые задачи, но по-новому и при этом они выступают как новые задачи. Именно то, что вернувшись, мы перестраиваем старые задачи в плане и с точки зрения новых полученных нами средств и является основным реальным достижением, которое таким путем получается. Но это не значит, что мы решаем другие задачи. Те же самые задачи ставятся теперь иначе и решаются как иные задачи.
Розин. Но с помощью новых средств можно решать не только старые задачи, но и ряд новых задач, которые теперь удается ставить именно благодаря наличию новых средств.
Еще один момент мне хотелось бы подчеркнуть. Если на первом этапе понятие деятельности было средством при построении мышления, а теперь, при разработке теории деятельности, мы должны иметь какие-то иные средства, то, вполне естественно спросить, что будут представлять собой средства из теории деятельности.
Здесь я прихожу к одному довольно парадоксальному выводу и представлению. Если мы заявили, что деятельность есть некоторая структура, и, следовательно, мы должны исследовать ее как структуру, то этим самым мы в каком-то смысле предрешаем и характер тех средств, которые будут употреблены при построении теории деятельности. Если деятельность есть структура, то ее специфический момент может заключаться только в типе этой структуры, то есть в характере блоков, связей между ними, процедурах оперирования со структурой и в характере тех естественных процессов, которые мы ей припишем.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|