
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ 3 страница
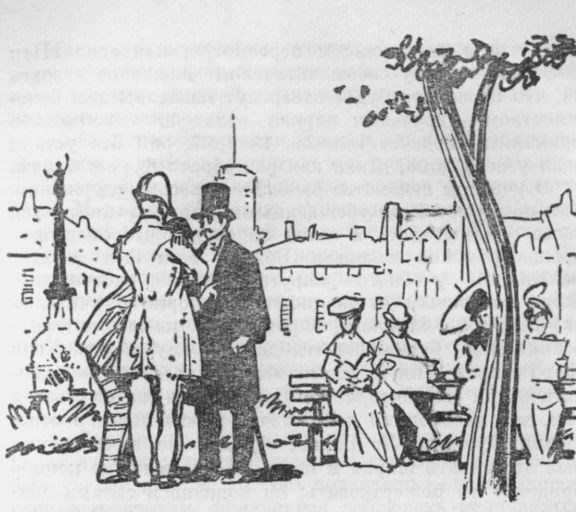
В учебном ведомстве радовались весьма сдержанно. Там почти все были убежденными симонистами, но так часто обманывались в своих надеждах, что опасались преждевременно ликовать. Больше всех был доволен начальник учебного округа Форб, рассчитывая скоро избавиться от неприятной истории с учителем из Майбуа, Марком Фроманом, из‑за которого реакционеры буквально не давали ему покоя. Хотя Форб старался ни во что не вмешиваться, целиком полагаясь на инспектора Ле Баразе, все же он указал ему, что необходимо действовать решительнее в отношении Фромана. Ле Баразе больше не в состоянии был отстаивать Марка и понимал, что в конце концов придется им пожертвовать; он поделился своими опасениями с Сальваном и очень его огорчил. Зато как торжествовал добрейший Сальван, когда Марк, зайдя к нему, сообщил радостную весть о предстоящем пересмотре дела! Сальван сердечно обнял Марка и рассказал об угрожавшей ему опасности, которую могло устранить лишь благоприятное решение суда.
– Дорогой друг, – сказал он, – если бы не пересмотр, вас неизбежно бы уволили; вы слишком далеко зашли, реакционеры жаждут вашей крови… Я бесконечно счастлив, ведь ваша победа будет означать торжество светской школы.
– Дай‑то бог, – отвечал Марк, – наши успехи пока слишком незначительны, почти всюду царят суеверия и невежество, хотя вы и стараетесь обеспечить округ хорошими педагогами.
Но веру Сальвана в будущее нелегко было поколебать.
– Безусловно, еще немало людей посвятят жизнь великому делу. Ну что ж! Все‑таки мы приближаемся к цели, и мы ее достигнем.
Марка окончательно убедила в близкой победе встреча с инспектором начальной школы Морезеном: едва завидев учителя, выходившего от Сальвана, он бросился к нему.
– Ах, дорогой господин Фроман, как я рад вас видеть! Ведь вне службы приходится так редко встречаться!
С тех пор как был поднят вопрос о пересмотре дела, Морезена обуревала страшная тревога. Найденная пропись, оторванный Филибеном уголок, установленная подделка – все это подействовало на него удручающе. В свое время он открыто встал на сторону антисимонистов в надежде, что церковники всегда выйдут сухими из воды, а теперь испугался, что избрал неверный путь: если они проиграют, как станет он выпутываться один, без помощи сильных мира сего?
И хотя улица была безлюдна, он наклонился к Марку и зашептал ему на ухо:
– Знаете ли, дорогой Фроман, я никогда не сомневался в невиновности Симона. В глубине души всегда был уверен в этом. Но что поделаешь – нам, общественным деятелям, приходится соблюдать величайшую осторожность!
Морезен давно метил на должность Сальвана, но теперь можно было ожидать, что симонисты возьмут верх, и он хотел примкнуть к ним накануне их победы. Однако он еще не был вполне уверен, что они восторжествуют, и до поры до времени опасался показываться в их обществе. И он поспешно распрощался с Марком, шепнув:
– Торжество Симона будет нашим общим торжеством.
По возвращении в Майбуа Марк и там заметил некую перемену. При встрече с ним бывший мэр Дарра не ограничился, как бывало, сдержанным поклоном. Он остановил Марка на главной улице, добрых десять минут на глазах у всех разговаривал с ним и громко смеялся. Дарра был с самого начала симонистом, но, вынужденный уступить пост мэра клерикалу Фили, он стремился вновь его занять и находил нужным из дипломатических соображений держать язык за зубами, не высказывая своих мыслей и намерений. Если он решился теперь, отбросив всякую осторожность, открыто разговаривать с Марком, значит, был совершенно уверен в оправдании Симона. Когда мимо них с хмурым видом и с опущенной головой проскользнул Фили, Дарра понимающе подмигнул Марку и проговорил с усмешкой:
– Вот уж верно, – что одному на пользу, то другому во вред, правда, господин Фроман? Каждому свой черед.
Действительно, в общественном мнении происходил резкий перелом. Марк с радостью наблюдал, что с каждым днем дела идут все лучше. Но самым веским доказательством успеха было письмо, полученное Марком от барона Натана. Барон просил пожаловать к нему в поместье Дезирад, где он гостил у своего зятя, Эктора де Сангльбёфа, для переговоров о создании премиального фонда светской школы. Марк тотчас же догадался, что это был лишь предлог, так как барон посылал деньги и раньше; он уже вносил два‑три раза по сто франков, и деньги выдавались лучшим ученикам через сберегательную кассу. Недоумевая, с какой целью барон его пригласил, Марк отправился в Дезирад.
Он не был там с того дня, когда вместе с Давидом пытался уговорить всесильного финансиста принять участие в судьбе безвинно осужденного Симона. Он помнил все подробности этого посещения, помнил, как этот преуспевающий еврей, капиталист, тесть графа Сангльбёфа, малодушно поспешил отделаться от неимущего соплеменника, заклейменного, уничтоженного общественным мнением. С тех пор Дезирад стало еще прекрасней; целый миллион был затрачен на устройство новых бассейнов, террас, пышных цветников, придававших парку царственное великолепие. Пройдя мимо бесчисленных фонтанов и мраморных нимф, Марк наконец добрался до подъезда замка, где его встретили два лакея в зеленых с золотом ливреях. Марка провели в небольшую гостиную и попросили обождать; на минуту он остался один и услышал неясные голоса, по‑видимому, доносившиеся, из открытых дверей соседней комнаты. Потом дверь закрылась, все затихло, и в гостиную вошел барон Натан, дружески протягивая ему руку.
– Простите, что я вас побеспокоил, дорогой господин Фроман, но, зная, как вы любите своих учеников, я хотел сообщить вам, что решил удвоить сумму, какую обычно вносил для раздачи в вашей школе. Вам известны мои широкие взгляды, мое стремление награждать по заслугам достойных людей, независимо от их политических и религиозных убеждений. Да, да, я не делаю различия между церковными и светскими школами, просто я служу Франции.
Он продолжал разглагольствовать, а Марк разглядывал этого коротконогого, сутулого человека с голым, как колено, черепом, желтолицего, с хищным ястребиным носом. Марк знал, что барон недавно здорово нагрел руки на колониях, – награбил добрых сто миллионов вместе с одним католическим банком. Теперь, накапливая все новые и новые миллионы, он окунулся в самую гущу реакции, цеплялся за священника и солдата, ибо лишь они могли охранять его нечестно нажитое богатство. Мало того, что через посредство дочери барон втерся в родовитую семью Сангльбёфов, он отступился от своих единоплеменников, стал ярым антисемитом и монархистом, высказывался как милитарист и ревностный сторонник палачей еврейского народа. Марка удивляла в этом толстосуме врожденная приниженность, вековой страх перед гонениями, которым подвергались предки, страх, затаившийся в его тусклом, беспокойном взгляде, словно всюду его подстерегала опасность и он готов был ежеминутно забиться в любую щель.
– Значит, на том и порешим, – заключил он свою длинную и намеренно путаную речь, – вы распорядитесь этими деньгами по своему усмотрению, я вполне доверяю вашему выбору.
Разговор был окончен. Марк поблагодарил, все еще недоумевая, зачем его позвали. Это лестное приглашение и необычайно благосклонный прием нельзя было объяснить желанием старого политикана быть со всеми в ладу и намерением переметнуться в лагерь симонистов в случае их торжества. Все выяснилось, как только Марк собрался уходить.
Барон проводил его до двери гостиной, но вдруг, словно его осенила внезапная мысль, сказал с тонкой улыбкой:
– Дорогой господин Фроман, я позволю себе маленькую нескромность… Когда мне доложили о вашем приходе, я находился в обществе одного значительного лица, и вот что я от него услышал: «Ах, это господин Фроман! С удовольствием побеседовал бы с ним!» Могу вас уверить, это было сказано от чистого сердца.
Он оборвал свою речь, ожидая расспросов. Но Марк молчал, и барон, пытаясь обратить все в шутку, продолжал с улыбкой:
– Вы, наверное, удивитесь, если я назову вам этого человека.
Видя, что Марк по‑прежнему настороженно молчит, барон выложил все:
– Отец Крабо – вот кто! Не ожидали?.. Ну да, отец Крабо зашел как раз сегодня к завтраку. Вы знаете, он благоволит к моей дочери и часто бывает у нее в доме. Так вот, он выразил желание побеседовать с вами. Как ни различны ваши взгляды, согласитесь, он – на редкость достойный человек. Почему бы вам не повидаться с ним?
Теперь Марку все стало ясно, но любопытство его было затронуто, и он сдержанно ответил:
– Отчего же не повидаться; если отец Крабо хочет что‑то мне сказать, я охотно его выслушаю.
– Отлично, отлично, – воскликнул барон, в восторге от своих дипломатических успехов, – я сейчас же передам ему.
Снова открылись и закрылись какие‑то двери, в гостиную донеслись неясные голоса. Потом все смолкло. Марку пришлось ждать довольно долго. Подойдя к окну, он увидел, как на террасу из соседней гостиной вышли Эктор де Сангльбёф, его жена, прекрасная Лия, и их дорогой друг – маркиза де Буаз, еще пышная, несмотря на свои пятьдесят семь лет, хотя и увядающая блондинка. За ними вышел Натан. Не было видно только длинной черной фигуры отца Крабо; тот, очевидно, стоял у двери на террасу, продолжая оживленный разговор с хозяевами, услужливо покинувшими комнату, чтобы он мог побеседовать с Марком наедине. Это происшествие, по‑видимому, очень забавляло маркизу де Буаз. Маркиза в конце концов поселилась в замке; правда, она хотела покинуть его в день своего пятидесятилетия из деликатности и из материнских чувств, – ей казалось, что она слишком стара, чтобы быть любовницей графа. Но ее до сих нор еще считали обворожительной, так почему бы ей не опекать Эктора, которого она так предусмотрительно женила, не желая разделять с ним горькую нужду, а также Лию, чьей закадычной подругой она стала, освободив ее от обязанностей, чересчур обременительных для этой холодной, самовлюбленной женщины! Итак, все они вкушали блаженство в Дезирад, среди роскоши и блеска, осененные благословением скромно улыбающегося отца Крабо.
На грубом лице рыжего, низколобого Сангльбёфа Марк читал недовольство: к чему вся эта дипломатия? Принимать в замке какого‑то учителишку, анархиста, да еще беседовать с ним – много чести! Хотя граф, служа в кирасирах, не участвовал ни в одном сражении, он постоянно грозился изрубить всех врагов палашом. Добившись его избрания в депутаты, маркиза напрасно старалась внушить ему, но предписанию паны, республиканский образ мыслей, граф бредил своим полком и беспрестанно горячился, соблюдая честь знамени. Сколько он наделал бы глупостей, если бы не эта славная, умненькая маркиза! Такими доводами она оправдывала себя, потому что у нее не хватало сил расстаться с графом. Ей пришлось вмешаться и на этот раз, она потихоньку увела его и Лию; они направились в парк, и она шла между ними, веселая и по‑матерински ласковая.
Барон Натан быстро вернулся в большую гостиную, затворив за собой дверь на террасу, и тотчас же прошел к Марку.
– Дорогой господин Фроман, прошу вас следовать за мной.
Он провел Марка через биллиардную, открыл дверь в большую гостиную и, как видно, очень довольный своей странной ролью, пропустил Марка вперед, согнув спину в подобострастном поклоне, в котором сказалась вся приниженность его расы.
– Войдите, пожалуйста, вас ждут.
Барон исчез, осторожно прикрыв дверь, а изумленный Марк очутился лицом к лицу с иезуитом, который стоял в своей длинной черной рясе посреди роскошного красного с золотом салона. С минуту оба молчали.
Отец Крабо сохранил благородный облик и безупречные светские манеры, но как он сдал: волосы поседели, на лице отпечаток гнетущей тревоги, терзавшей его последнее время. И только в голосе, как и прежде, слышались вкрадчивые, пленительные нотки.
– Извините меня, сударь, что я воспользовался случаем, который привел нас обоих в этот дом, и решил переговорить с вами; я давно желал этой встречи. Мне известны ваши заслуги, и, поверьте, я уважаю любые убеждения, если они искренни и честны.
Отец Крабо говорил долго, он рассыпался в похвалах своему противнику, хотел вскружить ему голову, подкупить лестью. Но это был избитый, до крайности наивный прием, и Марк, поклонившись из вежливости, терпеливо ждал конца речи, стараясь скрыть свое любопытство; он понимал, что если иезуит отважился на подобное свидание, значит, у него весьма веские причины.
– Как прискорбно, – воскликнул наконец отец Крабо, – что из‑за переживаемых нами ужасных событий разошлись во мнениях просвещенные люди, которые, однако, могли бы прийти к соглашению. От наших разногласий кое‑кто серьезно пострадал. Да вот, хотя бы председатель суда Граньон… – Заметив непроизвольный жест Марка, он спохватился: – Я говорю именно о нем, потому что хорошо его знаю. Он мой духовный сын и друг. Это на редкость возвышенная душа, честное, правдивое сердце! Вам, конечно, известно, в каком ужасном положении он очутился; его обвиняют в должностном преступлении, ему грозит позор на всю жизнь. Он потерял сон, вы сами почувствовали бы к нему жалость, если бы видели его отчаяние.
Теперь Марк понял все. Церковь хотела спасти Граньона, одного из влиятельных и преданных своих сынов, опасаясь, что его провал нанесет ей чувствительный удар.
– Я понимаю, что он должен страдать, – отвечал Марк, – но ведь он сам виноват. Судья обязан знать закон, он не имел права показывать присяжным это письмо, его незаконные действия привели к ужасным последствиям.
– Кет, нет, уверяю вас, он поступил так без всякой задней мысли! – воскликнул иезуит. – Письмо он получил в последнюю минуту и не придал ему никакого значения. Когда его вызвали к присяжным в совещательную комнату, он держал письмо в руках, он и сам недоумевает, как могло случиться, что он показал его.
Марк слегка пожал плечами:
– Пусть он это и расскажет новому составу суда, если пересмотр состоится… Не понимаю, почему вы обращаетесь ко мне. Я тут бессилен.
– Ах, не говорите так, господин Фроман! Нам известно, что, несмотря на ваше скромное положение, вы пользуетесь большим влиянием. Вот поэтому я и решил обратиться именно к вам. Вы главная направляющая и движущая сила в этом деле. Вы друг семьи Симона, его родные во всем последуют вашим советам; неужели вы не пощадите несчастного, зачем вам его губить!
Он умоляюще сложил руки, горячо убеждая противника, и Марк не мог понять, почему решился отец Крабо на этот отчаянный шаг и так неловко, бестактно настаивал на своей просьбе. Или иезуит чувствовал, что дело проиграно? Быть может, он располагал какими‑то особыми данными и был совершенно уверен, что пересмотр процесса – дело решенное? Он отмежевывался от своих сообщников, он готов был утопить их – они были теперь уж слишком опорочены. Этот жалкий брат Фюльжанс – сумбурный, неуравновешенный человек, исполненный гордыни; его поступок имел роковые последствия. Бедняга отец Филибен, безусловно, глубоко верующий монах, но он всегда обнаруживал прискорбный недостаток умственных способностей. Что до злополучного брата Горжиа, отец Крабо просто ставил на нем крест: это пропащее, заблудшее чадо католической церкви, язва на ее теле. Если отец Крабо и не признавал Симона невиновным, то, во всяком случае, он едва ли не считал брата Горжиа способным на любое преступление.
– Видите, дорогой господин Фроман, мне не в чем себя упрекнуть, но что касается других, право, было бы жестоко слишком строго взыскивать с них за простые ошибки. Помогите нам спасти их, и мы вознаградим вас, прекратив борьбу с вами в других областях.
Никогда еще Марк так ясно не сознавал, что сила правды на его стороне. Он продолжал разговор с отцом Крабо, он даже затеял с ним длительный спор, чтобы выяснить наконец, что же представляет собою этот иезуит. Изучая своего противника, Марк все больше удивлялся: какие жалкие доводы, какое отсутствие находчивости и притом какая заносчивость! Видно, этот человек не привык к возражениям. Вот каков на поверку этот тонкий дипломат, этот гений коварства, перед которым все трепещут, кому приписывают все интриги, кого считают мудрым руководителем! Он не сумел даже подготовиться к этой встрече и, беспомощный, растерянный, не только открыл свои карты врагу, но был не в силах опровергнуть разумные доводы собеседника. Посредственность, жалкая посредственность, прикрытая светским лоском, вводившим в заблуждение окружающих. Его сила заключалась в глупости его паствы, в покорности, с какой верующие склонялись перед его непререкаемым авторитетом. Марк понял, что перед ним рядовой иезуит, который по приказу ордена должен привлекать и ослеплять верующих парадным блеском, пышной мишурой, за ним скрывались другие иезуиты, например, обосновавшийся в Розане отец Пуарье, провинциал ордена, имя его никогда не произносилось, но он, оставаясь в тени, с большим искусством руководил всем как неограниченный властелин.
Заметив, что беседа приняла нежелательный для него оборот, отец Крабо попытался кое‑как спасти положение. Они распростились с холодной вежливостью. Затем появился, очевидно, подслушивавший за дверью барон Натан; у него тоже был озадаченный вид, и он обнаруживал явное желание отделаться от этого дурака‑учителя, не понимающего собственных интересов. Он проводил Марка до крыльца и долго глядел ему вслед. Проходя среди цветников, фонтанов и мраморных нимф, Марк увидел вдалеке маркизу де Буаз и ее добрых друзей, Эктора и Лию; они медленно прогуливались в густой тени деревьев, маркиза смеялась добродушно и ласково.
В тот же вечер Марк отправился на улицу Тру к Леманам, где условился встретиться с Давидом. Там царило ликование. Только что была получена телеграмма от одного из парижских друзей, сообщавшего, что кассационный суд единогласно отменил приговор бомонского суда и постановил пересмотреть дело при новом составе присяжных в Розане. Теперь Марку все стало ясно, поступок отца Крабо уже не казался ему таким бессмысленным; очевидно, иезуит еще раньше получил эти сведения и пытался, пока еще не поздно, спасти своего приверженца. Леманы плакали от радости: пришел конец мукам, дети осыпали поцелуями исстрадавшуюся мать, все с восторгом думали о скором возвращении обожаемого отца и супруга, которого они так горько оплакивали и так долго ждали. Забыты были все издевательства и пытки, Симон будет оправдан, – в этом теперь не сомневался никто ни в Майбуа, ни в Бомоне. Давид и Марк, так мужественно, без устали боровшиеся за справедливость, в горячем порыве бросились друг другу в объятия.
А потом снова потянулись тревожные дни. С каторги пришло известие, что Симон опасно заболел и еще не скоро сумеет вернуться во Францию. Быть может, пройдут еще долгие месяцы, прежде чем в Розане начнутся заседания суда. Эта отсрочка, конечно, будет на руку врагам, и они снова станут сеять клевету и ложь, пользуясь малодушием и невежеством толпы.
III
Прошел еще год, полный тягостных тревог и борьбы, церковь из последних сил старалась вернуть утраченное ею могущество. Она никогда не находилась в столь трудном и опасном положении и теперь готовилась к решительной схватке, дабы в случае победы обеспечить себе владычество еще, быть может, на одно‑два столетия. Для этого ей нужно было не выпускать из своих рук воспитание и просвещение французской молодежи, сохранять власть над ребенком и женщиной, держать в невежестве простой народ, обрабатывать его на свой лад, внушая ему суеверия и покорность. День, когда ей будет запрещено преподавание, когда школы ее закроются, будет началом ее конца, ее неизбежной гибели, а парод, сбросив путы лжи, пойдет по иному пути, к идеалам разума и свободного человечества. Момент был серьезный, пересмотр дела Симона, его близкий приезд, торжество невинного страдальца могли нанести сокрушительный удар школе конгрегации и поднять значение светской школы. Отец Крабо, так желавший спасти председателя суда Граньона, был теперь сам настолько скомпрометирован, что больше не показывался в великосветских гостиных, но, испуганный и трепещущий, заперся у себя в келье. Отец Филибен все еще отбывал наказание в каком‑то далеком монастыре, возможно, даже, что его уже не было в живых. Брат Фюльжанс, который своими выходками так подорвал всякое доверие населения Майбуа, что школа потеряла добрую треть учеников, был смещен и сослан в глухую провинцию, где опасно заболел. А брат Горжиа попросту сбежал, опасаясь ареста, ибо чувствовал, что его начальники собираются выдать его как искупительную жертву. Его бегство переполошило защитников церкви, и хотя у них было по горло забот, теперь ими владела одна мысль – дать последний беспощадный бой, как только в Розане начнется пересмотр дела.
Марк, огорченный болезнью Симона, все еще не позволявшей ему вернуться, тоже готовился к решительной битве, прекрасно сознавая все ее значение. По четвергам он обычно ездил в Бомон узнавать последние новости, иногда его сопровождал Давид. Марк заходил к Дельбо, делился с ним своими соображениями, расспрашивал его обо всех событиях минувшей недели. Затем посещал Сальвана, всегда осведомленного о городских настроениях – слухи сменялись с невероятной быстротой, и все слои общества были взбудоражены. Однажды, проходя в Бомоне по авеню Жафр мимо собора св. Максенция, он был потрясен неожиданной встречей.
В безлюдной боковой аллее, в холодной тени собора, где стволы старых вязов поросли зеленоватым мохом, поникшая, подавленная, разбитая, сидела на скамейке Женевьева.

Марк остановился, пораженный. Изредка он встречал ее в Майбуа, когда она, рассеянно глядя перед собой, шла в церковь в сопровождении г‑жи Дюпарк. На этот раз они столкнулись лицом к лицу, и кругом не было ни души, никто не мог помешать их встрече. Женевьева смотрела на Марка, и он читал в ее взгляде безмерное страдание, невысказанную мольбу о помощи. Он подошел и рискнул присесть на той же скамье, но немного поодаль, опасаясь, как бы она не рассердилась и не убежала от него.
Стояла глубокая тишина. Небо было безоблачно, в лучах июньского солнца, склонявшегося к горизонту, листва пестрела мелкой золотистой рябью. Жара уже спадала под легким дуновением ветерка. Марк молча, взволнованно смотрел на бледное лицо Женевьевы, осунувшееся, как после тяжелой болезни; красота ее стала еще более утонченной. Во взгляде ее больших глаз, прежде таких живых и веселых, он уловил лихорадочную тревогу: чувствовалось, что ее терзает неутолимая мистическая страсть. Напрасно старалась она удержать подступившие к глазам слезы – веки ее дрогнули, и две слезы медленно скатились по щекам. Чтобы дать ей время успокоиться, он спросил, словно они расстались только накануне:
– Как наш сынок, здоров?
Она ответила не сразу, опасаясь выдать свое волнение. Мальчику уже минуло четыре года, и Женевьева взяла его от кормилицы. Теперь он жил с матерью, несмотря на глухое недовольство г‑жи Дюпарк.
– Здоров, – наконец произнесла Женевьева, также прикидываясь равнодушной, но голос ее дрожал.
– А Луиза, ты довольна ею?
– Да, она не всегда поступает, как мне хочется, и по‑прежнему находится под твоим влиянием, но она хорошая, умная девушка, прилежно учится, и я не могу на нее пожаловаться.
Они снова замолчали, вспомнив об ужасной, разъединившей их ссоре, которая разгорелась из‑за первого причастия Луизы. Однако это разногласие с каждым днем теряло свою остроту – Луиза взяла всю ответственность на себя и спокойно дожидалась, когда ей минет двадцать лет, чтобы решить самой вопрос о причастии. Луиза мягко отстаивала свое право, и, говоря о дочери, мать устало махнула рукой, как бы признаваясь, что уже потеряла всякую надежду.
Помедлив немного, Марк осторожно спросил:
– А ты как поживаешь, мой друг, ведь ты тяжело болела?
Она уныло пожала плечами, едва удерживаясь от слез.
– Ах, я сама не знаю. Приходится мириться с жизнью, пока бог дает силы жить.
И столько страдания было в ее голосе, что сердце его переполнилось жалостью и любовью. Он невольно воскликнул:
– Женевьева, дорогая моя, скажи мне, что тебя терзает, о чем ты скорбишь! Как помочь тебе, как облегчить твои муки?
Невольно он приблизился к ней, почти коснулся ее платья, но она отшатнулась от него со словами:
– Нет, нет! у нас больше нет ничего общего, ты ничем не можешь мне помочь, мой друг, между нами бездна… Ах! если бы только я могла тебе рассказать! Но к чему? Ты все равно не поймешь.
И все же она заговорила о своих страданиях, об овладевшей ею жестокой тоске, говорила отрывисто, как в лихорадке, даже не замечая, что исповедуется перед ним, так хотелось ей облегчить свое истерзанное сердце. Она рассказала, как ускользнула из дому и без ведома бабушки отправилась в Бомон, чтобы открыть душу прославленному миссионеру, отцу Атаназу, чьи благочестивые наставления волновали бомонских богомолок. Он посетил Бомон проездом, уверяли, что он чудесным образом исцеляет женские души, истерзанные любовью ко Христу, и своей молитвой или благословением дарует страдалицам безмятежный небесный покой. Она с трепетом поведала святому о своей пламенной мечте вкусить духовное блаженство, а он только отпустил ей грехи, сказав, что ею овладела гордыня, что ее обуревают страстные, земные желания, и, чтобы смирить ее дух, наложил на нее епитимью – помогать беднякам и ходить за больными; два часа провела она в молитве, уединившись в самом отдаленном и темном углу собора св. Максенция, смиренно каялась, признавая свое ничтожество, но так и не обрела умиротворения; по‑прежнему ею владело жгучее желание всем существом отдаться богу, и по‑прежнему не достигала она блаженного покоя души и тела.
Теперь Марк яснее понимал состояние Женевьевы, ему было жаль ее до слез, но в сердце его воскресала надежда. Конечно, ни аббат Кандьё, ни даже отец Теодоз не могли утолить ее безумной потребности в любви. Она познала подлинную любовь и не могла отказаться от нее; ей нужен был супруг, с которым она рассталась и который обожал ее. Бесстрастный Иисус с его мистической любовью не мог ее удовлетворить, он лишь разжигал в ней жажду счастья. Теперь только гордость ревностной католички влекла ее в церковь, она посещала все службы, выполняла самые суровые обряды благочестия, чтобы забыться, подавить горечь, протест и растущее разочарование. В ней пробудилась мать, она взяла к себе маленького Клемана, заботилась о нем, она вновь потянулась к Луизе и незаметно подчинилась мягкому влиянию дочери, которая осторожно, исподволь старалась сблизить ее с мужем. Женевьева все чаще ссорилась со своей грозной бабкой, ей стал ненавистен дом на площади Капуцинов с его убийственным холодом, сумраком и безмолвием. И вот она решилась на последнюю попытку: тайком от родных, опасаясь помехи, бросилась к проповеднику‑чудотворцу, в которого горячо уверовала, убедившись, что ни аббат Кандьё, ни отец Теодоз не могут соединить ее с Христом; но и этот прославленный святой ничем не мог ей помочь и дал лишь несколько наивных, бесполезных советов.
Забыв об осторожности, Марк взволнованно воскликнул:
– Дорогая, ты мечешься и скорбишь, потому что у тебя нет семьи. Ты так несчастна, вернись ко мне, умоляю тебя, вернись!
Но она возразила, гордо выпрямившись:
– Нет, нет! Я никогда не вернусь к тебе… Откуда ты взял, что я несчастна, это неправда! Я наказана за то, что любила тебя, принадлежала тебе и разделяла твой грех. Когда я жалуюсь на свои муки, бабушка постоянно напоминает мне об этом, и она права. Я искупаю твои прегрешения: чтобы тебя покарать, бог поразил меня; ты напоил меня ядом, и он будет вечно сжигать меня.
– Бедняжка, бедняжка, что ты говоришь! Скоро тебя совсем сведут с ума. Если я действительно посеял в твоей душе новые семена, то я надеюсь, что они в свое время взойдут и мы пожнем урожай счастья. Мы с тобой слились воедино, и ты вернешься ко мне, наши дети приведут тебя. Яд, о котором толкует твоя слабоумная бабка, – наша любовь; придет час, и любовь заставит тебя вернуться!
– Никогда!.. Бог покарает нас обоих. Ты прогнал меня из дому своими богохульными речами. Если бы ты любил меня, то не отнял бы у меня дочь, запретив ей причащаться. Как могу я вернуться в твой нечестивый дом, где мне даже не будет позволено молиться?.. Ах, какое испытание, никто меня не любит, само небо отвергает меня!
Она разрыдалась. Марк, потрясенный взрывом ее безумной тоски, понял, что продолжать этот разговор было бы бесполезно и жестоко. Еще не пробил час примирения. И снова наступила тишина; лишь голоса играющих на бульваре детей разносились в прозрачном вечернем воздухе.
Сами того не замечая, они придвинулись друг к другу и теперь сидели рядом, задумчиво глядя в золотую даль заката. Марк первый заговорил, как бы продолжая вслух свои размышления:
– Надеюсь, мой друг, ты ни на минуту не поверила гнусным сплетням, которые распространяли обо мне и мадемуазель Мазлин с целью опорочить меня?
– Нет, нет! – с живостью воскликнула Женевьева. – Я слишком хорошо знаю вас обоих. Не думай, что я так поглупела, что верю всякому вздору, какой болтают про тебя.
И, слегка смутившись, прибавила:
– Вот и про меня распустили слух, что я принадлежу к поклонницам отца Теодоза, которых он делает своими любовницами. Прежде всего, я не верю, что у него такая свита, – отец Теодоз, быть может, несколько самодоволен, по, безусловно, искренне верующий. Вдобавок я сумела бы защитить свою честь, надеюсь, ты в этом не сомневаешься.
Марк невольно улыбнулся, хоть на душе у него было совсем не весело. Явное замешательство Женевьевы подтверждало его догадки о покушении капуцина на ее добродетель; теперь ему стали совершенно понятны и ее горькое разочарование, и желание найти другого духовника.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|