
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Часть вторая 1 страница
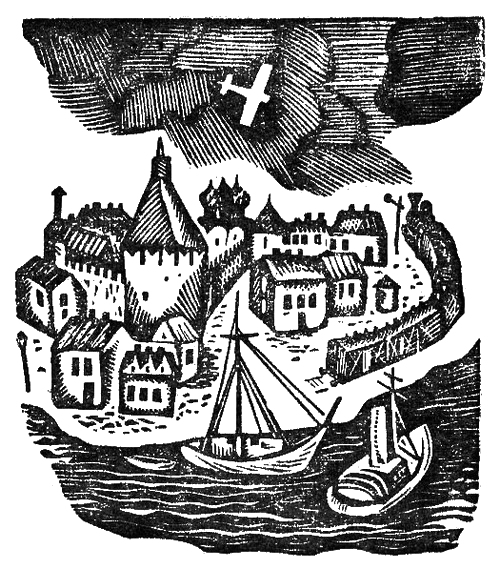
В начале июня 1919 года из калмыцких степей со стороны озер Шарвуд и Цаган‑ Нур на Черный Яр, стремясь с запада к Волге, вышла дивизия белоказаков. Сильные конные отряды двинулись на Астрахань и со стороны Харахусовского улуса.
Одновременно с востока, вдоль северного берега Каспия, к Волге поперло мятежное гурьевское казачество, офицерские ударные батальоны смерти.
В белых войсках распространялись листовки с обращением генерала Деникина: «Сомкнем руки на Волге! »
И хотя колчаковские войска, крепко побитые Красной Армией, пятились на севере за Урал, налитая свежей силой, прекрасно вооруженная и сытно кормленная Добровольческая армия двигалась с юга победно, легко сшибая препоны на своем пути.
Белая гвардия пыталась оседлать железную дорогу Урбах – Астрахань, чтобы сомкнуть кольцо вокруг устья Волги и города, вдоль дороги завязались кровопролитные бои…
Долгим кружным путем линия телеграфа еще связывала полуосажденный город с центром России.
В одну из ночей в реввоенсовете перед телеграфистом лег текст депеши. Он протер красные от бессонницы глаза, застучал, повторяя про себя слова:
«Вне очереди. Москва. Серпухов. Реввоенсовет республики, копия товарищу Ленину. Реввоенсовету Восточного фронта, Симбирск. Реввоенсовету Южной группы, Самара. Реввоенсовету Четвертой армии, Саратов. Английские аппараты продолжают систематически бомбардировать город. Прилетают по четыре, пять боевых машин. Кроме того, имеются неприятельские аэропланы на гурьевском, лаганском, других направлениях…»
Телеграфист покосился на окна. Они были забиты фанерой, стекла рассыпались при сегодняшней бомбардировке. Если бы на окнах не было фанеры, можно было бы увидеть истыканные, рябые от осколков стены здания напротив.
«…Необходимо в самом срочном порядке выслать надежные разведочные машины для дальних разведок типов „Альбатрос“, „Эльфауге“ или „Румлер“, а также истребительные машины типа „Виккерс“, „Ньюпор‑ 34 бис“, кроме того, если не получим ожидаемый бензин, то положение с топливом критическое, имеется только плохая спиртовая смесь, боевые полеты на которой невозможны. Прошу казанской смеси марки „А“…»
Телеграфист, не глядя в текст, привычно отстучал подпись члена реввоенсовета, вздохнул.
Аэропланы на поле за городом стояли мертвые, бензина не было. Британцы знали об этом, висели над городом. С пароходов, с земли захлебывались в ярости зенитки. Но шрапнель лопалась низко, не долетала до зудящих в небесах налетчиков.
На афишных тумбах, на стенах по городу желтели листочки с призывом: «Граждане! Чем меньше мы будем обращать внимания на страшные слухи и неприятельские аэропланы, тем уверенней отстоим город! » А как же на них внимания не обращать, когда они над головой? Бьют спокойно, да не столько по военным целям, сколько по гуще жилых кварталов. Орут паровозы на станции, гудят пароходные сигналы – небесная тревога! В газете грозно напечатано: «Царские палачи английскими аэропланами обстреливают славный трудящийся народ! Но мы непоколебимы! »
Телеграфист положил голову на кулаки, задремал. Но сон не шел. Неясное предчувствие беды томило его. В городе ожила всякая шпана, неизвестные, тайные люди. Патрулей уже не пугались, палили по ним из подворотен. Что ни день, трещат выстрелы, грохают гранаты, иногда кажется: все, к утру кончится советская власть. Но утром, удивительно, как всегда, идут на службу служащие, меняются на постах возле банка, телеграфа, вокзалов, аэродрома флотские и пехотные усиленные наряды.
И все‑ таки из уха в ухо ползут гадостные слухи.
То, что после бомбового взрыва со свечного завода большевики вывозят тайно, чтобы никто не видел, телегами останки человеческих тел. Семь телег.
«Всех на гибель обрекли: женщин, деточек невинных… Все из‑ за ихнего упрямства помрем… А что бы тихо‑ мирно сдать город? Что в нем особого, чтобы его не сдать? »
То (сами слыхали) от Деникина главному астраханскому большевику Кирову письмо пришло, мол, жди, скоро всех вас на фонарях развешаю!..
Убитые от бомбардировок, особенно в первое время, когда любопытство гнало жителей на крыши, были, но хоронили их не тайно, а, наоборот, на виду у всех, в городском саду, с красными знаменами, торжественным оркестром и ружейным салютом, как павших солдат революции. Однако убитые есть убитые. Страх заползал под крыши, женщины с утра прятали детей по погребам. На небо невыносимо было смотреть: никогда оно, синее и веселое, не казалось таким ужасным.
После сегодняшней бомбардировки прямо к реввоенсовету подошел человек, по виду мастеровой, нес на руках мальчонку, уже холодного, обсыпанного мелкой известковой пылью. Глаза у мастерового были мертвые. За ним неслась толпа, в основном старухи, но маячили среди них сизомордые личности, подстрекали! В окна реввоенсовета полетели камни, но звона не было – стекла и так повылетели от взрывов. Крик взвился, хрипел, накатывался! «Вояки, мать вашу! Защитнички! До каких же пор? » Часовые начали стрелять в воздух, толпа с визгом, теряя платки и зонтики, рассыпалась. Мастерового ввели в дом, пробовали отобрать ребенка, он, прижав, не отдавал. Размазывал копоть по лицу, одно повторял:
– Как же это? За что?
…За окнами в ночной горячей мгле запели гудки. Телеграфист посмотрел на стенные часы. Так и есть, десять вечера. Верфи, мастерские, заводики теперь работали по новому расписанию: с шестнадцати до двадцати двух часов. Днем стояли безжизненные, день грозил бедой с неба, смертью, исполком позволил работать ночью.
В механическом цехе судоремонтных мастерских померкло освещение, с шорохом остановились ременные трансмиссии, свисавшие к станкам с потолка. Из‑ под зеленого броневика, пригнанного на ремонт, начали вылезать металлисты, собирались от станков, рассаживались на ящиках ближе к конторке мастера, закуривали. Тусклые лучи лампы пронизывали махорочный дым, в полумгле неясно качались лики. Работницы по дореволюционной привычке в передние ряды не вылезали, платочки краснели за промасленными, пропитанными чугунной пылью рубахами мужчин. Ночная работа была еще не в привычку, от усталости и тяжких дум нависло в мастерской молчание.
Щепкин, Туманов и Глазунов сидели в стороне, смотрели тоже невесело. Разговор обещал быть несладким. Из городского комитета партии сказали, что рабочие интересуются бездействием красных авиаторов и хотят поговорить с ними в открытую. В отряде решили, что пойдут на разговор именно они.
Никогда еще Щепкин не чувствовал такой едкой вины перед людьми. Глазунов набрасывал в блокноте тезисы речи, потом вздохнул, сунул блокнот в карман, понял – тезисами здесь не обойдешься. Туманов невозмутимо разглядывал свои краги. Схваченные проводом, они расползались в лохмотья, но он аккуратно, до сияния, чистил их.
Свет в лампочках мигнул и погас, на электростанций экономили мазут. На минуту наступила тьма, только сквозь остекленную крышу просвечивала луна, но обычных ахов и охов по поводу неожиданной тьмы не произошло. Седенький старичок в синей тужурке вынес фонарь, поставил его прямо перед авиаторами, откашлялся, зачем‑ то причесал гребешочком седые волосики, тихо сказал:
– Встречу нашего пролетарского коллектива с представителями красных воздушных орлов считаю открытой!
Из тьмы сердитый женский голос сказал:
– Какие там орлы? Индюки!
– Тебе, Маняша, я слова не давал, – невозмутимо сказал старик. – Желаешь, скажешь после меня.
– И скажу! – с угрозой произнесли во тьме.
– Тиша! – Старик поднял заскорузлую ладонь, снова откашлялся, заговорил тихо, глядя под ноги: – Такое, значит, уважаемые наши товарищи, дело… Плохое, значит, дело. Орудий нам для ремонта навезли, флот на стапеля два катера поставил. Поклялись мы, понимаем, надо сработать все незамедлительно. Кулаками ведь много против империализма не навоюешь! А работать не можем! У нас, считай, тут почти все бабы. Женская сила!
– Ты на баб не клепай! – все тот же низкий голос пробил тьму.
– Не клепаю. Но сказать обязан, – вздохнул старик. – Непривычные они у нас к тому, что по ним с небес стреляют. Опять же, почти у каждой дитё. Как она тут работать будет, когда вся душа у нее за жизнь ребенка ноет? Не может она работать! При первом воздушном происшествии все, как одна, работу кинули, в город бросились!
– А ты не бросился?
– Бросился, – вздохнул старик. – За старуху мою очень испугался. Под кроватью нашел. Там спасалась.
Невеселый хохоток колыхнул собрание.
– Ну ладно! – хмыкнул неодобрительно старик. – Попросили мы нашу власть, чтобы нам ночью работать. Разрешили. Только толку от этого мало. Ночью ведь и сила не та, и ум туманится, и свету не хватает. Не идет дело, и все тут! Вот мы вас и позвали, узнать, значит, хотим, до коих пор нам мучаться? Может, вам помощь нужна? Может, материал какой? Ремонт? Не чужие же. За одно колотимся. Все.
Он вздохнул с видимым облегчением.
Глазунов встал, откашлялся, загудел. Прошелся по мировой политике, указал на сложное международное положение, долго объяснял суть империалистического заговора на Версальских мирных переговорах в Париже, заклеймил Ллойд Джорджа и Клемансо, одобрительно отозвался о помощи мирового пролетариата делу революции. Но потом, поняв, что его занесло не туда, махнул рукой и севшим голосом сказал:
– Вы уж простите, товарищи. Сами голову ломаем. Не знаем, что и делать. Машины на ходу, но летать не на чем. Имеется шесть пудов самодельной смеси, только на ней моторы полной мощности не дают. Пока поднимемся, успевают эти гады отбомбиться. Уходят от нас. Боя не принимают. А встречать их – значит в воздухе дежурить постоянно. А на каком топливе? Нет его! Весь бензин в Баку, а Баку у них, этих самых гадов! Слово даю командиру нашему, Туманову.
Он ткнул пальцем в Туманова. Тот встал, подумал:
– Будет горючее – не будет британцев. – Помолчал, махнул рукой: – Все!
И сел.
Щепкин нехотя поднялся. Ему казалось, что он не должен говорить сейчас о том, чего, наверное, не поймут эти люди. Что машины изношены и капризны в управлении, что до сих пор нет крепкой связи с наблюдательными постами на Волге, что британцы хитрят и каждый раз заходят с тех курсов, где их не ожидают, что на «де‑ хэвилендах» у них стоят тяжелые пулеметы с магазинами на триста патронов, что в славяно‑ британском авиационном корпусе собраны лучшие мастера летного и огневого дела.
Во мгле поблескивали, как холодные кристаллики, внимательные, ждущие глаза, и он сказал только то, что должен был сказать:
– Товарищи! Мы небо закроем! Должны закрыть!
– Когда? – спросил тот же сердитый женский голос. Наконец выбралась к фонарю и стала над ним высоченная, на голову выше Щепкина, девушка в длинной юбке и разодранной на рукавах старой кофте. Толстая коса моталась по округлому плечу, светилась медью. Была она рыжа до изумления, до полыхающей пламенной красноты, и, как у всех рыжих, лицо у нее было слишком белое, с мелкими темными веснушками. На ногах нелепо торчали разношенные войлочные коты. Свет бил снизу, от этого глаза тонули в тенях, но столько в них, по‑ кошачьему зеленоватых и узких, было презрения, что Щепкин растерянно заморгал.
– Ну что ты, Маняша, вылезла? – с укоризной сказал старик. Но она отмахнулась от него, положила тяжелую цепкую руку на плечо Щепкину и развернула его лицом к рабочим.
– Ты не на меня, ты туда смотри, прохвост! И вы на него смотрите! И я на него смотреть буду! Интересно, выдержит он это или все‑ таки сквозь землю провалится? И хватило у тебя совести? – спрашивала она низким раскатистым голосом. – Орел? Глядела я на вас по весне, на ваше поле бегала, радовалась! Как же, такие бугаи! Все в коже! К аэроплану идут – картина! Как взмоют в небеса – ах хорошо! Наши! Свои! Родимые! А толку от вас, как от того же бугая меду! Вы что ж, думаете, на вас управы нету? Вы как же решили, придете сюда, объяснения объясните – и мы вам в ладоши бить будем? Пожалеем вас? Ну уж нет! Вы‑ то нас не жалеете! На вас вся вина! На тебе!
– В каком смысле? – глянул растерянно Щепкин.
– Смысл ищешь? Гляди, – она ткнула рукой. – Встань, Клюквина! Встань!
Среди рабочих поднялась тонкая, худая женщина в черном платье. Лицо у нее было словно восковое. Она смотрела сквозь Щепкина, не понимала.
– У нее мужик без ног в лазарете мучается! Где ты, Балабан?
– Не трожь его! – охнул старик. Но собрание уже раздалось. И Щепкин увидел мастерового, который сидел, подперев голову тяжелыми черными руками, полуголый, грязный, в прожженном кузнечном фартуке, большой, угловатый, с витками стружки в кудрявых волосах. Рябоватое лицо его было сизым, как бывает у сильно запившего человека, в глазах плавала дымная синева, обросшие густой щетиной щеки подергивались. Он молча оглядел повернутые к нему лица, встал и пошел из цеха, не оглядываясь. Только какое‑ то всхлипывающее гудение, полустон передернуло его, медленного и грузного.
– Сыночка его, Димки, трехлетки, нет. Жены нет. И ты бормочешь? Нет на вас вины?
– Есть, – сказал Щепкин. – Ну, что мне ответить? Казните!
– Успеем еще. Мы ведь терпеливые! – сказала девушка. – А теперь мотайте отсюдова, герои, и ежели не пошевелитесь, мы к вам на ваше поле придем. Расшевелим!
– Неправильная у тебя позиция, Усова! – сказал старик. – Очень даже неправильная!
– Какая есть, – буркнула Усова Маняша и пошла к бабам.
– Постановим: «Сообщение красных военных авиаторов приняли к сведению! » – заторопился старичок, испуганно косясь в сторону Маняши. – Кто «за»?
Поднялись руки. Люди заспешили домой.
Авиаторы распростились со старичком, вышли из мастерской, у ворот закурили.
– Вот это врезала! – пробормотал Глазунов. – Действительно, сквозь землю и то легче.
– Правильно сказала, – буркнул Туманов.
Щепкин вглядывался в лица выходящих, потом вернулся в мастерские. На Маняшу он натолкнулся во дворе. Она шла, таща на плече пустой ящик, видно на растопку, домой.
– Вам помочь, простите? – сказал Щепкин, пугаясь собственной смелости.
Она глуховато, горлом, засмеялась.
– Что, понравилась тебе, миленочек? Так ты мне не пара. Я девица столбовая, вроде столба! Громоздкая! А ты вон какой паинька. Еще задавлю! – В темноте задиристо блестел глаз. – И свиданки у нас с тобой не выйдет! Это факт! Сам соображай: ночью я работаю, днем сплю. Даже если проснусь, какое при солнышке свидание? Ни обняться, ни прогуляться! Ты лучше скорей воевать начинай. Чтобы днем работать, а вечера свободные. Тогда поглядим‑ подумаем!
Пошла прочь, оглянулась на Щепкина.
– Эй, селезень, ты тут не стой, простудишься! Сырость ведь! Тебе себя для дела беречь надо!
Удивительно, при всей своей обширности, шла она легко, словно летела над землей, чувствовалась в ней брызжущая, веселая сила.
На улице перед воротами чихал глушителем только что подъехавший «паккард», светил тусклыми фарами. Молочков крикнул:
– Садись, Щепкин!
В автомобиле меж вооруженными людьми сидели Туманов и Глазунов.
– Это за что ж нам такой почет? – забираясь, спросил Щепкин.
Молочков покачал головой.
– Не почет… Подрежут вас, подстрелят, шпаны много. Кому летать?
– Так уж мы шпане нужны?
– Шпане не шпане, а без охраны теперь ходить не будете! Взяли мы тут пару гостей, вокруг аэродрома бродили. Серьезные гости. Один даже пулю себе в лоб закатил…
– Вы б лучше о бензине думали.
– Будет тебе бензин! – уверенно сказал Молочков.
– Откуда?
– А вот это уж наше дело!
…На аэродроме горели костры из старых шпал. В их неверном свете плотники стучали топорами, ладили крыши на сгоревших ангарах. Днем они работать отказывались – боялись неба. Для ремонта взяли и часть обугленных бревен, стены ангаров стали полосатыми, бело‑ черными.
В ночи на кладбище смутно угадывались вороха веток. Под ними стояли аэропланы. Среди памятников они и сами были похожи на памятники. Такие же тихие и ненужные.
У костра Леон жарил на проволоке кусок конины.
– Хочешь беф‑ иго‑ го? – протянул он шипящее мясо Щепкину.
– Нет.
Свентицкий не обиделся, разложив платок, вынул из‑ за голенища нож, со смаком хрустел хрящами.
– Так как, Данечка? – сказал Свентицкий. – Чего делать? То, что ты так блистательно спер ероплан, чудо! Но дальше‑ то что?
– Придумаем.
– Брось! – вздохнул Свентицкий. – Единственный выход, соорудить огромную рогатку, пусть ее местные пролетарии натягивают и пуляют по тучкам! Как вы на сей предмет рассуждаете, Афанасий Дмитрич?
У костра зашевелился ворох тряпья, из‑ под него выглянул, зевая, приблудный казачонок.
– Все шутите, Леонид Леопольдович! – сказал он. – А я вот слыхал, в городском саду уже новую могилу вырыли. Братскую. Конечно, мне все одно. Только русский народ жалко.
– Вот видишь. От горшка два вершка, а больше тебя соображает, – сказал Щепкин.
Афанасий без радости вздохнул:
– Да ничего я уже не соображаю!
…Смутные думы и впрямь постоянно тревожили Афанасия, хотя он ни с кем ими особенно не делился, помалкивал. Но трудно ему было, ох, как трудно!
Его ведь как учили? И сотник Лопухов, и папаша, и отец Паисий, да любой житель в станичке, что говорил? Казак есть главный столб государства, на котором весь порядок держится. На самом верху сидит царь, царица с царятами, главные генералы и другие тайные и явные советники. Пониже – архиереи, митрополиты, духовные пастыри, которые христианскую, истинно справедливую веру блюдут и нехристям ее марать не позволяют. Еще есть славное купечество: сила немалая. Закроет купец свою лавку, значит, ходи, Афоня, без ситцу или сукна, свети голым задом. Подковы, соль, керосин, свечи, леденцы, шлеи, хомуты и прочая сбруя – все от них.
Еще есть грамотеи – профессора, учителя разные, а также медики. Нужны они для того, чтобы народ грамоте учить, всякую хворь изгонять и чтобы новые военные машины изобретать – на славу нам, на страх врагам!
Однако, от большой грамоты, люди эти ненадежные, бывает, что ума лишаются и против всего государственного распорядка зло замышляют. А особенно никчемный народ – так это студенты, которые в университетах учатся! Те прямо, отец рассказывал, на улицы выбегают, дурным голосом вопят, с красным флагом ходят… Одного добиваются – смуты! Тогда царь‑ отец посылает к казакам специального курьера. Тот казачеству низко кланяется. Садятся казаки на лихих коней, сабельку в ножны, карабин на плечо, нагаечку в руки и – аллюр три креста!
Кого конем потопчут, кого нагайкой отметят, и сразу же полная тишина, спокойствие и благорастворение в воздусях. Вся дурь у бунтовщиков из головы выходит, и становятся они снова люди как люди. Которые каются – тех Царь милует, которые упрямствуют – те в Сибири железную руду копают. Опять же и от них отечеству польза: из той руды железо плавят, из железа для казачества косы, гвозди, подковы, топоры и прочий нужный в хозяйстве инструмент производят.
Спокон веку так повелось, что казак гордость свою бережет, никто ему, кроме окружного атамана и царя‑ бати, ничего приказать не может. Еще в прошлые века отведена ему земля прекрасная, самая лучшая во всей России, промыслы рыбацкие, самые богатые, кормись, казак!
Вот близ Каспийского моря, когда – никто не помнит, казачество и поселилось. А для чего? Оборонять русскую землю от набегов всяких азиатских инородцев, бритоголовых мусульман, которые Магометке поклоняются и свинину не едят, за что им прозвище «тьмутараканцы».
Когда царь‑ император отреклись от престола, в станичке шум поднялся, волнение: как же так без него, родимого? Не отменит ли новое временное правительство казацких вольностей? Как бы не так, наоборот, даже курьеров прислало, чтобы не волновались – как было, так и будет. И на том полный аминь! А теперь что же получается?
Хоть и приучен Афанасий старших слушаться, а такого слышать не желает. Говорит комиссару – механику Нилу Семенычу Глазунову:
– Я – казак!
А тот похмурится, морщинами на высоченном лбу поиграет, посмотрит с жалостью да и сказанет:
– Полный ты паразит, Афанасий! И в башке у тебя не мозги, а непонятная смесь всяких жидкостей… Совершенно заметно отсутствие не только нужной компрессии, но и даже слабого зажигания! Я тебе который день объясняю: нету на свете ни дворян, ни казаков, ни графов, ни генералов, ни архиереев. Есть просто люди! И мы, коммунисты, за то и смерть принимаем, чтобы по всей земле все были одинаковыми!
– Как в бане? – смеется Афанасий.
– Чего?
– Это в бане все одинаковые… – серьезно объясняет Афоня. – Когда одежу снимут, у всех пупы и прочие части тела, а в жизни так быть не может. Как родился я казаком, так и помру!
– Ну ладно, ты казак. А какая тебе радость от этого? Что, у тебя дворец в станичке стоит из мрамора? Автомобиль марки «Лауринт‑ Клемент» с зеркальными фарами и независимой подвеской передних и задних колес, на рессорах «Эллен‑ Люкс»? Или, может быть, конюшня племенных скаковых жеребцов? Или у тебя там, в станичке, собственноручный лакей остался, который по утрам тебе в койку шоколад в чашке подает?
Афанасий не выдерживает, хохочет. Уж больно смешно выражается комиссар – механик Нил Семеныч Глазунов. Скажет еще – лакей, шоколад! До сих пор от папашиной порки кое‑ какие места чешутся! А так, если подумать, может, и его правда? Сколько лет батя колотился, чтобы хоть еще двух коней купить, а не купил: как был мерин Кречет, так и остался. А у престарелого сотника Лопухова табун, сорок шесть голов, да все кобылы жеребые, каждый год прибавление, растет богатство… Однако это их, казачье, дело. Нечего иногородным, пришельцам всяким, в него лезть!
Подумает, подумает Афоня, а потом и скажет:
– Что ж, Нил Семеныч, я с вашей политикой, может быть, и согласный… Раз вы так, так и я так.
– Как так?
– А вот так… – Афанасий щурится, потягивается на лавке, жмурится на тусклый каганец – спят ведь рядом, да не столько спят, сколько спорят. – Так вот… Если будет ваша победа, меня не забудете? Как начнете делить добычу, дуван дуванить, мне бы хоть половину той доли, что каждому большевику причитается!
– Что это еще за доля? – дергает обгрызанным усом Глазунов. – Чего выдумал?
– Я так полагаю… – говорит солидно Афанасий, – что после победы все российское богатство должны вы промеж себя разделить! Мануфактуру, коней, пшеницу, золото какое имеется, бумажные деньги… Ну и прочее! Это будет по справедливости! Верно?
– Огарок ты, Афанасий Дмитрич Панин! – с жалостью глядит тот. – Да разве мы за это столько бед терпим и воевать пошли? Против всей мировой буржуазии?
– А за что? – спрашивает Афоня.
– Нет, тебя еще, как покалеченный мотор, чинить нужно, ремонтировать… Промывку в чистом спирту сделать, каждый клапан в каждом цилиндре притереть, свечи для полного зажигания, чтоб искра не пропадала, ввинтить! На разных режимах прогреть! Вот тогда, может быть, и станешь человеком…
– Да что я, сазан? – обидится Афанасий. Но механик махнет рукой, отвернется, глядишь – и захрапел так, что все вокруг сотрясается. Это понятно – усталые люди очень сильно храпят: у них для дыхания ночью уже и сил не хватает.
А Нил Семеныч, ох, и трудяга! Чуть забрезжит, он уже на ногах. Сдернет подстилку драную с верстака (он на слесарном верстаке прямо в вагоне‑ мастерской ремонтного поезда спит), засветит фонарь и к моторам. Они по всему вагону расставлены: здоровенные, закопченные. У каждого – это Афоня уже знает – есть цилиндры, одни стоят торчком, другие отходят наподобие лучей звезды от моторной основы в разные стороны. Вид у них ребрастый: это для того, чтобы при полете их лучше воздух охлаждал. В цилиндрах ходят поршни, отполированные до зеркального блеска, крутят главный вал, на который насажен воздушный гребной винт, а по‑ простому – пропеллер. Есть и такой мотор, где сами цилиндры крутятся. Чтобы в цилиндрах бензин взрывался и толкал поршни, вертел винт, в головке каждого цилиндра – место для зажигательной свечи. От магнето‑ пускача к ней электричество подведено, искры вбрызгивает, бензин вспыхивает, все вертится, ревет, дрожит… Называется каждая такая комбинация – мотор внутреннего («Не нутряного, Афанасий, а внутреннего! ») сгорания.
Имена у моторов чудные: «гном», «сальмсон», «рон», «испано‑ сюиза»…
Имена‑ то прекрасные, а Нил Семеныч ругается, даже с лица весь спал. Говорит, рухлядь, свое уже давно отработали, летать на них совершенно невозможно.
Целыми днями он ключами звякает, напильником шоркает, весь в копоти и масле вымажется – комбинирует. Хочет из четырех хотя бы один мотор собрать. Но ему работать не дают. Чуть что, бегут к нему прочие мотористы, а то и сами авиаторы заходят:
– Товарищ Глазунов, выручай!
Тогда берет он большую сумку с инструментом, мигнет Афоне: «Пошли», и шагают они по пыльному аэродромному полю.
Афанасий сразу видит тот аэроплан, на котором пилот Щепкин его по небу привез, желтый мощный двухместный воздушный разведчик. На крыльях ему тоже уже намалевали звезды, но все равно он сильно отличается от других машин, потому что новый.
Ну, ему ремонта пока не требуется. А вот другой аэроплан – смотреть страшно! Называется «фарман», а надо бы просто «летающий гроб». Стоит на земле черт те что! Тонкие залатанные крылья просвечивают, весь лак с них слез, фюзеляж напросвет, из жердей склеен. Сиденье у пилота низенькое, без спинки, открытое, со всех сторон обдувает. Слева от сиденья бак для горючего, позади кабины – мотор стояком стоит. Прежде чем взлететь, товарища Туманова мотористы к сиденью ремнями пристегивают, потом разбегаются, от мотора во все стороны касторовое масло летит, не отстираешь. Позади Туманова садится стрелок, берет в руки ручной пулемет «льюис» с магазин‑ тарелкой на сорок семь патронов.
Мотористы хватаются за хвост «фармана» и держат изо всех сил, пока мотор обороты наберет. Как Туманов рукой в перчатке махнет, хвост бросают, падают на спины. Аэроплан бежит по земле, прыгает, качается. Ну, кажется, все, обрушится. Когда поднимется над деревьями, все облегченно вздыхают… Вздыхали, вернее… Сейчас из‑ за бензина никаких полетов нет. И все равно Нил Семеныч с ним возится, с этим «фарманом». Бормочет:
– Эх, врезают нам белые авиаторы вкупе с британцами! Храбрость храбростью, а мотор мотором. У них ведь, Афанасий, в эскадрильи все новенькое, нетрепанное. Бензин наилучший, пить можно, умываться. Как слеза! А главное, гораздо лучше наших машины… Марки «Сопвич‑ Кемль»! Понял?
– Понял!
– Ничего ты не понял, станица! – бурчит Глазунов. – На них моторы стоят по двести сил с гаком, охлаждение водяное, работают как часики! А тут, разве это машины? Загробные рыдания!
– А «ньюпор»? – возражает Афанасий.
Что скрывать, больше всех Афанасию нравится небольшой юркий одноместный истребитель «ньюпор», который все авиаторы почему‑ то называют «бэбэ». Обтянутый светло‑ зеленым перкалем, отлично выкрашенный, – весь капот в красном лаке, винт желтый, – он похож на задиристого щегла, которого только тронь – не спустит. Несмотря на малый размер, в облике «ньюпора» чувствуется хороший, сильный боец.
Одно непонятно: что ему, Афанасию, среди этих машин надо? Ведь не держит никто!
Посмеялись над его приключением, но не то что стрелять, даже допрашивать не стали. Когда в тот вечер Глазунов отвел его в вагон‑ летучку, заставил умыться, дал немного каши‑ размазни и чаю на ужин, Афанасий решил: «Переночую и – будьте здоровы». Но утром Щепкин пробовал новую машину, за ним на трофее летали другие. Афоня как сел на бревно у сарая, так и просидел, разинув рот, до обеда. В обед Глазунов заставил его сбегать на кухню за кашей, а там Афоне дали два котелка: один для Глазунова, другой ему.
Поев, Афоня решил показать, что он доброту и обхождение понимает. Сказал Глазунову:
– Чего нужно поделать? Я ловкий! Могу дрова колоть, коров доить или там коз, шорничать могу, подкову поставить, ежели надо. Малярничать тоже способен, но не очень. Вот ежели есть кузня, так могу мехи качать.
– Это зачем?
– Так ведь кормили, – сказал Афанасий. – Отработаю, уйду.
– Ну что ж, валяй! – кивнул удивленный Глазунов. Дал какой‑ то штырь – отдирать ржавчину.
Сначала – чего скрывать! – станичку, папашу Афанасий вспоминал каждый час, задерживаться среди авиаторов не собирался: «Ну, еще день поглазею, потом двинусь домой! »
Однако решение все отодвигалось. Люди оказались удивительные и непонятные, за всю свою молодую жизнь Афанасий не встречал никого похожего. То, что по небесам летают – это, конечно, было необычно. Но другое удивляло Афанасия: по всей сути должен он к ним относиться как к врагам казачества, черным сатанинским ангелам, а не может… По вечерам заходит в комнаты на дачке к авиаторам, слушает, смотрит. Неясного много! За воздушный риск и смертоносную, опасную работу должны им, конечно, платить немало! А имущества ни у кого нет, сплошная голодрань. Спят на полу на соломенных матрацах, одно богатство: авиаторские шлемы из кожи, и пробки да очки. Бритва на всех одна, у Туманова. Когда кто отправляется на свидание в город, каждый выделяет самую неношеную часть одежды: кто штаны, кто тужурку, кто гимнастерку незалатанную… Счастливец отбывает, опрыскав себя командирским одеколоном, остальные валяются на матрацах, садят махру, заворачивают такие страшенные, невероятные истории из летной жизни: Афанасий охает от ужаса. На него косятся, поддают жару, кто завирается – остальные свистят, закон здесь строгий: любое вранье должно быть похоже на правду. Афанасий морщит лоб, разбирается… Изумляет то, что для них Россия совсем маленькая, скорость и машины сокращают, ужимают до невероятности расстояния, и чудно слышать: «Вылетел это я позапрошлой зимой из Нижнего в Казань», или «Когда гнал я машину из Тулы».
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|