
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
05.07.1965 6 страница
Итак, деятельность не является процессом — в лучшем случае процесс составляет лишь одну часть или один элемент деятельности — а в целом деятельность является структурой. Понятие структуры есть иная категория, нежели категория процесса. Поэтому сказать, что мыслительная деятельность есть некоторая структура это, вместе с тем, значит сказать, что она не является процессом. А все это ведет к кардинальному изменению тех средств, приемов и методов анализа, которые мы применяем в исследовании мышления, а также к изменению наших представлений о виде и характере конечных продуктов нашего исследования.
Утверждение, что деятельность является структурой прежде всего нуждается в ряде пояснений.
По своему смыслу оно является формальным. Мы не могли представить мышление как процесс, мы столкнулись со многими затруднениями и парадоксами, получили какие-то дополнительные образования, лежащие вне изображения процесса, мы зафиксировали, что категория процесса не срабатывает. Мы обратили внимание на то, что у нас получилось, по сути дела, несколько разных элементов, которые мы должны были как-то соотнести и связать друг с другом и таким путем мы оказались приведенными, причем приведенными чуть ли не насильственно, к понятию и категории структуры.
Нам, по сути дела, не оставалось ничего иного, как обратиться к этой категории. Мы вынуждены были сказать, что деятельность есть структура, поскольку мы получили много разных элементов. Таким образом, утверждение, что деятельность есть структура, первоначально выражало лишь тот довольно банальный смысл, что мы не смогли решить задачу с помощью категорий процесса, и у нас получилось несколько разных частей-элементов, которые надо было как-то связать друг с другом. Никаких других оснований утверждать, что деятельность есть структура, у нас не было.
Иначе я мог бы сказать так, что межу несколькими выявленными нами элементами или частями мышления обнаружилась известная зависимость понимания: мы сами в понимании одного вынуждены были обращаться к другому. Из этой зафиксированной нами зависимости понимания мы сделали вывод, что между этими образованиями должны существовать также и некоторые объективные связи.
Таким образом, подход к деятельности как к структурному образованию не содержал пока никаких новых ходов мысли, кроме одного, что рассмотрение нашего объекта как структуры полностью убирает или элиминирует подход к нему как к временной последовательности частей объекта. По сути дела, мы наложили на изучаемый нами объект двусторонние зависимости нашего понимания, которые уже по характеру и происхождению своему были вневременными. Из того факта, что мы не могли организовать их во временную последовательность, мы сделали вывод, что должны рассматривать все эти элементы как одновременно данные и взаимосвязанные. Следующий шаг заключался в утверждении, что они должны рассматриваться как структура.
Таким образом, положительный смысл нашего нового утверждения: деятельность есть структура, а не процесс заключался лишь в полагании того, что понятие времени уже не может играть свою прежнюю роль и что пока мы вообще не можем его использовать.
Время — само по себе очень сложная категория. Мы еще должны будем его тщательно анализировать. Сейчас оно применяется, где нужно и где не нужно и поэтому, в порядке чистки нынешних нехороших представлений, мы лично должны стремиться к тому, чтобы выбрасывать его отовсюду, откуда его можно выбросить.
— Если я правильно понял сказанное, то ход ваших рассуждений был: зафиксирована зависимость понимания некоторых образований друг от друга, а от нее вы должны перейти к фиксации объективных связей, но пока вы этого перехода не делаете.
Это правильно, но лишь с одной оговоркой, что я употребляю выражение «зависимость понимания» в логическом, то есть объективно-содержательном, а не в психологическом, то есть субъективном смысле. Я мог бы поэтому сказать не о зависимости понимания, а о зависимости исследования и это было бы, наверно, точнее. По сути дела, я имею в виду лишь то, что анализ одного в плане реконструкции механизма предполагает обращение к другому.
Итак, мы дошли до понимания того, что деятельность есть структура. Но какая?
Уже в ходе анализа текста Аристарха Самосского были обнаружены, кроме линейной последовательности самого процесса, во-первых, большой блок «средств», которые отличались от самого процесса и должны были быть представлены как лежащие отдельно от него, но вместе с тем каким-то образом связанно с ним, во-вторых, «задача» или «задачи», точно также лежащие отдельно как от процесса, так и от средств. Но самое интересное, что кроме текста с неизбежностью появился еще «объект», причем этих «объектов» появилось сразу три разных: объект оперирования, объект исследования, объект отнесения. Это было продуктивным, но в остальном вся работа по анализу текстов с помощь понятия процесса зашла в тупик. Но поскольку в анализе уже появились новые образования и были заданы новые элементы, характеризующие мыслительную деятельность, то, естественно, началось развертывание новых направлений и циклов исследований.
В частности оказалось, что очень продуктивной и поддающейся изолированному исследованию является связь между тем, что мы раньше называли процессом, и тем, что мы теперь называли средствами. При этом текст мог рассматриваться как форма выражения фиксации как одного, так и другого. Таким образом, средства и процессы мыслительной деятельности стали предметами специального, весьма интенсивного исследования. Эти исследования начали развертываться в первую очередь.
Ясно, что оно не могло пройти мимо вопрос, чем является текст по отношению к этим образованиям — средством или процессом. Поскольку само понятие процесса было поставлено под сомнение, поскольку мы таким образом автоматически пришли к побочному выводу, что текст, по-видимому, не является процессом, то возникла вполне естественная мысль, не является ли текст выражением и оформлением некоторого продукта деятельности.
Мы начали, довольно часто, рассматривать текст подобно зданию, которое строит человек в своей деятельности. Это был принципиальный перелом в представлении. Текст уже не был тем, что фиксировало шаги процедуры или процесса деятельности, а был тем продуктом, который появляется в результате деятельности и как всякое сооружение является сугубо статическим образованием.
Конечно, и в готовом здании мы можем увидеть отпечаток некоторого процесса его строительства: сначала клался нижний обвод кирпичей или плит, потом — следующий и т.д.. Но вы сами понимаете сколько ошибок будет в таком представлении, если обратить его, скажем, на строительство зданий, имеющих в своей основе стальные конструкции.
Во всяком случае новая трактовка текста как продукта деятельности автоматически перевела нашу двучленную схему «средства — процесс» в трехчленную «средства — процесс — продукт». Частным случаем такого трехчленного представления было двучленное представление в виде связки «средства — продукт».
Вместе с тем — и это нужно здесь специально оговорить — текст не укладывался и не хотел укладываться в понятие продукта. Поэтому потом появилось понятие оформления, которое сначала использовалось В.Розиным как понятие «оформления мыслительного процесса», но потом, когда выяснилось, что текст не может быть оформлением мыслительного процесса в прямом и точном смысле этого слова, это выражение стало употребляться как просто «оформление», без ссылки на то, что именно оно оформляло или должно было оформлять. Наверное, это — очень неудачный термин, поскольку по исходному грамматическому смыслу подобное слово всегда требует прямого дополнения.
Когда появилось представление структуры деятельности, сначала — в виде двух блоков, потом — трех, четырех и т.д., то перед нами сразу же стал вопрос о том, что такое структуры как таковые и какими могут быть средства и способы их изображения. В частности, очень важным стал вопрос о том, что представляют собой блок-схемы как особый вид изображений, могут ли они изображать структуры в подлинном и точном смысле этого слова. Затем этот вопрос, естественно, перешел в ряд более узких и точных вопросов, в частности — чем являются знаки связей в блок-схемах и как можно их объективно интерпретировать. Возникло сомнение, можно ли вообще вводить связи в блок-схеме представления?
Я хочу специально отметить, что это — весьма общая проблема в современной логике науки. Сейчас блок-схемные изображения используются в самых разных науках, включая туда биологию, психологию, социологию и теорию познания, но до сих пор неясно, что изображают и что могут изображать графические схемы блоков и линии, связывающие их. Не знаю, в частности, каково отношение блок-схем, с одной стороны, к функциональным структурам объекта, с другой стороны, к его материальной организации.
Естественно, что эти проблемы приобрели большое значение в работе нашего системно-структурного семинара. Но к этим вопросам я постараюсь вернуться позднее. Сейчас мне важно подчеркнуть, что первоначально блок-схемные изображения выступили у нас в качестве своеобразных «разборных ящиков». Если раньше мы пытались расчленять и представлять мышление как процессы, причем эта категория относилась к мышлению в целом, то теперь в мыслительной деятельности появилось два принципиально разных образования. Хотя мышление в целом включало эти два образования и складывалось из них, каждое из них могло обладать и обладало такими характеристиками, каких не было у другого и у целого. Вместе с тем у целого, очевидно, были такие характеристики, которыми не могло обладать ни одно из двух образований, представленных соответствующими блоками.
Осознавая все это, мы добавили к нашему первому положению, что деятельность есть структура, второе утверждение, что эта структура, включающая неоднородные элементы, то есть неоднородная или не гомогенная структура. Это было очень важное и принципиальное дополнение, в чем вы убедитесь не раз в дальнейшем.
После появления двух и трехблочных схем сам текст стал раскладываться и расчленяться таким образом, чтобы выделенные в нем части-элементы могли заполнять как первый, так и второй «ящик» блок-схемы.
Как видите, процедура анализа, связанная с блок-схемным представлением объекта, принципиально отличается от процедуры анализа, связанной с категорией процесса.
Вместе с тем сразу же и автоматически возникли трудности с различением функционального и материального употребления блоков схемы. Когда текст рассматривался как процесс, то его должно было членить на однородные части, которые не имели ни специфических функций в системе целого, ни специфического материала, зависящего от этих функций, а когда появилось два разборных ящика, связанных между собой функциональным различением и противопоставлением, причем материал, относимый к одному из них, должен был отличаться от материала, относимого к другому, и вместе с тем и тот и другой должны были наличествовать и присутствовать в тексте как его части, то сразу возник вопрос о формах представительства этих функций в однородном материале текста.
При этом оказалось, что функции и материал существенно разошлись в плане своей жизни. Одни и те же части текста должны были в разных формах и по-разному присутствовать в обоих блоках. При этом между ними возникала неравновесность и взаимная дополнительность. Можно было разложить текст так, что основная часть его попадала в процесс и при этом почти ничего не попадало в средства, а можно было сделать то же в ином отношении. Еще более сложным был случай, когда весь текст должен был присутствовать в равной мере и тут и там.
Выяснилось, что функциональное разнесение материала по блокам не соответствует пространственно-временному различию самого материала и, наоборот, формы организации материала в каждом из блоков не имели уже ничего общего с формами пространственно-временной организации в тексте. Одним словом, блок-схема как вид структурного изображения представляло уже нечто принципиально иное, нежели структурную организацию самого текста.
Произошло отделение текста, текстуальности, от мышления и мыслительности. По сути дела, мышление отделилось от текста благодаря появлению двухблочной схемы, следовательно, благодаря особой структуре, отличной от цепочки и форм организации текста. Именно блок-схема стала теперь представителем мышления как такового в противоположность тексту, в блок-схеме мышление получило свое новое идеальное существование.
Таким образом, в ходе анализа текста мы все больше удалялись от анализа самого текста и все больше приближались к анализу лежащего за ним мышления.
Из самого факта появления разборного ящика вытекало, что мы должны были разрабатывать две разных процедуры членения текста. Одна процедура нужна была нам при заполнении блока средств и другая — при заполнении блока процесса или процедуры. Кроме того, сразу же появилась третья процедура — процедура задания связей между блоками; ведь нельзя говорить о структуре, а работать с двумя разборными ящиками. Если мы имеем два разных блока, и при этом говорим о некотором целом, образуемом ими, то между этими блоками нужно еще установить связи; без этого все разговоры о структуре повиснут в воздухе.
Но тогда сразу же возникал вопрос: какие именно связи могут быть установлены между блоком средств и блоком процедуры?
Если пользоваться аналогией с практической человеческой деятельностью, то оказывается возможным задать по меньшей мере два типа связей. Для строительства здания нужны, во-первых, конструктивные элементы, то есть кирпичи. Но чтобы сложить здание, нужно осуществить процедуру, а это значит, каждый кирпич положить из хранилища на соответствующее ему место в будущем здании. Тогда вся процедура выкладывания здания предстает как последовательность одноактных действий переноса кирпичей с одного места на другое.
Вы можете попытаться представить всю эту работу как функционирование некоторой машины. Такая попытка была предпринята В.Розиным, когда он ввел понятие о «мыслительной машине», но я об этом буду говорить специально позже. Интересно и характерно — это мне хотелось бы отметить уже сейчас — что, по сути дела, Розин своей собственной исследовательской работой имитировал процессы мышления. Но это — особая линия, и ее нужно специально разбирать.
Понятие мыслительной машины появилось сравнительно поздно, а первоначально мы пошли по иному пути в анализе связей между блоками схемы. Об этом я сейчас должен буду рассказать, но предварительно изложу некоторые общие соображения.
Оказывается, что когда заданы пусть даже всего два блока, виды связей между ними все равно могут быть весьма различными. Их характер будет зависеть в первую очередь от вашей точки зрения. Вообще как характер связей, так и истолкование самих блоков определяются в первую очередь тем, как вы видите все то целое, которое является объектом и предметом вашего анализа, то есть в данном случае — систему деятельности.
Это представление о целом как бы витает перед вами — во всей совокупности известного вам эмпирического материала, в ваших представлениях о том, что может быть или чего, наоборот, быть не может.
Кроме того, у вас имеются еще практические задачи и потребности, ради которых вы осуществляете всю свою аналитическую работу, и, наконец, определенные средства и методы анализа. Все это, в совокупности, определяет процедуру формального задания связей и последующей объективной интерпретации их, а это в свою очередь придает особый и специфический смысл самим блокам, их объективному истолкованию.
Чтобы быть еще более точным, я повторю это несколько иначе. Категориальное представление деятельности как структуры требует, чтобы у вас были элементы и связи, а какими будут они, зависит, с одной стороны, от того, как вы «видите» изучаемую вами действительность, а с другой стороны, от того, какими специализированными средствами и методами вы располагаете.
В этой связи я хочу напомнить вам об одном пункте, о котором я рассказывал раньше. Речь идет о тех требованиях, которые мы выдвигаем в отношении создаваемой нами теории объекта, исходя из некоторых общих норм строения, функционирования и развития теории. Поскольку мы с самого начала исходили из убеждения, что мышление является исторически развивающимся объектом, мы должны построить такую теорию мышления, чтобы она схватывала это развитие.
Это означало для нас, что такая теория должна была строиться методом восхождения от абстрактного к конкретному. Это значит, что мы должны были сначала задать некоторые простейшие системы мышления, затем мы должны были найти формальные правила, по которым эти исходные системы развертываются в более сложные системы.
Вся процедура при этом выступала как последовательность ряда однородных или неоднородных шагов. Проделав определенное число таких шагов — в принципе, достаточно большое — мы должны были в конце концов придти к теоретическому представлению всей системы мышления в целом. Метод восхождения от абстрактного к конкретному, как правило, применяется к органическим объектам. А органические объекты опять-таки, как правило, являются — так учил на первых этапах Зиновьев и нам это казалось достаточно очевидным — исторически развивающимся объектом.
В дальнейшем мы несколько расширили это представление о методе восхождения и ввели особое понятие генетического или псевдо-исторического анализа, специфически применимого к развивающимся объектам. В связи с этим понятие восхождения приобретает дополнительные спецификации и расчленения, становясь вместе с тем более абстрактным и обобщенным. Но и само восхождение представляет собой лишь один метод из тех, посредством которых формируются модельные основания разных наук, и надо сказать — довольно частным методом. Хотя понятие восхождения было расширено таким образом сам принцип генетического или псевдо-исторического подхода к мышлению сохранялся неизменно: мы по-прежнему считали, что главная задач состоит в объяснении механизмов развития мышления. Соответственно этому мы должны были рассматривать блок средств и блок процессов с точки зрения генетических механизмов или механизмов генезиса.
Выше я не случайно сказал о требованиях, которые мы предъявляли к сложившейся теории. В соответствии с предположением и требованием у нас должна получиться генетическая или псевдо-историческая теория мышления, мы должны были таким образом членить сам объект, выделять в нем такие блоки и устанавливать между ними таким связи, чтобы в результате получилась структура, соответствующая некоторому генетическому механизму.
К тому времени мы достаточно хорошо понимали, что целый ряд гуманитарных наук, таких как структурная лингвистика, традиционная формальная логика слабо развиваются и не дают «адекватных представлений своего объекта», потому что их исходные абстракции были построены таким образом, что они полностью исключали в последующем генетический подход и анализ их объекта как развивающегося целого.
Мы не хотели повторять ошибки названных наук. Поэтому к расчленению мышления на средства и процессы мы с самого начала применяли генетические критерии. Мы с самого начала задавали вопрос, в какой мере членение объекта на два указанных выше блока будет удовлетворять генетическим принципам? Но это значит, что мы должны были задать некоторый генетический механизм и генетическую связь, объединяющие блок средств и блок процесса в одно развивающееся целое, то есть целое, допускающее генетическое представление. Только задав такую связь, мы могли быть уверены в том, что мы правильно расчленили наш объект.
Сейчас проведенное мною только что рассуждение может показаться очень нестрогим и можно, наверняка, показать целый ряд других ходов мысли, которые дадут иное представление самой этой связи. Чуть дальше я сам буду рассказывать о таких ходах мысли. Но тогда, то есть в 1952–1960 гг. это требование — удовлетворить генетическим критериям — было решающим и, по сути дела, именно оно выполняло роль верховного судьи в оценке произведенных нами исходных абстракций.
В итоге выяснилось, что на базе очерченного выше подхода довольно легко построить удовлетворительный механизм развития мышления и объяснить с его помощью многие из тех исторических и генетических парадоксов, которые были зафиксированы в разных науках, так или иначе исследовавших мышление. Выяснилось также, что только задание этих двух блоков впервые дает нам возможность говорить о некотором правдоподобном генетическом механизме в сфере мышления.
Здесь проблема — общая для логики и для языкознания. Если мы берем какой-либо словесный текст, который по нашим исходным предположениям может репрезентировать какой-либо процесс, а потом берем другой текст, который по предположениям репрезентирует другой процесс мышления, а затем начинаем сопоставлять их друг с другом, то оказывается, что они, взятые в целом, не могут быть ни отождествлены, ни различены. Каждый текст является сугубо индивидуальным по своему смыслу, он решает свою особую задачу, описывает свой особый объект и в соответствии с этими индивидуальными особенностями, является индивидуально неповторимым образованием.
Но если так, то у нас нет никаких оснований для того, чтобы утверждать, что между этими текстами могут существовать и существуют какие-то связи происхождения или развития, то есть мы не может предполагать, что один текст появился в результате развития другого. Такого, в принципе, не может быть, ибо каждый текст является продуктом индивидуального акта деятельности, он создается, а затем разрушается, гибнет, не производя взамен себя ничего другого.
Именно поэтому лингвистике, как и традиционной формальной логике, были недоступны какие-либо подлинно-исторические и генетические исследования текстов. Как известно, чтобы сопоставлять тексты друг с другом, выделять их общий строительный материал, устанавливать какие-либо связи происхождения или порождения, лингвистика должна была перейти к языку и системам языка. Именно язык стал основным предметом и объектом ее изучения. Но основные и исходные абстракции лингвистики все же были выделены таким образом, что генетическое или псевдо-историческое изучение языка по-прежнему исключалось. Это тоже понятно, ибо если мы возьмем системы языка сами по себе, или, что то же самое, системы средств сами по себе, то они тоже не имеют механизма развития и непосредственно, естественным путем не переходят одни в другие. Именно это обстоятельство и было зафиксировано Ф.де Соссюром в его знаменитом «Общем курсе лингвистики», но думаю, что и до него это знали и фиксировали многие исследователи.
Мы столкнулись с аналогичными проблемами в сфере логики и пришли на ее материале в общем и целом к подобным же негативных выводам. Исходным материалом для нас были решения задач, проведенные Гегелем, Эйлером, Ньютоном, Максвелом и другими. Установить какие-то генетические связи между одним текстом и другими, между одним мыслительным процессом и другим мыслительным процессом было, в принципе, невозможно. Генетических связей, которые нам были нужны для построения генетической или псевдо-исторической теории мышления, в этой области просто не оказывалось.
Кстати, именно это обстоятельство привело всех, занимавшихся историей мышления, начиная с Дж.Вико и далее вплоть до логиков варшавско-львовской школы — К.Твардовского, К.Айдукевича, Я.Лукасевича, Т.Котарбиньского и других — к убеждению, что в развитии мышления нет никакой необходимой связи и, следовательно, не могут быть установлены никакие закономерности. Вико, Тюрго, Кондорсэ и другие говорили о том, что происходит «прогресс разума» накопление новых открытий, но никакой необходимой связи между открытиями не существует и не может существовать. По их мнению, исторически зафиксированная последовательность развития знания была совершенно случайной, могло бы быть иначе и то, что в случившейся истории предшествовало, могло оказаться последующим. Они приходили к выводу, что все дело зависит от таланта того или иного исследователя, оттого, на что он, в силу случайного стечения обстоятельств, обратил внимание.
Но это было уже объяснение и интерпретация. А подлинное основание для отказа от научной фиксации генетической или исторической закономерности лежало в том, что между разными решениями задач не было и не могло быть непосредственно генетических связей и точно также нельзя было установить и сконструировать какие-либо механизмы, объясняющие переход одних средств в другие, одних понятий в другие понятия.
Очень характерными в этом плане являются работы по истории и логике развития различных естественнонаучных понятий. Когда в русле этих исследований, опираясь на эмпирическую историю науки, фиксировали этапы развития одного и того же понятия, то всегда оказывалось, что на каждом этапе появляется, по сути дела, новое понятие — с новым содержанием и новыми формами, а основанием для отождествления их и трактовки как состояний в развитии одного понятия служили лишь внешние формы организации — общее имя, зафиксированная преемственность идей и т.п.
Одним словом, когда брали блок средств сам по себе и сравнивали входящие в него образования в плане их исторической преемственности, или когда брали блок процессов и точно также сравнивали друг с другом следующие один за другим решения задач, то никогда не оказывалось генетических связей, не оказывалось самого развития.
В противоположность всему этому наша двухслойная схема сразу же дала очень правдоподобный механизм и процесс развития. Мы предположили, что суть развития состоит в том, что некоторые средства как бы отпечатываются в определенном решении или тексте в разных, широко меняющихся комбинациях; при этом в тексте за счет самого комбинирования возникают новообразования, они выделяются и фиксируются в виде новых средств, откладывающихся опять в блоке средств; блок средств за счет этого обогащается и может давать новые комбинации, которые опять порождают новообразования, вновь выделяемые и организуемые в блоке средств.
Схематические весь этот циклический процесс можно представить в весьма наглядной картинке:
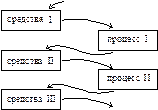
Эта схема, в частности, объясняет, почему оканчивались неудачей все попытки найти и изобразить развитие, ориентируясь только на процессы или только на средства: если механизм образования действительно таков, каким мы его выше изобразили, то в средствах самих по себе или процессах самих по себе нет и не может быть факторов, определяющих последующие состояния.
Новообразования, возникающие в процессах, определяются не средствами самими по себе, а теми условиями, которые появляются и существуют в ситуации; именно они определяют характер комбинирования и связи средств. Но точно также характер средств, вновь выделяемых в этих комбинациях и связях, определяются не характером процессов самих по себе, а отношением их к уже имеющимся наборам средств.
Чтобы не было недоразумений, я хочу сразу оговориться, что мои утверждения не предполагают того, что в наборах и системах средств вообще нельзя найти правил, фиксирующих порядок и закономерность перехода одних средств в другие. Можно, и в принципе, наука уже вплотную подошла к выделению подобных закономерностей, в лингвистике некоторые из них даже были выделены, хотя и весьма поверхностно. Но во всех случаях выделение подобных правил и закономерностей, связывающих одни средства с другими, следующими за ними, очень сложно и предполагает выход к инвариантам значительно более глубокого и, в принципе, искусственного характера.
В дальнейшем я буду специально обсуждать эту проблему, когда перейду к работам 1960–1964 гг. и буду говорить о понятиях естественного и искусственного. Но все это — значительно более сложные и тонкие вещи, чем те, которые я сейчас обсуждаю. Кроме того, все они отнюдь не исключают сформулированные выше принципы и не противоречат им, а лишь служат дальнейшим развитием.
Таково, в самых общих и грубых чертах, общее представление о механизме развития деятельности, сложившееся у нас где-то между 1956 и 1958 гг. Совершенно естественно, что оно стало предметом многочисленных обсуждений и использовалось нами в самых различных направлениях и разными способами. При этом, в частности, обнаружилось, что трехчленная единица всего этого механизма — а она является именно трехчленной и включает в себя «средства I — процесс I — средства II» — может быть интерпретирована совсем особым образом: мы увидели в ней механизм воспроизводства человеческой деятельности.
Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что эти схемы появились у нас именно в контексте обсуждения генетических проблем, они должны были изображать основные шаги развития деятельности, и в этом плане эти схемы до сих пор используются нами, хотя и в значительно более расширенном и усложненном виде. Все это так.
Но, кроме того, в этой же схеме и через призму идеи развития мы увидели еще один процесс, принципиально отличный от развития и лежащий, если хотите «глубже» развития. При этом изменился характер связей между блоками, а, соответственно этому, изменилась трактовка самих блоков, но общая конфигурация схемы и направленность на определенные объективные явления оставались теми же самыми. Уже эти формальные моменты говорят о том, что между этими процессами существуют какие-то глубокие органические связи — в дальнейшем я буду их специально обсуждать и покажу, что это действительно так на самом материале, но сейчас мне хочется подчеркнуть значение формальных моментов.
Чтобы дать правильную ориентировку в отношении будущего, скажу, что представление нарисованной выше трехчленной схемы как развития в чистом виде было по меньшей мере неточным. Сейчас мы имеем значительно более развитое и расчлененное понятие самого развития. Но тогда его еще не было и мы, как вы уже заметили, искали не столько сами процессы развития, сколько механизмы его. Именно в поиске механизмов мы пришли к этой трехчленной схеме и сейчас можно сказать, что она выражает как раз механизмы, благодаря которым развитие осуществляется.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|