
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
28.06.1965 2 страница
Если, например, мы строим теорию обучения, то, задав для нее исходные схемы, мы должны затем вписать их в более широкие структурные схемы трансляции деятельности вообще. Тем самым мы определим место обучения в более широкой системе целого и те требования, которые предъявляет это целое к обучению.
Подобная процедура отнесения схем развертываемого нами предмета к более широкому целому выступает, вместе с тем, как построение онтологии этих схем и как обоснование этой онтологии и, вместе с тем, как средство более точного и тонкого ограничения эмпирического материала, ибо построение более широкой структуры объемлющего наш предмет целого выступает как самое мощное средство оценки эмпирического материала, его расчленение и оценки, как относящегося или не относящегося к нашему предмету.
Выше я уже говорил, что развертывание схем создаваемого нами предмета определяется задачей охватить весь эмпирический материал; если в этот материал попали инородные образования, то мы получим ложную установку в развертывании наших схем. Поэтому разбор и оценку эмпирического материала надо производить еще до того, как мы начнем строить или окончательно построим наши схемы и правила их развертывания.
Существуют какие-то наиболее выгодные точки и этапы развертывания схем предмета, на которых мы должны производить оценку выбранного эмпирического материала. И это делается всегда в соответствии с более широкими схемами. Именно на этих этапах и нужно проводить соотнесение создаваемых нами схем со схемами более широкого целого.
В дальнейшем я постараюсь показать, что в развертывании схем «формы—содержания» мы в последний год, по-видимому, достигли как раз такого уровня, когда стало необходимым отнесение их к более широкому целому и критической проверки с точки зрения онтологической картины, задаваемой этим, более широким целым.
Здесь нужно специально отменить органическую взаимосвязь всех этапов и подразделений нашей исследовательской работы. Я уже говорил, что характер исходных схем и процедуры их развертывания определяются предварительной разбивкой эмпирического материала на некоторые подобласти и определенной группировкой их в соответствии с тем или иным «объективным» принципом, например, хронологическим.
Но, с другой стороны, нетрудно заметить, что и сама разбивка эмпирического материала на области и группы часто учитывает возможные и допустимые линии развертывания схем, фактически исходит из них. Здесь отчетливо проявляется зависимость как будто бы предварительных этапов работы от казалось бы последующих этапов. Вместе с тем появляется сомнение в так называемой объективности самих принципов группировки эмпирического материала, ведь они фиксируют по сути дела возможные линии формально дедуктивного развертывания схем.
Мы не сможем разобраться с этим вопросом, если не будем учитывать классического различения «кажимости» и «действительности», проведенного уже в античной философии и подобно развитого затем в неокантианстве, в частности, в известной книге Э.Кассирера «Познание и действительность». Здесь возникает целый ряд тонких вопросов, в частности, с понятием единицы и целостной области, которые очень интересны, но которые сейчас было бы очень сложно обсуждать.
Точно так же необходимо отметить двустороннюю связь и зависимость, существующую между процедурами определения эмпирического материала, его границ, с одной стороны, и процедурами построения схем. Раньше я уже говорил — и мы чертили соответствующую схему — что каждое из средств и особых блоков науки по-своему определяет границы эмпирического материала. Поэтому очень часто мы называем относящимся или принадлежащим к данному предмету то, что зафиксировано нами в соответствующих схемах.
Например, мы называем языковым мышлением в объектной области все то, что соответствует нашим схемам языкового мышления. Схематически это можно представить так:
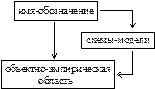
Фактически по этой схеме работает любая наука. И тогда, естественно, возникает тот парадокс, на который обычно указывают и который точно так же уже не раз отмечался здесь в репликах: чтобы правильно построить схему модели, мы должны уже заранее знать, что в эмпирической области является мышлением, а то, что является мышлением в объектно-эмпирической области, мы определяем через соответствие его нашим схемам.
Как обычно преодоление подобного парадокса осуществляется методом последовательных челночных приближений. Мы попеременно отдаем преимущество и определенную роль то схемам — и тогда по ним корректируем область эмпирического материала — то эмпирическому материалу — и тогда по нему корректируем и перестраиваем сами схемы.
Нередко спрашивают так же, куда нужно отнести наши собственные эмпирические описания изучаемого объекта. Это весьма непростой вопрос. Прежде всего, очевидно, что наши собственные описания занимают особое место. Мы могли бы отнести их к эмпирическому материалу, но тогда внутри него нужно было бы выделить особый «мешок», в который они помещены. Ведь чужие описания являются для нас эмпирическим материалом, поскольку мы их обрабатываем. Наши собственные описания чаще всего выступают в другой функции — как то, что мы получили на основе работ со схемами. Если же сами наши описания будут обрабатываться, то станут материалом, то тогда между ними и чужими описаниями уже не будет никакой принципиальной и существенной разницы.
Здесь важно также отметить, что в ходе нашей работы со схемами мы непрерывно перерабатываем доставшиеся нам в наследство описания в новые, наши собственные описания. Но этот вопрос я только отмечаю и совершенно не буду его обсуждать и анализировать.
Точно так же особый интерес представляет вопрос об условиях и механизмах перехода к дедуктивной процедуре. Когда у нас уже есть, с одной стороны, некоторые регуляторные правила развертывания схем, а с другой стороны, задана область эмпирического материала, которую надо объяснить, то, подобно буриданову ослу, мы всегда стоим перед альтернативой выбора за неизменное и определяющее либо эмпирического материала, либо самих схем.
В зависимости от тех или иных условий мы отдаем предпочтение одному или другому. До сих пор это делалось обычно на основе чистой интуиции, а теперь эти моменты должны быть проанализированы и формально описаны. Так же надо отметить, что никогда заранее не определено число формальных правил, которые мы будем использовать в создаваемой нами теории.
Таким образом, эта теория может быть более идеализированной и неадекватной эмпирическому материалу, но зато более компактной и простой в употреблении, или же, наоборот, более точной и детализированной, но зато менее компактной и более громоздкой в употреблении. В зависимости от тех или иных условий, мы выбираем один или другой вариант.
Нужно так же отметить, что процесс развертывания исходных схем в более сложные отнюдь не всегда строится по схеме развертывания «клеточки» и, соответственно, восхождения от абстрактного к конкретному. Примерно семь-восемь лет назад мы не видели других форм развертывания исходных схем. Но теперь нам начинает казаться, что даже сам Маркс не провел последовательно сформулированного им принципа движения в «клеточке» и из «клеточки».
Анализируя этот вопрос дальше, мы пришли к убеждению, что объекты такого рода как социальное целое вообще, по-видимому, не допускают подобного построения предмета. В этой связи мы сделали попытку рассмотреть сложные теории такого вида, в которых разные предметы как бы надстраивались друг над другом. В этой связи, с одной стороны, появилось понятие конфигуратора и план-карты предмета, заранее учитывающей подобную координацию нескольких различных предметов исследования, а с другой стороны, мы изменили само понятие клеточки, сузив один из его признаков в том плане, что она уже не должна охватывать всех специфических явлений целого, как это утверждал Маркс, а только некоторые из них, объединенные одним частичным предметом.
На этом критика принципа клеточки не остановилась и сейчас я отнюдь не уверен, что понятие клеточки должно формулироваться именно так, как его формулировал Зиновьев. Вполне возможно, что в дальнейшем, когда будет накоплен больший эмпирический материал, нужно было бы различить разные виды клеточки и говорить о разных типах исходных схем и равных способах развертывания их.
Вполне возможно, что многие из этих исходных схем такого рода уже не будут удовлетворять тем требованиям, которые на них наложил Маркс. К этому надо добавить, что клеточка отнюдь не обязательно должна соответствовать генетически-исходной форме изучаемого целого. Но это утверждение уже во многом тривиально и давно известно, ибо на это не раз указывали и Маркс и Энгельс. надо сказать, что здесь вызывает сомнение само понятие исторически-исходного. Оно требует специального анализа. В этой связи мы сами вынуждены были специально анализировать категорию происхождения.
Когда мы рассматриваем происхождение буржуазного общества, то прежде всего обнаруживаем, что нельзя говорить о том, что феодальное общество переходит или преобразуется в буржуазное общество, а последнее может и должно рассматриваться как надстройка над первым.
Кстати, уже сам Маркс указывал, что первоначально буржуазные отношения развиваются как бы в порах, внутри феодального общества, и затем как бы вытесняют и поедают сами феодальные отношения. Точно так же Маркс указывал, что товарные отношения появляются и начинают функционировать задолго до появления буржуазных отношений и буржуазного общества.
Таким образом, товарные отношения отнюдь не были исходной формой буржуазного общества, хотя можно говорить, что в каком-то смысле буржуазные отношения возникают (возможно!) из товарных отношений. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с особым кругом проблем, касающихся собственно методов и категорий исторического исследования. Необходимо рассмотреть, что можно понимать, говоря о происхождении какой-то системы, каковы механизмы происхождения, какими методами они могут быть исследованы и в каких структурах они могут быть изображены. Начав исследование этого круга проблем, мы пришли к довольно резкому и принципиальному выводу, что «история», «псевдо-генезис» и «происхождение» есть принципиально различные механизмы и, соответственно, принципиально различные категории. Мы выяснили, что гегельянский историзм был на самом деле псевдо-историзмом и, во всяком случае, не раскрывал механизмов действительного исторического развития.
Большая заслуга в выяснении этих вопросов принадлежит К.Марксу, и сейчас мы понимаем несколько больше, чем понимал Гегель, благодаря тому, что в работах Маркса были резко разведены два вопроса: развертывание структуры буржуазного обмена исходя из какой-то исходной структуры, в данном случае товарного отношения Т—Т, и анализ исторических механизмов развития буржуазного общества. Я думаю все вы знаете и хорошо помните, что в главе 24 первого тома «Капитала» Маркс попытался даже рассмотреть механизмы исторического развития буржуазного общества.
Поэтому сейчас мы очень резко различаем: а) описание механизмов исторического развития какого-либо объекта, то есть воспроизведение в теории некоторого исторического процесса и б) «генетическое» построение теории. Генетическое построение теории, с нашей точки зрения, есть вид дедукции, то есть некоторый формальный механизм или формальный метод, позволяющий строить теорию иным образом, нежели традиционные аксиоматические методы в математике.
Сазонов. Я хотел бы задать вопрос. В одном случае связка знаковая форма — объективное содержание выступала в качестве средства нашей собственной работы. Мне неясно, сохраняет ли эту функцию средства такая структура в тех случаях, когда она служит исходной схемой для развертывания более сложных структур?
Однажды я уже отвечал, и сейчас я попробую развернуть это более подробно, что предмет, задаваемый этой схемой, не развертывается и не может развертываться.
Сазонов. Значит, если мы все же осуществляем процедуру, подобную такому развертыванию, то это значит, что мы переходим или перешли в другой предмет.
Сейчас я буду обсуждать это более подробно.
Аврамков. Наверное, здесь вообще нельзя говорить о том, что мы переходим из одного предмета в другой, так как мы здесь еще вообще не имеем предмета.
Совершенно верно. Мы еще не имеем предмета. Мы его только должны построить.
Итак, в предшествующей части я изложил некоторое общее представление о том, как мы будем работать с этой исходной схемой, имея в качестве эмпирического материала описания каких-то текстов или сами тексты и имея целью простроить некоторый научный предмет, а в нем — определенную научную теорию.
Очевидно, указанные нами способы работы с исходной схемой накладывают определенные требования на вид самой схемы. Наверное, отнюдь не из всякой схемы можно получить все то, о чем я выше говорил. Наоборот, чтобы все это получить, схема должна иметь строго определенный вид. Тогда нам приходится спросить себя, с одной стороны, что собственно, мы делали, имея в качестве исходного средства схему знаковая форма — объективное содержание, а с другой стороны — что мы должны были бы делать. Вместе с тем мы должны будем ответить на вопрос, что собственно мы сумели получить.
Прежде всего я сформулирую общий тезис о том, что наверное, схемы такого типа, к которому принадлежит указанная схема, не могут давать исходные схемы для развертывания теорий, о которых я выше говорил. Это объясняется прежде всего тем, что указанная выше схема является чисто функциональной. Это значит, что пока ей не приписаны никакие материальные определения. Поэтому такая схема может нами комбинироваться, но она не может развертываться (в точном смысле этого слова). Но вместе с тем в такой схеме была заложена одна возможность, которую мы не очень осознавали. Именно она использовалась нами, когда мы думали, что на ее основе осуществляем восхождение. Характеризую этот процесс, я буду отвечать на вопрос, что же, собственно, нами было сделано.
Одним из неожиданных результатов анализа явилось понимание того, что схема такого рода вообще не может быть наложена на эмпирический материал. Я надеюсь, вы помните, что наложить схему на эмпирический материал это значит вырвать некоторый фрагмент его и провести членение в соответствии с этой схемой. Конкретно — поставить один кусочек эмпирического материала на место содержания, а другой кусочек — на место знаковой формы, а затем связать их друг с другом особым образом.
Но тогда оказалось, что если мы берем некоторый текст, например, математического рассуждения, то мы не можем решить, в какой из этих функций — формы или содержания, выступают выделяемые нами определенные знания. Особенно отчетливо это выступило при анализе текста работы Аристарха Самосского. Когда мы в нем выделяем те или иные виды знаков и части знаковых цепочек, то мы никогда априори не можем сказать, в какой роли они выступают.
Поэтому, чтобы добиться все же возможности производить эмпирический анализ, мы прежде всего дополнили указанную выше схему другими и особым образом соединили их. Благодаря этому мы получили схемы, обладающие некоторыми структурными характеристиками самого материала.
Здесь на семинаре не раз высказывалась мысль, что схема

является лишь вариантом и некоторой конкретизацией исходной схемы
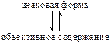
В одном смысле это правильно, а в другом — нет. Мне важно подчеркнуть, что первая, из указанных здесь схем, была действительно получена из второй, но не путем выведения и развертывания, а путем добавления определенного специфического содержания, извлеченного из других кусков эмпирического материала и задающего такие характеристики его, которые не имеют уже никакого отношения к связке объективного содержания и знаковой формы.
Можно заметить, что даже в тех случаях, когда мы вводим такие структурные дополнения, то все равно наша схема пока не может накладываться на эмпирический материал. По сути дела все те критические замечания, которые я делал в отношении схемы знаковая форма — объективное содержание, в полной мере относится и к этой конкретизированной схеме. Достаточно заметить, что момент самой операции, то есть ..., в тексте не фиксируется. Но здесь более интересным является то, что произошло дальше.
Имея конкретизированную схему

мы начали затем строить из нее сложные комплексы. В частности, мы брали знаковую форму А и рассматривали ее как некоторый объект. К тому объекту применялось новое действие сопоставления Δ΄. Над созданным таким образом содержанием надстраивалась новая плоскость замещения. Точно таким же путем мы могли построить третью, четвертую плоскость и т.д. Но точно также мы пытались развертывать эти схемы линейно, как бы прикладывая их друг к другу. У нас получались разнообразные комплексы:
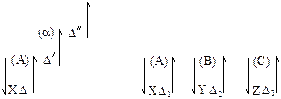
Наконец, на основе этих схем могли конструироваться длинные цепи формальных преобразований, с исключением промежуточных элементов связок, этот метод был использован в работах по атрибутивному знанию.
Таким образом, в этой схеме мы получили простейший кирпич или элемент, из которого мы затем начали строить композиции или комплексы разного рода. Вопрос заключался только в том, какие связи задавать между этими исходными элементами или кирпичами. Число возможных комбинаций определялось, во-первых, характером связей между элементами, а во-вторых, числом сцеплений элементов. Таким образом, мы получили мощнейшее средство формального построения схем разного типа. Но вместе с тем, вся эта работа полностью укладывалась в рамки выделения некоторых фрагментов эмпирического материала, о которых я говорил раньше.
Какую бы сложную композицию этих схем мы ни строили, она всегда оставалась отдельной и изолированной структурой и какой бы сложности она сама ни была, мы могли наложить ее на эмпирический материал только как отдельную структуру и притом на такой фрагмент эмпирического материала, который мы вырываем из общего контекста путем самого этого наложения. Ставить здесь вопрос о каком-либо систематическом развертывании целостного предмета было не корректно.
Как видите, я все время аргументирую и обосновываю тезис, что указанная процедура не имеет ничего общего с процедурой восхождения от абстрактного к конкретному, а представляет собой совсем другую конструктивную процедуру, которой мы, собственно, все время и пользовались.
К более подробному обсуждению этих схем я вернусь позднее. Сейчас мне важно подчеркнуть лишь то, что в эмпирическом материале, мы всегда могли увидеть лишь то, что было заключено в этих схемах или их комбинациях. Эти схемы строились каждая отдельно от других. При этом мы очень много «приговаривали» по поводу этих схем. За счет этих приговариваний получалось впечатление, что сами схемы обладают некоторой «жизнью». Но на самом деле, они были такими схемами, которые, сами по себе, никакой жизнью не обладали. Другими словами, сами по себе, они не могли развертываться в соответствии с какими-либо правилами. В частности, даже в тех случаях, когда мы на основе простой схемы строили более сложные, многослойные ее варианты, и ставили в третьей или в четвертой плоскости обозначение какой-либо знаковой формы, то мы всегда предполагали, что она уже есть или может возникнуть. А каким образом — этот вопрос мы не обсуждали.
Другими словами, мы никогда не могли ставить собственно генетические вопросы, не могли выводить более сложные схемы из более простых, мы не могли имитировать исторический процесс в псевдогенетической форме. Больше того, если нам и приходилось ставить подобный вопрос — если, например, спрашивали, откуда берется операция или ее материал — то мы сразу же оказывались выброшенными за рамки того предмета, который задавался нашими исходными схемами.
Здесь нам приходилось уже говорить о механизмах развертывания действий сопоставления, мы пытались найти некоторые генетические закономерности и механизмы в области операций и действий, аналогичным образом мы вынуждены были ставить вопрос о происхождении материала в тех или иных знаках, при этом мы обращались к эмпирической истории, но чтобы мы ни делали, мы каждый раз были вынуждены выйти за рамки наших схем и задаваемого предмета.
Крах не наступал лишь потому, что у нас было очень мощное понятийное и словесное обслуживание этих схем — со всеми входящими сюда интерпретациями, истолкованиями, разговорами о деятельности, мы каждый раз осуществляли этот выход довольно просто. Правда благодаря этому появилась очень своеобразная раздвоенность между тем, что мы знали и понимали, с одной стороны, и тем, что мы изображали в рисунках, с другой.
Но эта раздвоенность весьма отрицательная в определенных аспектах, в этом случае помогала нам осуществить такой выход за рамки ограниченного предмета, который нам был нужен — обстоятельства, на которые уже в течение двух лет постоянно обращал внимание О.Генисаретский, ругая всех нас как по отдельности, так и скопом.
Таким образом, — я как бы подытоживаю все сказанное выше, — нам так и не удалось наложить на все эти схемы механизм восхождения от абстрактного к конкретному. Дальше мы поймем, что такой результат бы совершенно закономерным, ибо все то, что изображалось в этих схемах, вообще, как теперь мы понимаем, не могли иметь развития. Поэтому нельзя было наложить на эти схемы механизм псевдогенетического развития.
Но когда мы — здесь я перехожу к самому важному пункту моего сегодняшнего сообщения — построили достаточное число подобных структурных схем и начали прикладывать их к разнообразному материалу — а это приложение шло в основном по двум линиям: с одной стороны, удалось объяснить какие-то моменты развития математики, с другой стороны, они оказались весьма продуктивными в психолого-педагогической области и позволили нам смоделировать некоторые моменты мыслительной деятельности детей, в частности, процессы решения арифметических задач, работу с пирамидками и т.д. — когда, повторяю, мы начали прикладывать эти схемы к разнообразному эмпирическому материалу, то у нас тогда сложилось совершенно особое представление о той деятельности, которая по идее должна была изображаться в этих схемах. Этот момент требует несколько более подробного разъяснения.
У нас, таким образом, были, с одной стороны, простейшие схемы вида:
АВ
Х
а с другой стороны, значительный набор эмпирических явлений, который мы относили к явлениям мышления, и мы, во-первых, строили из этой схемы набор более сложных комплексных схем, а с другой стороны, мы прикладывали эти усложненные и простые схемы к фрагментам эмпирического материала и достаточно хорошо изображали и объясняли выбранные нами куски. Конечно, при этом мы каждый раз ставили строго определенные задачи; в частности мы спрашивали, какова структура того или рассуждения, или процесса мышления с точки зрения этих схем. Вы понимаете, что мы, конечно, могли увидеть в эмпирическом материале только то, что уже знали. На этом пути мы смогли решить целый ряд занятных историко-научных, методических и психолого-педагогических проблем.
Но как всегда бывает в таких случаях, этого оказалось мало и мы стремились обобщить выделенные нами фрагменты эмпирического материала, и мы постоянно ставили вопрос: какова структура той действительности, которая в этих схемах изображается. Мы стремились построить единую картину той действительности, которая схватывается и представляется нами в подобных схемах. Собственно эту онтологическую картину я и начал рисовать перед вами в прошлый раз.
Вы помните, что на это последовало замечание, что я делаю всю эту работу не систематически и лучше ее в таком виде не делать. Поэтому я вернулся назад и постарался разъяснить все те методические ходы, которые объясняют, почему и каким образом появилась эта картина. Сейчас я вновь могу к ней вернуться.
В прошлый раз я уже говорил, что главным на этом этапе была идея замещения, замещение некоторого операционально выделенного содержания ХΔ знаком (А). Знак (А) обязательно должен быть включен в деятельность. Поэтому сразу же возник вопрос, что чем замещается: замещается ли оперирование с объектом Х соответствующим оперированием со знаком (А), или же знак (А) уже снимает в себе содержание ХΔ, а оперирование со знаком привносится еще дополнительно и образует какое-то новое специфическое содержание?
Но как бы там ни было, главным была сама идея замещения. А так как у нас в схемах было много плоскостей и эти плоскости, взятые попарно, образовывали свои — у нас, следовательно, были многослойные структуры, то мы, естественно, должны были саму эту действительность, то есть мир человеческой деятельности, представить по образу и подобию наших схем. Поэтому мы создали соответствующую онтологическую картину. При этом само замещение мы обобщали и говорили не только о замещении некоторого содержания, выделенного на реальных объектах, знаком, но также — о замещении одних объектов другими, о замещении одних знаков другими знаками и т.д.
В результате у нас появилась в онтологии достаточно сложная слоеная картина, в самом низу которой лежали объекты практических преобразований. Все объекты, включившиеся в одну и ту же деятельность, и не различимые с точки зрения этой деятельности, уже в соответствии с закономерностями и механизмами самой производственной деятельности непрерывно замещали друг друга.
Этот факт фиксировался в новой, надстроечной сфере эталонов. Длинный ряд, замещающих друг друга объектов, выражался в одном эталонном объекте. Вопрос о том, как выталкивается эталон, я сейчас не обсуждаю, он рассматривался нами по-разному и на разном материале. Мне важно отметить лишь тот момент, что эталон всегда привязывался к определенному знаку. Следовательно, в третьей плоскости нашей действительности появились знаки и к ним применялись другие деятельности; эти деятельности со знаками замещались другими знаками, знаками следующего уровня и т.д.
Описывая всю эту картину, я говорил вам, что она представляет здание того мира, который конструируется человеческой деятельностью, и если мы хотим получить изображение этого здания, то должны представить себе и описать все его улицы, «переулки», переходы между этажами улиц, которыми человеческая деятельность структурировала природу и тем самым создала собственно предметный мир человечества, в свою очередь определяющий обратно человеческую деятельность.
Предметный мир человечества, как бы захватывающий природу и меняющий ее лицо, это — примерно, такая структура, включающая массу разнообразных элементов и переходы между ними. Если теперь вы представите себе, что все это скомпоновано и организовано в пространстве не так, как мы строим наши здания, а таким образом, что разные структуры как бы вложены друг в друга, пересекаются друг с другом, существуют в одном пространстве и на одном материале — образно это можно представить так, что одни связи и образуемые или структуры окрашены в синий цвет, другие — в красный, третьи — в зеленый и т.д. и что все они смыкаются и стыкуются друг с другом в материальных точках знака — если вы представите это в дополнение к образу здания, то вы получите достаточно точную картину мира человеческих предметов или картину предметного мира. И вокруг этого мира, на его основе непрерывно течет и развертывается кинетика человеческой деятельности.
Это и есть та онтологическая картина, которую требовали все эти схемы и которая была нами в конце концов задана. По сути дела, названные схемы с самого начала задавали подробную картину действительности, но нужно было еще освободиться от фетишизма натуралистического представления.
Мне здесь хотелось бы обратить ваше внимание на то, что обычно называют «опредмечиванием человеческой деятельности». Мы не раз ставили вопрос о связях между объектами и деятельностью и при этом подчас недоумевали, каким образом деятельность подстраивается к объекту, каким образом она находит свои объекты. Но это, по-видимому, неверная постановка вопроса.
Удивительно не то, что деятельность связывается с объектом, удивительно и требует своего объяснения то, что вообще существуют объекты, что существует какая форма виденья и сознания всего мира. Если мы начинаем свой анализ с универсума деятельности, то объяснению подлежит застывание ее в форме объектов. Приходится объяснять, как вообще возможны и существуют объекты, каким образом многие пересечения разных деятельностей создают то, что мы называем объектом.
Если обратиться к нарисованной нами разноцветной картинке, то проблема выступит так. Имеется красная структура деятельности и какой-то объект лежит в точке пересечения ее связей. Эта система деятельности выделяет и фиксирует свой особый набор содержаний, смыслов и даже «свойств» объекта. Но кроме того, этот же объект, во всяком случае — в плане материала, лежит в точке пересечения связей синей структуры деятельности со своим набором содержаний, смыслов и «свойств» объекта.
Такое описание можно было бы продолжить. Следовательно, не существует объекта, как чего-то строго определенного и отграниченного от всего другого, а есть какое-то размытое пятно, которое существует, примерно, в узле пересечения разных деятельностей. Этот вывод о размытом пятне будет тем более очевиден, что деятельность представляет собой непрерывную кинетику и, соответственно этому — даже в обычном натуралистическом сознании — объекты непрерывно изменяются, текут, перестраиваются, и уже поэтому должны представляться нами как нечто размытое.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|