
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
07.06.1965 3 страница
В качестве смешных примеров, выражающих ходячее мнение, я хочу привести, с одной стороны, тезис Полетаева в его книге «Сигнал», о тем что знание получается сначала путем создания любых произвольных комбинацией и отбора из них затем тех, которые имеют содержание и смысл, а с другой стороны, работу Ван Хао, который заставляет машины создавать все возможные высказывания, правильные в определенной формальной системе, а затем не знает, что с ними делать и как выделить из их числа осмысленные и значимые.
В этой же связи, наверное, надо было бы обсудить работы по созданию порождающих грамматик, проводимые зарубежными и советскими структуралистами. При все моей симпатии к структуралистическим установкам и попыткам строгого и научного подхода к проблемам, я вынужден протестовать против их попыток неоправданного упрощения самой проблемы и сведения сложной мыслительной деятельности, включающей работу сознания и процедуры объективации смыслов, к чисто формальным оперированиям со знаками, образованию из них исходных композиций и преобразованию их в другие композиции. Все то, что они фиксируют, — лишь один из моментов в системе деятельности, создающей осмысленные предложения, при этом момент, представленный не очень точно.
Я надеюсь, вы уже поняли, что я пока доказываю всего один принципиальный тезис: схемы силлогизма, так же как и любые другие формальные схемы связок между знаковыми выражениями, не могут объяснить получение знаний, не могут служить изображениями механизмов получения.
Теперь мы можем вернуться к нашим исходным посылкам. Мне важно напомнить вам утверждение, что на первых этапах наука была представлена в виде совокупности знаний, высказываний, или предложений, которые получаются, выводятся из аксиом по логическим правилам, представленным, в частности, в схемах силлогизма. Очень скорое само понятие получения стало двойственным. Если схемы силлогизма — правила, по которым получают знание, или даже если они — требования к продукту деятельности, то само получение сразу выделилось в особую область. Кроме того, очень скоро было осознано, что этих правил, независимо от того, как мы их трактуем, недостаточно для самого получения знаний. Вместе с тем тезис о том, что логические правила представляют собой те образования, в соответствии с которыми получают теоремы, был и оставался совершенно правильным, ибо эти правила, взятые уже не плане описания, а плане нормировки и методических средств действительно являются тем, что определяет и нормирует деятельность получения знаний.
Конечно, при этом они дополняются массой интуитивных моментов, которые обязательно входят в нашу деятельность и дают возможность получать нужные нам продукты — знания. Логические правила участвуют в получении знаний, но к ним нельзя свести всю деятельность получения и уж во всяком случае их нельзя рассматривать как изображения этой деятельности получения. Поэтому, если и как только мы начинаем толковать логические правила и схемы как изображения деятельности получения знаний, то тотчас же обнаруживается их неадекватность. Следовательно, ошибка возникает не из-за того, что это схемы и что они используются нами, а из-за того, что мы прежде всего не правильно их интерпретируем, придаем им такой смысл и такое содержание, какого у них не может и не должно быть. Все эти схемы и правила — достаточно хорошие нормы и методические средства, но они не могут служить в качестве изображений деятельности получения знаний.
— А как вы будете выбираться из этой ситуации?
Мне вообще не нужно выбираться из этой ситуации. Я не делаю ставки на чисто машинный перевод. Я не хочу создавать машины, которые бы отдельно от людей производили научные теории. Я за машины и технические устройства разного рода, но они должны быть средствами и орудиями в деятельности людей, а не независимыми коллегами, заменяющими человека. Поэтому мне не надо выбираться из ситуации, о которой вы говорите. Выбираться придется тем, кто поставил перед собой такую задачу и, на мой взгляд, поставил ее необдуманно. Этих людей и надо спросить, как они выберутся из этой ситуации.
Мне важно подчеркнуть, что, создав первые схемы силлогизма, Аристотель ввел первый тип средств, нормирующих мыслительную деятельность. И это было крайне важно. Теперь мы должны выяснить, какие еще средства нужны и как нам их выделить. Уже вторым будет вопрос о том, можно ли Аристотелевы схемы употреблять в качестве первых моделей мыслительной деятельности, могут ли они, следовательно, выступить в качестве знаний, и если да, то что именно они будут изображать.
Я постараюсь показать, что их нельзя трактовать как изображения рассуждений. Это и есть то, что мне нужно. Показывая, что схемы силлогизмов, как и другие схемы традиционной логики, не могут употребляться в качестве знаний о рассуждениях, я вместе с тем постараюсь ответить на вопрос, почему это невозможно и, таким образом, начну выбираться из той ситуации, в которой сейчас находится человечество, выявляя специфические моменты рассуждений и стремясь изобразить их в соответствующих схемах.
Мне важно подчеркнуть, что силлогизмы появились у Аристотеля не в качестве знаний о рассуждениях или моделей рассуждений, а в качестве правил или предписаний, указывающих, как нужно рассуждать. Это факт — сам по себе достаточно известный. Возьмите хотя бы книжку Я.Лукасевича «Аристотелева силлогистика с точки зрения современной формальной логики» — и вы найдете там совершенно определенное и недвусмысленное решение этой проблемы. Возьмите уже указанную мной книгу Г.Шольца — и вы найдете там не менее характерное утверждение о том, что если считать логикой то, что фиксируется в силлогизмах и их схемах, то логика не может быть наукой. По мнению Шольца этот момент был четко осознан перипатетиками примерно через 200 лет после Аристотеля. Правда, Шольц аргументирует несколько странным образом, но его аргументация все равно остается весьма убедительной. Он фиксирует то обстоятельство, что для Аристотеля наука есть совокупность положений, выведенных из аксиом. Чтобы аксиоматизировать логику, надо было построить некоторые новые правила, т.е. некоторую металогику. Поскольку Аристотель такой задачи не ставил, то он, по мнению Шольца, не рассматривал логику как некоторую науку. И это было понято его учениками и последователями.
Правда, Шольц тут же добавляет, что де Аристотель был последовательным и вопреки своим теоретическим представлениям он все-таки создал логику как некоторую не аксиоматическую науку, т.е. как науку, не соответствующую его представлениям о науке. И еще через несколько страниц Шольц говорит, что логик, тем не менее, всегда не является ученым в подлинном смысле этого слова. Логик, по его мнению, это тот, кто знает, какие рассуждения допустимы, а какие нет, и поэтому всегда может отличить болтающего дурачка от человека рассуждающего.
Но хотя у Аристотеля силлогизм не был ни знанием, ни моделью, а был лишь правилом и методическим предписанием, тем не менее, через некоторое время в развитии логики произошли такие события и так изменились сами точки зрения и подходы, что ее развитие получило принципиально новое направление и привело к зарождению науки в собственном смысле этого слова.
Правда, я должен здесь оговориться, что употребляю сейчас слово наука уже не в аристотелевском, а в современном смысле, имея в виду появление моделей, изображающих объекты изучения. Перелом, о котором я говорю, заключается в том, что правила, сформулированные Аристотелем и выраженные в виде схем, были свернуты Александром Афродизийским в виде моделей — собственно это мы и называем сейчас схемами силлогизмов — и спроецированы на рассуждения, по-видимому, в качестве их изображений или моделей. Этот момент крайне важен. Я попробую рассмотреть его более подробно.
Имеется, таким образом, некоторое количество положений, которые считаются истинными, и некоторое количество приводящих к ним рассуждений, которые считаются правильными. Путем анализа этой области выявляются правила, выступающие в роли предписаний для человека, который должен строить аналогичные рассуждения. Этот человек использует эти правила в качестве некоторых нормативных требований к продуктам его деятельности. На этом этапе силлогизмы представляют собой совершенно очевидные правила: «делай так-то и так-то».
Для того чтобы они имели необходимую общность, Аристотель в некоторых случаях ставит вместо терминов буквы, вводя таким образом некоторое подобие переменных. Аристотель говорит нечто подобное такому: «если А приписываются всем В, а все В приписываются всем С, то можно А приписать всем С». Обратите внимание на это выражение «приписать»; я буду его дальше специально обсуждать. Обратите также внимание на то, что я назвал эти буквы «подобием» переменных, ибо на самом деле они не являются «переменными» в точном смысле этого слова, хотя, как правило, многие логики и историки логики трактуют их именно как переменные.
Эти буквы употребляются в качестве имен, примерно так же, как мы употребляем буквы в рассуждениях по планиметрии — треугольник АВС; это таким образом — имена некоторых элементов в онтологической плоскости или в плоскости модели. Схемы такого рода начали сокращать — это вполне естественно для любых форм общения и записи в речи. Довольно скоро стали писать — и это превратилось в норму — нечто подобное такому: «А — всем В, В всем С, то А — всем С». Когда вся словесная часть выпала, а остались одни буквы, предлоги и появились черточки, то правило приобрело вид схемы. Сейчас мы обычно записываем эту схему столбиком:
А — всем В
В — всем С
А — всем С
хотя, конечно, могли бы записывать и в строку, как это часто делал Гегель для наглядности: А — В — С. После того как появилась схема, представленная ли в строку в виде последовательности трех высказываний, либо же в столбик, ее стали трактовать как изображение рассуждения.
Такое представление имело все основания, тем более, если мы учтем нормирующую функцию любого нашего знания. Шарль Соссюр в своем «Опыте исследования значения логики» указывает на это обстоятельство. Соответствовали или не соответствовали эти схемы нашим реальным рассуждениями, но поскольку они были представлены как схемы нормирующие рассуждение, то многие рассуждения стали строиться по этой схеме. Не только научные рассуждения, но и обычный разговорный язык стал нормироваться этой схемой, стал подгоняться под схему.
Адекватность была достигнута, но совершенно другим способом, нежели этого требуют наши знания: не знания были приведены в соответствие с объектами, а объекты были приведены в соответствие с нашими знаниями. Поскольку процесс подгонки разговорного языка под схему непрерывно продолжался, поскольку сами правила приобрели вид схем, то стало возможным и оправданным рассматривать эти схемы, возникшие как методические предписания, в качестве изображений или моделей реально происходящего, т.е. рассуждения, во всяком случае в той мере, в какой оно выражается в речи. Правило или схема методического предписания выступило как изображение.
Но тогда, естественно, возник вопрос: изображением чего оно является? Именно здесь началось самое интересное и вместе с тем самое смешное. Модель уже была и теперь нужно было подыскать ей подходящую натуру, подходящий объект. В качестве него выступили в одних случаях рассуждение, в других — мышление, в третьих — вывод и т.д. и т.п. В качестве объектов, изображаемых в схемах такого рода, стали фигурировать любые и самые разные предметы, которые удавалось выделить за словесными текстами речи. Схематически сложившиеся здесь отношения можно представить, примерно, так:
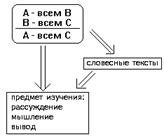
Итак, некоторое методическое правило, возникшее как одно из средств обеспечения деятельности, работавшее наряду с другими средствами, превратилось в некоторое изображение структуры самого рассуждения (или чего-то другого). Если раньше я задавал вам вопрос, можем ли мы рассматривать всю совокупность признаков, фиксированную в таком правиле, в качестве знания о том продукте, который мы должны получить, и о самих процессах получения, стоящих за продуктом, и ответил на этот вопрос, что этого делать нельзя, и если там, на первых этапах нашего движения мой ответ был достаточно обоснован и очевиден, то сейчас он оказывается уже не столь очевидным, а с фактической стороны даже неверным. Во всяком случае, мы должны признать, что подавляющее большинство логиков, вплоть до самого последнего времени, т.е. до начала ХХ столетия отвечала на подобный вопрос утвердительно. Они утверждали, что схемы силлогизма являются изображениями процессов рассуждения или процессов мышления.
Если быть более точным и смотреть не на число людей, а лишь на разные точки зрения и позиции, то надо ответить несколько иначе. Надо сказать, что в этом пункте логики разбились на две группы, или два направления. Одни из них отвечали на этот вопрос утвердительно и считали схемы силлогизма изображениями рассуждений и мышления, а другие, наоборот, отвечали на этот вопрос отрицательно и считали, что схемы силлогизма ни рассуждения, ни мышления, не изображают.
Первые образовали линию развития собственно формальной логики, вторые образовали направление антагонистов формальной логики, или, если можно так выразиться, направление «неформальной» логики. Чем занималось это направление — на этот вопрос я постараюсь дальше ответить, хотя опять-таки, конечно, очень грубо и схематично.
Из предшествующего изложения мне важно выделить несколько основных положений:
1) логические схемы, в частности схема силлогизма, возникают и появляются у Аристотеля как некоторые правила, призванные регулировать построение суждений, рассуждений, претендующий на истинность и доказательство;
2) эти правила, претерпев некоторые изменения, начинают у Александра Афродизийского и дальше трактоваться как некоторые изображения или модели самих рассуждений, доказательств и их элементов — суждений;
3) эти схемы рассматриваются как то, с помощью чего мы получаем некоторый результат, в частности некоторое предложение, являющееся теоремой, выведенное из аксиомы;
4) ближайший же анализ показывает, что правила и схемы такого рода не могут обеспечить построение рассуждений и доказательств, во всяком случае, если мы берем их самих по себе; они не изображают процессы получения рассуждений или само рассуждение; благодаря этому все предшествующие представления очень быстро и скоро распадаются на два.
Получить рассуждение — это значит одновременно получить его форму и, вместе с тем, оценить его истинность. Очень скоро логические правила и схемы начинают трактовать как дающие оценку по истинности, служащие основанием для такой оценки, начинают говорить о том, что получение самого предложения, его материальное производство, осуществляется в форме какой-то другой деятельности.
Отсюда сначала встает вопрос: как получаются и как получать новые знания? — а затем утверждается сама мысль, что есть какой-то процесс получения знаний, не изображаемый схемами силлогизма. Этот вопрос и эта проблема, рожденные в указанной выше ситуации, порождают предмет логики научного исследования, который, начиная со стоиков, а совсем не с эпохи Возрождения, как это сейчас часто пишут, непрерывно развертывается в истории философии и логики.
При этом происходят очень интересные изменения в самом понятии логики (если о нем можно говорить) и с предметом логики. Я буду здесь предельно краток и, соответственно, слишком груб и неточен, но мне тем не менее хочется высказать основные соображения.
У Аристотеля и дальше у перипатетиков был «Органон» и не было никакой логики. Стоики в противоположность перипатетикам развертывают систему, которую они называют «диалектикой». Понятие диалектики, как пишет Г.Шольц, проходит через всю историю Средневековья. Все или почти все логические работы того периода назывались работами по диалектике. Как вы знаете средние века несколько раз, начиная все по-новому, осваивали античное наследие. В том числе несколько раз по-новому осваивалось и прорабатывалось наследие Аристотеля.
Во второй половине XIV и начале XV столетий происходит одно из таких новых освоений, и в связи с ним начинает широко применяться термин «логика».
В XVI столетии, как указывает Г.Шольц, мы имеем опять своеобразную реконкисту и термин «диалектика» вновь повсеместно вытесняет термин «логика». В середине XVII столетия термин «логика» начинает фигурировать все чаще и чаще, и намечается тенденция к вытеснению термина «диалектика».
Возникает совершенно естественный вопрос: не были ли связаны эти изменения терминов с каким-то очень существенными и глубокими изменениями в характере методологических и гносеологических знаний, не характеризуют ли они глубокие изменения направлений исследовательских работ? Вполне естественно ответить на этот вопрос утвердительно и предположить, что смена терминов отмечала существенные изменения мнений и принципов.
И в частности, я хотел бы спросить: не совершаем ли мы грубую ошибку, когда говорим, что логика научного исследования появляется в ХХ столетии или, скажем в XIX столетии? Во всяком случае, мне кажется, что мы, следуя традиции, слишком не дифференцированно рассматриваем Средние века, мы по-прежнему полагаем, что Средние века были периодом невежества и темноты, закончившимся лишь с Возрождением. Целый ряд исследований, в частности исследования Дюгема, проведенные в конце прошлого столетия, и многих других, работавших уже в ХХ столетии, показали нам, что Средние века отнюдь не были периодом темноты и невежества. Что в этот период шла очень интенсивная работа мысли, что подлинные основания для современного развития науки, техники и искусства закладывались именно в Средние века в XI–XV столетиях и что Возрождение, наоборот, было не периодом подлинной ломки, а лишь тем периодом, когда все перевороты обнаружили себя.
В этом плане история «органологической» мысли требует еще специального изучения. Во всяком случае, сейчас мы не имеем никаких достоверных и правильных знаний о том, что представляли собой логические проблемы в этот период. В частности, мы не можем сказать, какой круг проблем был главным — проблемы оценки уже полученных знаний на истинность или, наоборот, проблемы получения знаний и построения рассуждений. А если это так, то у нас пока нет никаких оснований говорить, что проблематика логики науки появляется в ХХ или в XVII столетии.
Как я уже сказал, в конце XVII столетия наиболее распространенным становится термин «логика». Но что называют этим именем в этот период, какие работы входят в ее состав и образуют ее тело? У Г.Шольца есть на этот счет очень интересное замечание. Он говорит, что в тот период логические работы были «битком набиты всяческими психологическими проблемами и проблемами техники получения знаний». Я прошу вас обратить внимание на эти слова. Сам Г.Шольц, как вы знаете, был главой и идеологом формального направления в немецкой логике и считал психологическими, или психологистическими, любые рассуждения, выходящие за пределы формальной и даже формалистической традиции логики. Поэтому его утверждение насчет «психологических» проблем может быть весьма тенденциозным, и туда вполне могут попадать не только и не столько собственно психологические, сколько также и в большей мере методологические и гносеологические проблемы. Как бы там ни было, вторая часть его замечания насчет «техники получения знаний» весьма показательна и характерна.
Следующий этап в развитии логики связан с развитием бэконовских и картезианских идей. Как вы знаете, именно у картезианцев начинает операционально использоваться понятие мышления, введенное Декартом, и мышление, противопоставляется речи, или рассуждению. Понятие мышления вводится Декартом для обозначения второй субстанции, существующей наряду с материей.
Эта субстанция дает возможность ученикам и последователям Декарта, Арно и Николю, знаменитым логикам Пор-Рояля, разделить мышление и рассуждение. Впервые появляется термин « » — мысль или мышление, который заменяет термин « » — рассуждение. Существенно при этом, что мышление изображается и трактуется с точки зрения уже существующих и переданных по традиции логических схем.
В этот же период выступают со своими предложениями правил, характеризующих технику открытия, представители специальных наук. В частности, с очень интересной, по заявлению Г.Шольца, концепцией выступил известный математик Валлис, автор знаменитой «Арифметики бесконечного», и др. В этот же период появляется знаменитый «Органон» Ламберта. В этом сочинении, оказавшем большое влияние на современников, рассматриваются среди прочего такие вопросы: 1) законы мышления, которые сводились Ламбертом в особое учение — «дианойялогию»; 2) проблемы истины и оценок на истинность — все это сводилось в специальное учение об истинности; 3) проблемы знака, которые объединялись в семиотику — учение об обозначениях мыслей и вещей; 4) характер явлений, описание которых сводилось в феноменологию.
В этот же период впервые появляются теоретико-познавательные логики разного типа. Мы ведем эту линию от Гоббса и связываем с именами Локка, Лейбница, Юма, доводим до Иммануила Канта, у которого учение о познании оформилось в самостоятельное философское учение, или раздел философии. В этот период начинает оформляться учение о категориях, которое, как вы знаете, дало потом специальный раздел философии — «Kategorichlehre».
Все это Г.Шольц называет попытками построения неформальных логик.
Если попробовать изобразить эту линию в основных моментах, то мы получим по меньшей мере следующее: диалектика стоиков — борьба между логикой и диалектикой в Средние века — неформальные логики, в которых рассматриваются органологические проблемы, по своему составу соответствующие составу аристотелевского «органона», т.е. включающие метафизику с онтологией, феноменологию, методологию (правила для руководства ума, рассуждения о методе и т.п.) — теории мышления и мыслительных процессов — теории категорий — трансцендентальная логика.
Сказанное мной сейчас является, по сути дела, схематизацией того, что считает точно установленным и приводит в своей книге по истории логики Г.Шольц, представитель крайнего формализма в логике.
Чтобы понять значение этих констатаций, нужно принять во внимание, что Шольц сосредоточивает все внимание исключительно на формальных направлениях, потому что считает, что лишь они одни получили подлинное развитие в современной логистике и поднялись до уровня подлинной науки. Представления логистики являются для Шольца тем мерилом, по отношению к которому он оценивает все явления в истории логики. Позиция Шольца вполне понятна, ибо для того, чтобы написать историю неформальных логик, нужно иметь такие представления об их характере и природе, которые бы давали возможность собрать и соединить их всех воедино. Только на этом пути мы могли бы надеяться получить предмет неформальной логики и его историю.
Должен сказать, что эту работу придется делать, если мы хотим создать сам предмет неформальных логик. Для Шольца подобная задача непосильна — и он сам это отмечает, — ибо у него нет достаточно богатого представления о подлинной природе неформальных логик и их современном положении.
Но я к этим вопросам еще буду не раз возвращаться по ходу дальнейшего изложения. А сейчас, повторяя вслед за Шольцом основные моменты, характеризующие развитие неформальных логик, мне важно было показать, что начиная с Аристотеля и вплоть до наших дней все время развертывается большая и мощная линия попыток построения неформальной логики. Все эти попытки создают, как мне кажется, значительно более глубокую и более мощную традицию, нежели традицию развертывания формальной логики. Больше того, наверное не было бы ошибкой сказать, что после Александра Афродизийского и стоиков формальная логика вообще, по сути дела, не развертывается, во всяком случае до Дж.Буля и его последователей.
Очень характерно, что в своих лекциях И.Кант начинал с утверждения, что формальная логика представляет собой совершенно законченное здание, что она со времен Аристотеля не сделала ни одного шага вперед и не отступила ни на шаг назад. В дополнение к этому тезису я мог бы показать, что и современное развитие математической логики не является, по сути дела, развитием логики, а должно быть целиком отнесено к сфере математики и ее языков. И на этом фоне застывшей и консервативной формальной логики все время идут непрерывные попытки построить неформальную логику. Называются они по-разному — то диалектикой, то методологией, то органоном, то теорией мышления, то теорией категорий и т.д., но цель и суть всех попыток одна. В этом плане исключительно показательна работа Ламберта; она включает в себя вопросы, которые интенсивно обсуждаются сегодня, вопросы, которые стали основными для новейших направлений — семиотики, эвристики, теории мышления и теории деятельности.
Поэтому перед нами стоит задача оценить все эти работы, их вклады в логику и ответить на один основной и решающий вопрос: почему до сих пор никому не удалось построить неформальной логики? А в том, что ее не удалось построить, сходятся абсолютно все — как представители формальных, так и представители неформальных, содержательных направлений.
Вы понимаете, что в мои цели не входит сейчас обсуждение и решение этого вопроса; мне хочется, глядя на всю эту историю как бы со стороны, показать, что она была очень мощной, многогранной и сложной, мне хочется также постараться представить себе, что при этом происходило.
Что такое логика? Что вы называете этим словом?
Я отвечу вам, напомнив одну анекдотичную историю, которая произошла на самом деле. Говорят, что на одном из недавних конгрессов собрались ведущие геометры всего мира и долго спорили по вопросу, что такое геометрия. Спорили, спорили, спорили, и конца этому не было. И тогда один из них, чтобы как-то вывести собрание из тупика предложил в дальнейшем называть геометрией то, что большинство мировых геометров называет, и записать это в качестве официального определения геометрии. Примерно также я хотел бы ответить на ваш вопрос.
Конечно, можно предъявлять совершенно законные претензии и недоумевать, почему и на каком основании неформальные логики называются логиками, а не, скажем, эвристиками. Но дело в том, что сам Шольц называет эти работы «неформальными логиками» и подавляющее большинство мыслителей, создававших эти работы, тоже называли их логиками. А если они называли как-то иначе, то потом те, кто анализировал их работу — их проблемы, объекты, методы, — называли все это логикой.
Мне достаточно того, что Г.Шольц при своих частных интересах и «партийной» формалистической ориентации не рискует исключить эти работы из области логики. Его работа заканчивается весьма примечательно: даже короткий абрис истории логики показывает, что в современной логике содержится масса элементов, которые, по его мнению, не имеют никакого отношения к собственно формальной аристотелевской логике, поэтому тело Большой Логики весьма гетерогенно, содержит массу разнородных частей, но все равно все называют это логикой. Это первый ответ, который я дал бы.
Но теперь я хотел бы ответить всерьез, ибо то, что было выше, — лишь полусерьезная шутка. Я просил бы вас вернуться к исходным схемам моего сообщения. Я совсем не случайно говорил, что логика возникла по недоразумению. Сначала это была система правил, предписывающих, как надо рассуждать, чтобы получать истинные суждения. Поэтому у Аристотеля и дальше все то, что мы сейчас склонны называть формальной логикой, было, наподобие грамматики, нормативным предписанием к построению правильной речи. Лишь у Александра Афродизийского и притом совершенно случайно эта совокупность предписаний превратилась в некоторое знание.
Я еще раз напомню вам, что отличаю формальную логику от аристотелевского Органона — она соответствует некоторым частям Аналитик и некоторым частям работы «Об истолковании». Превращение правил в знания тоже, как вы заметили, не было прямым и непосре-дственным. Ведь правила превратились в схемы, схемы — в модели, и уже по поводу этих моделей затем были созданы специальные знания, которые начали выступать в виде логических знаний.
При этом сами правила-предписания распались: из них выделилась часть, нормирующая продукт деятельности — некоторое суждение, или силлогизм; получалось, что столь детализированная характеристика продукта делала отчасти ненужным само предписание, ибо достаточно подготовленный человек мог получить канонизированные связки знаковых выражений.
Таким образом, из аристотелевского Органона выделился некоторый Канон. Он давал возможность оценивать продукт и в соответствии с этой оценкой регулировать свою работу. Но методического управления самой деятельностью по получению самих продуктов не было и не могло быть. Это значит, что Органон не только отделился от Канона, но и оказался к тому же несостоятельным. Установка на Органон, следовательно, оставалась, но ее не удавалось реализовать. Но наряду с этим, поскольку Канон давал образ или образец продукта деятельности, выступал, следовательно, в качестве задающего некоторый идеальный объект, вокруг него и над ним стали складываться знания об этом идеальном объекте и стала формироваться исследовательская работа. Здесь, как и всюду, проявился общий закон нашей познавательной деятельности: первыми объектами изучения стали продукты нашей конструктивной деятельности, потом, уже в ходе самих исследований им придавался некоторый естественный статус, и тогда полученные знания выступали сразу в двух функциях — как знания о продуктах нашей деятельности и как проекты будущих продуктов, с одной стороны, и как знания об естественных объектах — с другой. Следовательно, и эти вновь получаемые знания сохраняли двойную функцию — как конструктивную, так и собственно познавательную. В конструктивной функции они выступали как неявное предписание, ибо продукт нашей деятельности с самого начала был представлен относительно процесса своего производства, уже как бы содержал в своем образе всю процедуру получения его, подобно тому, как формула площади треугольника содержит в себе скрытый алгоритм измерений и вычислений.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|