
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Еще раз о местепризнакам замечаю, что мы всего 595 поэзии
В идеальном правильнее устроили наше государ- государстве ство, говорю я это, особенно имея в виду поэзию, — сказал я.
— Что же ты об этом думаешь? — спросил Главкон.
— Ее никоим образом нельзя допускать, поскольку она подражательна. Это, по-моему, стало теперь еще яснее — после разбора порознь каждого вида души. ь
— Как ты это понимаешь?
— Говоря между нами,— вы ведь не донесете на меня ни творцам трагедий, ни всем остальным подражателям — все это прямо-таки язва для ума слушателей, раз у них нет средства узнать, что это, собственно, такое.
— В каком смысле ты это говоришь?
— Придется это сказать, хотя какая-то любовь к Гомеру и уважение к нему, владеющие мною с детства, препятствуют мне в этом. Похоже, что он — первый наставник и вождь всех этих великолепных трагедийных с поэтов 1. Однако нельзя ценить человека больше, чем истину, вот и приходится сказать то, что я говорю.
— Конечно.
— Так слушай же, а главное, отвечай.
— Спрашивай.
— Можешь ли ты мне вообще определить, что такое подражание? Сам-то я как-то не очень понимаю, в чем оно состоит.
— А как же я соображу?
— В этом не было бы ничего удивительного: ведь часто, прежде чем разглядят зоркие, это удается сделать 596 людям подслеповатым.
— Бывает. Но в твоем присутствии я не решился бы ничего сказать, даже если бы мне это и прояснилось.
Ты уж рассматривай сам.
Искусство
как подражание
подражанию идее
(эйдосу)
 b
b
— Да.
— И обычно мы говорим, что мастер изготовляет ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею: один делает кровати, другой —* столы, нужные нам, и то же самое и в остальных случаях. Но никто из мастеров не создает самое идею. Разве он это может?
— Никоим образом.
— Но смотри, назовешь ли ты мастером еще и такого человека...
— Какого?
— Того, кто создает все, что делает в отдельности каждый из ремесленников.
— Ты говоришь о человеке на редкость искусном.
— Это еще что! Вот чему ты, пожалуй, поразишься еще больше: этот самый мастер не только способен изготовлять разные вещи, но он творит все, что произрастает на земле, производит на свет все живые существа, в том числе и самого себя, а вдобавок землю, небо, богов и все, что на небе, а также все, что под землей, в Аиде.
— 
 О поразительном искуснике ты рассказываешь.
О поразительном искуснике ты рассказываешь.
— Ты не веришь? Скажи-ка, по-твоему, совсем не бывает таких мастеров или же можно как-то стать творцом всего этого, но лишь одним определенным способом? Разве ты не замечаешь, что ты и сам был бы способен каким-то образом сделать все это?
— Но каким именно?
— Это нетрудное дело, и выполняется оно часто и быстро. Если тебе хочется поскорее, возьми зеркало и води им в разные стороны — сейчас же у тебя получится и Солнце, и все, что на небе, и земля, и ты сам, и остальные живые существа, а также предметы, растения и все, о чем только шла речь.
— Да, но все это будет одна лишь видимость, а не подлинно сущие вещи.
— Прекрасно. Ты должным образом приступаешь к этому рассуждению. К числу таких мастеров относится, думаю я, и живописец. Или нет?
— Почему же нет?
— Но по-моему, ты скажешь, что он не на самом деле производит то, что производит, хотя в некотором роде и живописец производит кровать. Разве нет?
— Да, но у него это только видимость.
— А что же плотник? Разве ты не говорил сейчас, 597 что он производит не идею [кровати] — она-то, считаем мы, и была бы кроватью как таковой,— а только некую кровать?
— Да, я говорил это.
— Раз он делает не то, что есть, он не сделает подлинно сущего; он сделает только подобное, но не само существующее. И если бы кто признал изделие плотника или любого другого ремесленника совершенной сущностью, он едва ли был бы прав.
— По крайней мере не такого мнения были бы те, кто привык заниматься подобного рода рассуждениями.
— Значит, мы не станем удивляться, если его изделие будет каким-то смутным подобием подлинника?
— Не станем. ь
— Хочешь, исходя из этого, мы поищем, каким будет этот подражатель?
— Пожалуйста.
— Так вот, эти самые кровати бывают троякими: одна существует в самой природе, и ее мы признали бы, думаю я, произведением бога. Или, может быть, кого-то другого?
— Нет, я думаю, только его.
— Другая — это произведение плотника.
— Да.
— Третья — произведение живописца, не так ли?
— Допустим.
— Живописец, плотник, бог — вот три создателя этих трех видов кровати.
— Да, их трое.
— Бог, потому ли, что не захотел, или в силу необ- с ходимости, требовавшей, чтобы в природе была завершена только одна кровать, сделал, таким образом, лишь одну-единственную, она-то и есть кровать как таковая,
а двух подобных либо больше не было создано богом и не будет в природе.
— Почему же?
— Потому что, если бы он сделал их всего две, все равно оказалось бы, что это одна, и именно та, вид которой имели бы они обе: это была бы та единственная кровать, кровать как таковая, а двух кроватей бы не было.
— Это верно.
d — Я думаю, что бог, зная это, хотел быть действительным творцом действительно существующей кровати, но не какой-то кровати и не каким-то мастером по кроватям. Поэтому-то он и произвел одну кровать, единственную по своей природе.
— Похоже, что это так.
— Хочешь, мы назовем его творцом этой вещи или как-то в этом роде?
— Это было бы справедливо, потому что и эту вещь, и все остальное он создал согласно природе.
— А как же нам назвать плотника? Не мастером ли по кроватям?
— Да.
— А живописца — тоже мастером и творцом этих вещей?
— Ни в коем случае.
— Что же он тогда такое в этом отношении, как ты скажешь?
е —* Вот что, мне кажется, было бы для него наиболее
подходящим именем: он подражатель творениям мастеров,— ответил Главкон.
— Хорошо. Значит, подражателем ты называешь того, кто порождает произведения, стоящие на третьем месте от сущности? — спросил я.
— Конечно.
— Значит, таким будет и творец трагедий: раз он подражатель, он, естественно, стоит на третьем месте от царя и от истины; точно так же и все остальные подражатели 2.
— Пожалуй.
— Итак, относительно подражателей мы с тобой согласны. Скажи мне насчет живописца вот еще что:
598 как, по-твоему, пытается ли он воспроизвести все то, что содержится в природе, или же он подражает творениям мастеров?
— Творениям мастеров.
— Таким ли, каковы эти творения на самом деле
цли какими они кажутся? Это ведь ты тоже должен разграничить.
— А как ты это понимаешь?
— Вот как: ложе, если смотреть на него сбоку, или прямо, или еще с какой-нибудь стороны, отличается ли от самого себя? Или же здесь нет никакого отличия, а оно лишь кажется иным, и то же самое происходит и с другими вещами?
— Да, то же самое. Оно только кажется иным, а отличия здесь нет никакого.
— Вот это ты и рассмотри. Какую задачу ставит ь перед собой каждый раз живопись? Стремится ли она воспроизвести действительное бытие или только кажимость? Иначе говоря, живопись — это воспроизведение призраков или действительности?
— Призраков.
— Значит, подражательное искусство далеко от действительности. Поэтому-то, сдается мне, оно и может воспроизводить все что угодно, ведь оно только чуть- чуть касается любой вещи, да и тогда выходит лишь призрачное ее отображение. Например, художник нарисует нам сапожника, плотника, других мастеров, но сам-то он ничего не понимает в этих ремеслах. Однако с если он хороший художник, то, нарисовав плотника и издали показав это детям или людям не очень умным, он может ввести их в заблуждение и они примут это за настоящего плотника.
— Конечно.
— Но я считаю, мой друг, что такого взгляда надо придерживаться относительно всех подобных вещей. Если кто-нибудь станет нам рассказывать, что ему встретился человек, умеющий делать решительно все лучше любого другого и сведущий во всем, что бы кто d в отдельности ни знал, надо возразить такому рассказчику, что сам-то он, видно, простоват, раз дал себя провести какому-то шарлатану и подражателю, которого при встрече принял за великого мудреца, так как не смог отличить знание от невежества и подражания.
— Совершенно верно.
 — Итак, после этого надо рассмотреть трагедию и ее зачинателя — Гомера, потому что мы слышали от
— Итак, после этого надо рассмотреть трагедию и ее зачинателя — Гомера, потому что мы слышали от
некоторых людей, будто трагическим поэтам знакомы е все искусства, все человеческие дела — добродетельные и подлые, а вдобавок еще и дела божественные. Ведь
хорошему поэту, чтобы его творчество было прекрасно, необходимо знать то, чего он касается, иначе он не сможет творить. Следует рассмотреть, обманывались ли люди, встречая этих подражателей, замечали ли они, глядя 599 на их творения, что такие вещи втрое отстоят от подлинного бытия и легко выполнимы для того, кто не знает истины, ведь тут творят призраки, а не подлинно сущее. Или, может быть, люди правы, и хорошие поэты в самом деле знают то, о чем, по мнению большинства, они так хорошо говорят.
— Да, это стоит исследовать, и даже очень.
— А если бы кто-нибудь был в состоянии творить и то и другое — и подлинник, и его подобие,— думаешь ли ты, что такой человек старательно стал бы делать
ь одни подобия и считал бы это лучшим и самым главным в своей жизни?
— Не думаю.
— Если бы он поистине был сведущ в том, чему подражает, тогда, думаю я, все его усилия были бы направлены на созидание, а не на подражание. Он постарался бы оставить по себе в качестве памятника много прекрасных произведений и скорее предпочел бы, чтобы ему воспевали хвалу, чем самому прославлять других.
— Я думаю! Ведь это принесло бы ему больше и чести, и пользы.
— Обо всем прочем мы не потребуем отчета у Го- с мера или у кого-либо еще из поэтов; мы не спросим их,
были ли они врачами или только подражателями языку врачей. И существует ли на свете предание, чтобы хоть один из поэтов — древних или же новых — вернул кому-то здоровье, как это делал Асклепий, или чтобы поэт оставил по себе учеников по части врачевания, какими были потомки Асклепия? 3 Не станем мы их спрашивать и о разных других искусствах — оставим это в покое. Но когда Гомер пытается говорить о самом великом и прекрасном — о войнах, о руководстве военными действиями, об управлении государствами, о вос- d питании людей, — тогда мы вправе полюбопытствовать и задать ему такой вопрос: «Дорогой Гомер, если ты в смысле совершенства стоишь не на третьем месте от подлинного, если ты творишь не только подобие, что было бы, по нашему определению, лишь подражанием, то, занимая второе место, ты был бы в состоянии знать, какие занятия делают людей лучше или хуже в частном
ли или в общественном обиходе: вот ты и скажи нам, какое из государств получило благодаря тебе лучшее устройство, подобно тому как ото было с Лакедемоном благодаря Ликургу и со многими крупными и малыми в государствами благодаря многим другим законодателям? Какое государство признаёт тебя своим благим законодателем, которому оно всем обязано? Италия и Сицилия считают таким Харонда, мы — Солона4, а тебя кто?» Сумеет Гомер назвать какое-либо государство?
— Не думаю, — отвечал Главной, — об этом не говорят даже гомериды 5.
— Ну а упоминается ли хоть какая-нибудь война боо во времена Гомера, удачная потому, что он был военачальником или советчиком?
— Нет.
— А рассказывают ли о каких-либо замысловатых изобретениях — в искусствах или других родах деятельности,— где Гомер выказал бы себя искусным на деле, как люди передают о милетце Фалесе и о скифе Ана- харсисе? 6
— Нет, не рассказывают.
— Но если не в государственных делах, то, быть может, говорят, что сам Гомер при жизни руководил чьим-либо воспитанием и эти люди ценили общение
с ним и передали потомкам некий гомеровский путь ь жизни, подобно тому как за это особенно ценили Пифагора, а его последователи даже и до сих пор называют свой образ жизни пифагорейским и явно выделяются ереди остальных людей? 7
— Ничего такого о Гомере не рассказывают, Сократ.
Ведь Креофил, который был, возможно, близким человеком Гомеру, по своей невоспитанности покажется еще смешнее своего имени 8, если правда то, что рассказывают о Гомере: ведь говорят, что Гомером совершенно пренебрегали при его жизни. с
— Да, так рассказывают,— сказал я.— Но подумай, Главкон, если бы Гомер действительно был в состоянии воспитывать людей и делать их лучшими, руководствуясь в этом деле знанием, а не подражанием, неужели он не приобрел бы множества приверженцев, не почитался бы и не ценился бы ими? Абдерит Протагор, Продик-кеосец и очень многие другие в частном общении могут внушить окружающим, будто те не сумеют справиться ни со своими домашними делами, ни с госу- d
— Так не установим ли мы, что все поэты, начиная с Гомера, воспроизводят лишь призраки добродетели и всего остального, что служит предметом их творчества, но истины не касаются? Это как в только что приведенном нами примере: живописец нарисует сапожника, который покажется настоящим сапожником, а между тем этот живописец ничего не смыслит в сапожном деле, да и зрители его картины тоже — они судят лишь по краскам и очертаниям.
— 



 |
 Конечно.
Конечно.
— То же самое, думаю я, мы скажем и о поэте: с помощью слов и различных выражений он передает оттенки тех или иных искусств и ремесел, хотя ничего в них не смыслит, а умеет лишь подражать, так что другим людям, таким же несведущим, кажется под впечатлением его слов, что это очень хорошо сказано,— говорит ли поэт в размеренных, складных стихах о сапожном деле, или о военных походах, или о чем бы то ни было другом,— так велико какое-то природное очарование всего этого. Но если лишить творения поэтов всех красок мусического искусства, тогда, думаю я, ты знаешь, как они будут выглядеть сами по себе, в таком обнаженном виде; вероятно, ты это наблюдал.
— Да.
— Разве они не похожи на лица хоть и молодые, но некрасивые, так как видно, что они уже отцвели?
— Очень похожи.
— Ну так обрати внимание вот на что: тот, кто творит призраки, подражатель, как мы утверждаем, нисколько не разбирается в подлинном бытии, но знает одну только кажимость. Разве не так?
— Да, так.
— Пусть сказанное не остается у нас сказанным лишь наполовину: давай рассмотрим это с достаточной полнотой.
— Я тебя слушаю.
— Мы говорим, что живописец может нарисовать поводья и уздечку...
— Да.
— А изготовят их шорник и кузнец.
— Конечно.
— Разве живописец знает, какими должны быть поводья и уздечка? Это знают даже не те, кто их изготовил, то есть кузнец и шорник, а лишь тот, кто умеет ими пользоваться, то есть наездник.
— Совершенно верно.
— Не так ли бывает, скажем мы, и со всеми вещами?
— А именно?
— Применительно к каждой вещи умение может а быть трояким: умение ею пользоваться, умение ее изготовить и умение ее изобразить.
— Да.
— А качество, красота и правильность любой утвари, живого существа или действия соотносятся не с чем иным, как с тем применением, ради которого что-либо сделано или возникло от природы.
— Это так.
— Значит, пользующийся какой-либо вещью, безусловно, будет обладать наибольшим опытом и может указать тому, кто делает эту вещь, на достоинства и недостатки его работы, испытанные в деле. Например, флейтист сообщает мастеру флейт, какие именно флейты удобнее для игры на них, указывает, какие флейты е надо делать, и тот следует его совету.
—* Конечно.
— Кто сведущ, тот отмечает достоинства и недостатки флейт, а кто ему верит, тот так и будет их делать.
— Да.
—* Значит, относительно достоинства и недостатков одного и того же предмета создатель его приобретет правильное представление (nioTiv), общаясь с человеком сведущим и волей-неволей выслушивая его указа- воз ния; но знанием будет обладать лишь тот, кто этим предметом пользуется.
— Несомненно.
— А подражатель? На опыте ли приобретет он зна-
ние о предметах, которые он рисует: хороши ли они и правильны ли, или у него составится верное мнение о них благодаря необходимости общаться с человеком сведущим и выполнять его указания насчет того, как надо рисовать?
— У подражателя не будет ни того ни другого.
— Стало быть, относительно достоинств и недостатков тех предметов, которые он изображает, у подражателя не будет ни знания, ни правильного мнения.
— По-видимому, нет.
— Прелестным же и искусным творцом будет такой подражатель!
— Ну, не слишком-то это прелестно!
ь — Но он все-таки будет изображать предметы, хотя ни об одном из них не будет знать, в каком отношении он хорош или плох. Естественно, он изображает то, что кажется прекрасным невежественному большинству.
— Что же иное ему и изображать?
— На этот счет мы с тобой пришли, очевидно, к полному согласию: о том предмете, который он изображает, подражатель не знает ничего стоящего; его творчество — просто забава, а не серьезное занятие. А кто причастен к трагической поэзии — будь то ябмические или эпические стихи, — все они подражатели по преимуществу.
— Несомненно.
с — Но, ради Зевса, такое подражание не относится ли к чему-то, стоящему на третьем месте после подлинного? 10 Или ты мыслишь это иначе?
— Нет, именно так.
— А воздействие, которым обладает подражание, направлено на какую из сторон человека?
— О каком воздействии ты говоришь?
— Вот о каком: одна и та же величина вблизи или издалека кажется неодинаковой — из-за нашего зрения.
— Да.
— То же самое и с изломанностью и прямизной предметов, смотря по тому, разглядывать ли их в воде или нет, и с их вогнутостью и выпуклостью, обусловленной обманом зрения из-за их окраски; ясно, что вся
d эта сбивчивость присуща нашей душе и на такое состояние нашей природы как раз и опирается живопись со всеми ее чарами п, да и фокусы и множество разных подобных уловок.
— Правда.
— Зато измерение, счет и взвешивание оказались здесь самыми услужливыми помощниками, так что в нас берет верх не то, что кажется большим, меньшим, многочисленным или тяжелым, а то, что в нас считает,
 измеряет и взвешивает.
измеряет и взвешивает.
— Конечно.
—  А ведь все эта — дело разумного начала нашей
А ведь все эта — дело разумного начала нашей
души.
— Да, это его дело.
— Посредством частых измерений это начало обнаружило, что некоторые предметы больше, другие меньше, третьи равны друг другу — в полную противоположность тому, какими они в то же самое время кажутся нам на вид.
— Да.
— А мы утверждали, что в одном и том же начале не может быть одновременно противоположных суждений об одном и том же предмете,— сказал я.
— И правильно утверждали,— согласился Главкон.
— Следовательно, то начало нашей души, которое боз судит вопреки [подлинным] размерам [предметов], не тождественно с тем ее началом, которое судит согласно этим размерам.
— Да, не тождественно.
— Между тем то, что в нас доверяет измерению и рассуждению, было бы наилучшим началом души.
— Конечно.
— А то, что всему этому противится, было бы одним из наших скверных начал.
— Это неизбежно.
— Как раз к этому выводу я и клонил, утверждая, что живопись — и вообще подражательное искусство — творит произведения, далекие от действительности, и имеет дело с началом нашей души, далеким от разумности; поэтому такое искусство и не может быть ь сподвижником и другом всего того, что здраво и истинно.
— Это поистине так.
— Стало быть, подражательное искусство, будучи и само по себе низменным, сочетаясь с низменным
низменное и порождает.
— Естественно.
— Касается ли это только подражания зрительного
или также и воспринимаемого на слух — того, которое мы называем поэзией?
— Видимо, и этого тоже.
— Не будем доверять видимости только на основании живописи, но разберемся в том духовном начале
с человека, с которым имеет дело подражательное искусство поэзии, и посмотрим, легкомысленное ли это начало или серьезное.
— Да, в этом надо разобраться.
— Мы вот как поставим вопрос. Под-
Подражательная ражательная поэзия изображает лю- поэзия нарушает l „ г ^
душевную гармонию Деи действующими вынужденно либо
добровольно, причем свои действия люди считают удачными или неудачными, и во всех этих обстоятельствах они либо скорбят, либо радуются. Или она изображает еще что-нибудь, кроме этого?
— Нет, больше ничего.
— А разве во всех этих обстоятельствах человек d остается невозмутимым? Или как в отношении зрительно воспринимаемых предметов, когда у него получалась распря с самим собой и об одном и том же одновременно возникали противоположные мнения, так и в действиях у человека бывает такая же распря и внутренняя борьба? Впрочем, припоминаю, что теперь у нас вовсе нет надобности это доказывать: в предшествовавших рассуждениях все это было нами достаточно доказано, а именно что душа наша кишит тысячами таких одновременно возникающих противоречий.
— Это верно.
— Да, верно, но, по-моему, необходимо теперь разо- с брать то, что мы тогда пропустили.
— А что именно?
— Мы где-то там говорили, что настоящий человек легче, чем остальные, переносит какое-нибудь постигшее его несчастье — потерю сына или утрату чего-либо, чем он особенно дорожит.
— Конечно.
— А теперь мы рассмотрим вот что: разве такой человек вовсе не будет горевать (ведь это немыслимо!) или же он будет как-то умереннее в своей скорби?
— Вернее последнее.
604 — Скажи мне о нем еще вот что: бороться со своей
скорбью и сопротивляться ей он будет, по-твоему, больше тогда, когда он на виду у людей, подобных ему,
или когда он окажется в одиночестве, наедине с самим собой?
— На виду он будет гораздо сдержаннее.
— В одиночестве, думаю я, он не вытерпит, чтобы не разрыдаться, а если бы кто это слышал, он устыдился бы. Да и много другого он сделает, чего не хотел бы видеть в других.
— Так и бывает.
— И не правда ли, то, что побуждает его противиться горю,— это разум и обычай, а то, что влечет ь к скорби, — это само страдание?
— Правда.
— Раз по одному и тому же поводу у человека одновременно возникают противоположные стремления, необходимо сказать, что в человеке есть два каких-то различных начала.
— Конечно.
— Одно из них послушно следует руководству обычая.
— Каким образом?
— Так, обычай говорит, что в несчастьях самое лучшее — по возможности сохранять спокойствие и не возмущаться, ведь еще не ясна хорошая и плохая их сторона, и, сколько ни горюй, это тебя ничуть не продвинет вперед, да и ничто из человеческих дел не заслу- с живает особо серьезного к себе отношения, а скорбь будет очень мешать тому, что важнее всего при подобных обстоятельствах.
— Чему именно она будет мешать, по-твоему?
— Тому, чтобы разобраться в случившемся и, раз уж это, словно при игре в кости, выпало нам на долю, распорядиться соответственно своими делами, разумно выбрав наилучшую возможность, и не уподобляться детям, которые, когда ушибутся, держатся за ушибленное место и только и делают что ревут. Нет, мы должны приучать душу как можно скорее обращаться к врачева- а нию и возмещать потерянное и больное, заглушая лечением скорбный плач.
— Да, всего правильнее было бы так относиться к несчастьям.
— Лучшее же начало нашей души охотно будет следовать этим разумным соображениям.
— Это ясно.
— А то начало, что ведет нас к памяти о страдании, к сетованиям и никогда этим не утоляется, мы будем
считать неразумным, бездеятельным, под стать трусости.
— Да, будем считать его именно таким.
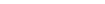 — Негодующее начало души зачастую может быть воспроизведено различным образом, а вот рассудительный и спокойный нрав человека, который никогда не выходит иа себя,
— Негодующее начало души зачастую может быть воспроизведено различным образом, а вот рассудительный и спокойный нрав человека, который никогда не выходит иа себя,
нелегко воспроизвести, и, если уж он воспроизведен, людям бывает трудно его заметить и понять, особенно на всенародных празднествах или в театрах, где собираются самые разные люди, ведь для них это было бы воспроизведением чуждого им состояния.
605 — Да, безусловно, чуждого.
— Ясно, что подражательный поэт по своей природе не имеет отношения к разумному началу души и не для его удовлетворения укрепляет свое искусство, когда хочет достичь успеха у толпы. Он обращается к негодующему и переменчивому нраву, который хорошо поддается воспроизведению.
— Да, это ясно.
— Значит, мы были бы вправе взять такого поэта да и поместить его в один ряд с живописцем, на которого он похож, так как творит негодное с точки зрения
ь истины: он имеет дело с тем же началом души, что и живописец, то есть далеко не с самым лучшим, и этим живописцу уподобляется. Таким образом, мы по праву не приняли бы его в будущее благоустроенное государство, раз он пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумнее начало: это все равно что предать государство во власть людей негодных, а кто поприличнее, тех истребить. То же самое, скажем мы, делает и подражательный поэт: он внедряет в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй, потакая неразумному началу души, которое с не различает, что больше, а что меньше, и одно и то же считает иногда великим, а иногда малым, создавая поэтому образы, далеко отстоящие от действительности.
 Подражательная Безусловно.
Подражательная Безусловно.
поэзия портит
нравы и подлежит
изгнанию
из государства
— Раз она и это творит, дальше идти уже некуда!
— Выслушай и суди сам: мы — даже и лучшие из нас, — слушая, как Гомер или кто иной из творцов трагедий изображает Korq-либо из героев охваченным d скорбью и произносящим длиннейшую речь, полную сетований, а других заставляет петь и в отчаянии бить себя в грудь, испытываем, как тебе известно, удовольствие и, поддаваясь этому впечатлению, следим за переживаниями героя, страдая с ним вместе и принимая все это всерьез. Мы хвалим и считаем хорошим того поэта, который настроит нас по возможности именно так.
— Это я знаю. Как же иначе?
— А когда с кем-нибудь из нас приключится собственное горе, заметил ли ты, что мы горды обратным — способностью сохранять спокойствие и не терять самообладание? В этом ведь достоинство мужчины, а то, что е мы хвалили тогда,— это свойство женщин,
— Да, я это замечал.
— Так хорошо ли, что мы восторгаемся, когда видим человека таким, каким не хотелось бы быть нам самим и каким быть считалось бы даже постыдным, и хорошо ли, что зрелище это не вызывает отвращения, а доставляет удовольствие и восхваляется?
— Нехорошо, клянусь Зевсом! Это похоже на недоразумение.
— Да, если ты взглянешь вот с какой стороны... 606
— G какой?
— Если ты сообразишь, что в этом случае испытывает удовольствие и удовлетворяется поэтами то начало нашей души, которое при собственных наших несчастьях мы изо всех сил сдерживаем, а ведь оно жаждет выплакаться, вволю погоревать и тем насытиться — таковы уж его природные стремления. Лучшая по своей природе сторона нашей души, еще недостаточно наученная разумом и привычкой, ослабляет тогда свой надзор за этим плачущимся началом и при зрелище чужих ь страстей считает, что ее нисколько не позорит, когда другой человек хотя и притязает на добродетель, однако неподобающим образом выражает свое горе: она его хвалит и жалеет, даже думает, будто такого рода удовольствие обогащает ее и она не хотела бы его лишиться, выказав презрение ко всему произведению в целом.
Я думаю, мало кто отдает себе отчет в том, что чужие переживания неизбежно для нас заразительны: если
к ним разовьется сильная жалость, нелегко удержаться от нее и при собственных своих страданиях.
с — Сущая правда.
— То же самое не касается разве смешного? В то время как самому себе стыдно смешить людей, на представлении комедий или дома, в узком кругу, ты с большим удовольствием слушаешь смешные вещи и не отвергаешь их как нечто дурное; иначе говоря, ты поступаешь точно так же, как в случае, когда ты разжалобился. Разумом ты подавляешь в себе склонность к забавным выходкам, боясь прослыть шутом, но в этих случаях ты даешь ей волю, у тебя появляется задор, и часто ты незаметно для самого себя в домашних условиях становишься творцом комедий.
— Да, несомненно, это бывает.
а — Будь то любовные утехи, гнев или всевозможные другие влечения нашей души — ее печали и наслаждения, которыми, как мы говорим, сопровождается любое наше действие, — все это возбуждается в нас поэтическим воображением. Оно питает все это, орошает то, чему надлежало бы засохнуть, и устанавливает его власть над нами; а между тем следовало бы держать эти чувства в повиновении, чтобы мы стали лучше и счастливее, вместо того чтобы быть хуже и несчастнее.
— Я не могу против этого возразить.
е — Так вот, Главной, когда ты встретишь людей, прославляющих Гомера и утверждающих, что поэт этот воспитал Элладу и ради руководства человеческими делами и просвещения его стоит внимательно изучать, чтобы согласно ему построить вс|0 свою жизнь, тебе надо отнестись к ним дружелюбно и приветливо, потому что, 607 насколько можно судить, они в меру своих сил желают добра. Уступи им, что Гомер самый творческий и первый из творцов трагедий, но не забывай, что в наше государство поэзия принимается лишь постольку, поскольку это гимны богам и хвала добродетельным людям. Если же ты допустишь подслащенную Музу, будь то мелическую или эпическую, тогда в этом государстве воцарятся у тебя удовольствие и страдание вместо обычая и разумения, которое, по общему мнению, всегда признавалось наилучшим.
— Сущая правда.
ь — Это напоминание пусть послужит нам оправданием перед поэзией за то, что мы выслали ее из нашего государства, поскольку она такова. Ведь нас побудило
к этому разумное основание. А чтобы она не винила нас в жестокости и неотесанности, мы добавим еще, что искони наблюдался какой-то разлад между философией и поэзией 12. Многочисленные поговорки, такие, как, например, «это та собака, что лает 13 и рычит на хозяина», или «он велик в пустословии безумцев», или «толпа мудрецов одолеет [и Зевса]», или «они вдаются в мелочи, значит, они нищие», и тысячи других свидетельствуют об их стародавней распре. Тем не менее надо сказать, что, если подражательная поэзия, направленная лишь на то, чтобы доставлять удовольствие, сможет привести хоть какой-нибудь довод в пользу того, что она уместна в благоустроенном государстве, мы с радостью примем ее. Мы сознаем, что и сами бываем очарованы ею, но предать то, что признаешь истинным, нечестиво. Не очаровываешься ли ею и ты, мой друг, особенно когда рассматриваешь ее на примере Гомера?
— И даже очень.
— Таким образом, если она оправдается, будь то в мелических размерах или в каких-то других, она получит право вернуться из изгнания.
— Несомненно.
— И тем ее приверженцам, кто сам не поэт, но любит поэтов, мы дали бы возможность защитить ее даже в прозе и благосклонно выслушали бы, что она не только приятна, но и полезна для государственного устройства и человеческой жизни. Ведь мы обогатились бы, если бы она оказалась не только приятной, но и полезной.
— Конечно, обогатились бы!
 — Если же не удастся ее защитить, тогда, дорогой мой друг, нам остается поступить так, как поступают, когда сначала в кого-то влюбились, но потом рассудили, что любовь бесполезна, и потому хоть и через силу, но все-
— Если же не удастся ее защитить, тогда, дорогой мой друг, нам остается поступить так, как поступают, когда сначала в кого-то влюбились, но потом рассудили, что любовь бесполезна, и потому хоть и через силу, но все-
таки от нее воздерживаются. Вот и мы: из-за воспитания, полученного нами в нынешних прекрасно устроенных государствах, в нас развилась любовь к подобного рода поэзии, и мы желаем ей добра, то есть чтобы она оказалась и превосходной, и вполне правдивой. Но до тех пор, пока она не оправдается, мы, когда придется ее слушать, будем повторять для самих себя как целительное заклинание то самое рассуждение, к которому мы пришли, и остережемся поддаваться опять этой ребячливой любви, свойственной большинству. Нельзя считать
всерьез, будто такая поэзия серьезна и касается истины, ь Слушающему ее надо остерегаться, опасаясь за свой внутренний порядок, и придерживаться того, что нами было сказано о поэзии.
— Я полностью с тобой согласен.
— Ведь спор идет, дорогой мой Главкон, о великом деле, гораздо более великом, чем это кажется,— о том, быть ли человеку хорошим или плохим. Так что ни почет, ни деньги, ни любая власть, ни даже поэзия не стоят того, чтобы ради них пренебрегать справедливостью и прочими добродетелями.
— Я поддерживаю тебя на основании того, что мы разобрали. Думаю, что и всякий другой тебя поддержит, кто бы он ни был.
с — Однако, — сказал я,— мы еще не разбирали величайшего воздаяния за добродетель и назначенных за нее наград.
— Если есть другие награды кроме упомянутых, то, очевидно, ты говоришь о чем-то великом.
— Что великое может случиться за короткое время? Ведь в сравнении с вечностью промежуток от нашего детства до старости очень краток 14.
— И даже ничтожен.
— Так что же? Ты думаешь, бессмертному существу а нужно заботиться лишь об этом небольшом промежутке,
а не о вечности?
— Я-то, конечно, думаю, что о вечности. Но к чему ты это говоришь?
Вечность — Разве ты не сознавал, что душа
(бессмертие) наша бессмертна и никогда не погиб- души нет?
Главкон взглянул на меня с удивлением и сказал:
— Клянусь Зевсом, нет. А ты можешь это сказать?
— Да, если не ошибаюсь. Но я думаю, и ты это можешь — ничего трудного здесь нет.
— Для меня это трудно. Но я с удовольствием услышал бы от тебя об этой нетрудной вещи.
— Что ж, слушай.
— Говори, говори!
— Называешь ли ты что-нибудь благом и злом?
— Я — да.
е — А думаешь ли ты об этом то же, что и я?
— А именно?
— Все губительное и разрушительное — это зло, а спасительное и полезное — благо.
— Да.
— Что же? Считаешь ли ты, что благо и зло существуют для каждой вещи? Например, для глаз — воспа- соэ ление, для всего тела — болезнь, для хлебов — спорынья, для древесины — гниение, для меди и железа — ржавчина, словом, чуть ли не для каждой вещи есть именно ей свойственное зло и болезнь?
— Да.
— Когда что-нибудь такое появится в какой-либо вещи, оно делает негодным то, к чему оно пристало, и в конце концов разрушает и губит всю вещь целиком.
— Конечно.
— Значит, каждую вещь губят свойственные ей зло
и негодность, но если это ее не губит, то уж ничто дру- ь гое ее не разрушит. Благо, конечно, никогда ничего не погубит, не может быть губительным и то, что не будет ни злом, ни благом.
— Конечно.
— Значит, если среди существующего мы найдем нечто имеющее свое зло, которое его портит, но не в состоянии его совсем уничтожить, мы будем знать, что это нечто по своей природе неуничтожимо.
— Видимо, так.
— Что же? У души разве нет чего-то такого, что ее портит?
— Разумеется, есть: это все то, что мы недавно раз- с бирали,— несправедливость, невоздержность, трусость, невежество.
— А может ли хо^ что-нибудь из всего этого ее погубить и уничтожить? По
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|