
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Еще раз о местепризнакам замечаю, что мы всего 595 поэзии 47 страница
36 Для Платона несомненна истинность вечного бытия и его познания, что противопоставляется текучему и смутному рождению, принятому на веру.— 433.
37 Ср.: Государство VII 531d. — 433.
38 Здесь чувствуется принципиальное отличие доброго (благого) демиурга у Платона от богов архаической мифологии и примитивной веры. Эти боги апеллируют к силе, страху и ужасу, будучи и сами ужасными, страшными. Таковы не только все чудовища теогониче- ского процесса, как, например, сторукие киклопы, титаны, Тифон, потомство Тифона и Ехидны (Гесиод. Теогония 139—156, 233—239, 270—336, 820—835) и т. д., по и обобщенно-символические образы Силы, Ужаса, Страха, Раздора, Обмана, Мести, свидетельствующие о постепенной трансформации мифологического восприятия ужасов жизни древнего человека в абстрактные понятия.— 433.
39 Ср. учение Анаксагора об упорядочивающем все Уме. См.: т. 1, Горгий, прим. 18.— 434.
40 Учение о мире чувственном и мире мыслимом находим уже у досократиков, которые признавали истинно сущее, умопостигаемое, и мнимо существующее, чувственное (28 В 1 Diels). См.: т. 2, Парменид, прим. 11 и 27. Анаксагор тоже предполагал «некоторое двойное устроение мира, одно — умственное, другое — чувственно воспринимаемое, отдельное от первого» (В 14 Diels).— 434.
41 Единство мира, несмотря на его видимое разнообразие, о котором говорит Тимей, издавна нашло свое выражение в учении элеатов оЕдином: у Парменида («умопостигаемое, единое бытие и множество вещей», 28 А 24 Diels), у Мелисса («существует только единое», В 8 Diels) и у Зенона («сущее не может быть множественным, вследствие того что в сущем вовсе нет единицы, множество же есть совокупность единиц» (А21 Diels). См. также: т. 2, Теэтет, прим. 48; Софист, прим. 24.- 435.
42 Огонь и земля (согласно Платону, «основные роды») — «элементы», «начала», типичные для учений античных натурфилософов. Отметим, что, по Платону, сущностью огня является не столько его физическая природа, сколько его зрительная предметность, так же как для земли характерна осязаемая предметность. О разных соотношениях «начал» бытия см.: т. 2, Софист, прим. 23. См. также: Лосев А. Ф. Эстетический смысл греческих натурфилософских понятий периода ранней классики. Киев, 1966 (Тезисы доклада на III Всесоюзной конференции по классической филологии). Четыре «элемента» в раннеклассической натурфилософии также рассмотрены у А. Ф. Лосева (Лексика древнегреческого учения об элементах // Вопросы филологии. М., 1969).— 435.
43 Взаимоотношения элементов, которые устанавливаются здесь Платоном, являются не чем иным, как геометрическими пропорциями. Платоновское учение о пропорциях всегда имеет телесно-материальную основу (в данном случае — тело космоса), т. е. базируется на отождествлении геометрического и физического тела. Для геометрической пропорции между плоскими фигурами («без глубины») достаточно одинаковых средних членов, а трехмерные тела нуждаются в двух разных средних членах. О геометрическом строении космоса см. в кн.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 615— 620.— 435.
44 Сферическое тело, согласно античным мыслителям, всегда наиболее совершенно. Поэтому у Ксенофана божество шарообразно, а Демокрит считает, что «бог есть ум в шарообразном огне»; шарообразны 8емля у Анаксимандра и космос пифагорейцев; частицы Левкиппа, более плотные по своему составу, образуют «некоторое шарообразное соединение» или «систему» (А 1, 74; В la Diels).— 436.
46 Платоновский самодовлеющий (at>TaQXT]s) космос в виде живого организма (32d — 34а) близок по своей структуре и замыслу пифагорейскому космосу, тоже состоящему из соотношения четырех элементов — огня, воды, земли и воздуха. Этот космос — одушевленный (Ipi|>vxov), умный (vot]t6v), сферический (a<paiQoei6fjg) (58 В 1а Diels), а значит, и совершенный. «Самодовление» как термин у досократиков в философском смысле встречается лишь однажды — у Демокрита, который называет самодовлеющей природу (68 В 176 Diels). Зато послеплатоновская эллинистическая философия киников и стоиков широко использует это понятие в своем учении о независимости человека от внешних благ, которые надо искать в себе самом. — 436.
46 Здесь упоминается только один, главный вид движения, свойственный самодовлеющему, ни в чем не нуждающемуся живому организму, в то время как созданные впоследствии одушевленные существа, находящиеся в зависимости от окружающего мира, имеют все шесть родов движения. Ниже в «Тимее» (43Ь) упоминаются движения вперед, назад, направо, налево, вверх и вниз, связанные с развитием деятельности органов чувств живых существ. Цифра «семь» в данном случае, возможно, имеет некий символический смысл, что не помешало Аристотелю в «Метафизике» посмеяться над этой страстью к мистике числа «семь» (XIV 6, 1093а 13—15), заметив при этом, что числа не могут быть причиной вещей и что важно не само число, а соотношение чисел. Что же касается единообразного вращения космоса в одном и том же месте, то это не что иное, как круговое движение вечного бытия в самом себе, движение, не знающее пространственных перемен и не зависящее от перемены места, космос не стареет и не становится, но он есть, т. е. он неподвижно покоится в вечности (ср.: Аристотель. Метафизика XII 7, 1072Ь 3-10).- 437.
41 Душа космоса находится в его центре. Ср.: т. 1, Кратил, прим. 41.- 437.
48 Душа космоса мыслится старше тела. — 437.
49 Душа создается из смешения вечной сущности и той, что подвержена времени, т. е. той, которая потом воплотится в бесконечности рожденных тел. Они объединяются третьей, связующей их сущностью, а также имеют еще и причину смешения, которой в данном случае является демиург. Вся эта структура души космоса находит себе аналогию в рассуждениях Платона в диалоге «Филеб», где идет речь о смешении предела и беспредельного в некую смесь с помощью особой причины смешения. — 437.
60 Разделение целого тела, космоса можно понять, только учитываясвязь Платона с пифагорейской традицией символики чисел. Платон берет здесь две последовательности чисел: 1,3, 9, 27 и 2, 4, 8, имеющих чисто телесный смысл, считая, что 1 есть абсолютная неделимая единичность, 3 — сторона квадрата, 9 — площадь квадрата, 27 — объем куба с ребром, равным 3. Таким образом, данная последовательность чисел выражает категории определенности, т. е. тождество физического и геометрического тел. Но так как космос не есть только определенное бытие, он вфючает в себя становление иного, неопределенного, текучего, которое тоже выражается через ряд чисел: 2, 4, 8 и помещается в общем ряду, чередуясь с числами, выражающими определенность. Таким образом, единое целое космоса составляет ряд: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27, где совмещается единораздельпость единого (одного) и иного, тождества и различия, прерывного и непрерывного, создающая трехмерное тело космоса. С точки зрения Платона, это и есть структура всех сфер, составляющих космос: если считать Землю находящейся в центре, то 1 — это самая близкая к Земле сфера Луны, 2 — сфера Солнца, 3 — Венеры, 4 — Меркурия, 8 — Марса, 9 — Юпитера, 27 — Сатурна (см. рис. 5; здесь кроме Луны и Солнца подразуме
|
|
ваются те 5 планет, которые были известны в античности). См. также ниже, 38cd. Между числами данного космического семичлена существуют некие пропорциональные отношения, которые можно выразить, заполнив промежутки между указанными числами. Это можно сделать, только учитывая наличие трех типов пропорции (по нашей терминологии, прогрессии) — арифметической (1, 11 /г* 2), геометрической (1, 2, 4) и гармонической (1, 1/з» 2). Эти пропорции (прогрессии) соответствуют пифагорейскому учению о количественных отношениях музыкальных тонов; таким образом, космос Платона весь строится по принципу музыкальной гармонии (подробно об этом см. в кн.: Лосев А. Ф, История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 607—615). Кроме того, надо сказать, что вся космическая пропорциональность покоится на принципе золотого деления, или гармонической пропорции, когда целое так относится к большей части, как большая часть относится к меньшей. О разделении косми-
 | |||
 | |||
ческого семичлена см. в кн.: Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. С. 202 (таблица).— 438.
51 Действия демиурга можно представить себе следующим образом. Всю образовавшуюся массу он делит и складывает так, что получает плоскости экватора и солнечной эклиптики, которые пересекаются под наклонным углом (согласно современному представлению, 23°27,42/') в точках равноденствия, вращаясь вокруг мировой оси, причем внешняя плоскость экваториальная, а внутренняя эклиптическая. Обе же они в свою очередь объяты небесным сводом, по кругу которого происходят их движения. Внешняя плоскость обнимает внутреннюю, управляет ею и идет в правом направлении, т. е. с востока через запад снова на восток, так как всякое рождение и начало связано по античной традиции с правой стороной, с востоком, и знаменует собой природу благого, истинного, тождественного. Эклиптика же вращается внутри, справа налево, т. е. с запада через восток снова к западу, и означает природу иного, изменчивого, неразумного. Движение экваториальной плоскости Платон называет движением вдоль стороны прямоугольника, а движение плоскости эклиптики — движением вдоль диагонали того же прямоугольника. Собственно говоря, это не что иное, во-первых, как движение экваториальной плоскости вокруг мировой оси по прямому направлению вправо, выраженное при помощи мысленно вписанного в небесный свод прямоугольника, две стороны которого параллельны поперечнику экватора (см. рис. 4). Во-вторых, это движение эклиптики под углом влево, вдоль диагонали мысленного прямоугольника, т. е. вдоль поперечника эклиптики, а значит, движение непрямое, иррациональное. Движение экваториальной плоскости, тождественное себе и пребывающее в самом себе, а значит, по Платону, разумное, имеет перевес, являясь единым и неделимым. Движение эклиптики, изменчивое и постоянно стремящееся к иному, демиург делит на семь неравных кругов, которые, как видно из дальнейшего изложения (38cd), и являются сферами планет.
Вращение планетных сфер неравномерно. Ниже (38d) Платон указывает, что меньшие сферы имеют большую скорость и наоборот. Однако три сферы, а именно Солпца, Венеры («Утренняя звезда») и Меркурия («Гермесова звезда»), имеют одинаковую скорость.
Сатурн» Юпитер, Марс и Луна вращаются с неодинаковой скоростью, хотя и не изменяют порядка своего неравномерного движения, на что указывал позднее Цицерон (О природе богов II 20).— 438.
52 Таким образом, космическая душа (см. 36d — 37с) у Платона мыслится не абстрактно, а в связи с конкретным строением космоса.— 439.
53 Следует отметить, что тезис Платона о слове, находящемся в душе и изрекаемом ею, положив начало глубокому и развитому стоическому учению об «имманентном слове» (Xoyog evdiaOerog) и «слове изреченном» (Хоуод ядофорьхо?), например, у Хрисиппа (fr. 135, 223 SFV II).- 439.
64 Время и вечность у Платона несоизмеримы. Время только некое движущееся подобие вечности (см. 38а), ибо все рожденное (демиург рождает мировую материю, а значит,, и время) не причастно вечности, имея начало, а значит, и конец, т. е. оно было и будет, в то время как вечность только есть.— 440.
55 Демиург рождает Солнце, Луну и пять других светил. Мы находим здесь у Платопа геоцентрическую систему космоса. Однако Коперником была установлена известная нам гелиоцентрическая система. Кроме того, Платону, как и всей античпости, неизвестны были Урап (открыт в 1781 г.), Нептун (в 1846 г.) и Плутон (в 1930 г.).
О названиях планет Платон подробно говорит в «Послезаконии» (987b — d), где перечисляет Утреннюю звезду, носящую имя Афродиты (Венера), звезду Гермеса (Меркурий), звезду Зевса (Юпитер), звезду Кроноса (Сатурн), звезду Ареса (Марс) с красноватым оттенком. Имена богов впоследствии стали означать самое плапеты. Однако в греческой традиции были также названия планет, соответствующие их внешнему виду и указывающие на интенсивность излучаемого ими света: Сатурн назывался «Светящийся», Юпитер — «Сияющий», Марс — «Огненный», Венера — «Несущая свет» или «Вечерняя», Меркурий — «Блестящий».— 441.
56 Относительно движения иного, пересекающего движение тождественного, см. прим. 51 и рис. 4. Именно эти два типа движения создают движение планет вокруг своей оси («тождественное») и вокруг земли («иное») в противоположных направлениях, что и придает этому движению в целом спиралевидную форму. Сферы и масса планет обратно пропорциональны их скорости, поэтому Сатурн движется медленнее, а Луна быстрее остальных планет и движение Луны обгоняет также прохождение Солнца по эклиптике, хотя по внешним наблюдениям она отстает от Солнца, так как в один и тот же промежуток времени совершает движение по эклиптике 12 раз, а Солнце только один. — 441.
57 Здесь демиург зажигает свет Солнца, в то время как, по Эмпедоклу, сияние возникает около земли «вследствие отражения небесного света» (В 44 Diels).— 441.
60 Ср. у Гесиода в «Теогонии» о «черной Ночи», рожденной из Хаоса и родившей вместе с Эребом «сияющий День» (123 сл.). Примечательно, что у Гесиода Ночь порождает День в виде своей противоположности. По Пармениду, все вообще состоит из света и ночи (В 9, 1 Diels).- 441.
59 В ориг. ебёаи— 442.
60 Боги в «Тимее» Платона созданы из огня. В античности существовала традиция, бъедпняющая их с эфиром, т. е. тончайшей огненной материей. Во всяком случае у Гомера и Гесиода боги живут в эфире (Ил. II 412, IV 166, XV 610; Од. XV 523; Труды и дни 18). Для Платона эфир и огонь — разные элементы (Послезаконие 981с), хотя в эфире присутствует «огненность». Из чистого огня Платон создаст высших'богов; до эфира. ^видимые живые существа, а именно божественный род; из воздуха и воды — полубогов, демонов, зримых, и незримых; людей и животных — из земли (там- же, 984Ь — е).— 442.
61 В средневековых космических системах наиболее совершенные звезды — неподвижные; например, в «Божественной комедии» Дапте они составляют так называемое седьмое небо. Правда, в системе Данте было еще «десятое небо» — эмпирей (т. е. «огненное»), которое находится уже вблизи самого бога, источника высшей любви и блага. Со времен пифагорейцев, Аристотеля и Эратосфена неподвижные звезды изображались объемлющими все семь планетных сфер. — 442.
62 Имеются в виду существовавшие в древности наглядные модели Вселенной. Ср.: т. 4, Письма II 312d.— 443.
63 Здесь дается родословная богов и титанов, несколько отличная от традиционной теогонии Гесиода, где Тефия, Океан, Кронос и Рея — все дети Урана и Геи (126—138), а Форкий — сын Понта и его матери Геи (237 сл.).-443.
64 Три смертных рода: обитатели воздуха, воды и суши. — 443.
65 Подражание здесь предполагает более слабую степень эманации божественной сущности.— 444.
66 Т. е. перенестись на подобающие тела; последние сотворены, следовательно, живут во времени, т. е. являются орудиями времени. Образ души, подобной колеснице, известен хорошо из «Федра» (245с — 249d). См. также: т. 1, Горгий, прим. 80 (с. 810). Законы рока, о которых здесь, идет речь, соответствуют установлениям Анан- ки, Адрастеи, Немесиды, Дики (см. там же). Представление о том, что каждая душа имеет свою звезду, в христианском средневековье было широко распространено как представление, что каждая душа имеет своего ангела-хранителя.— 444.
67 Здесь дается обоснование теории перевоплощения душ как своеобразного наказания, состоящего в непрерывном рождении души в мир, что уже само по себе приобщает ее к миру времени, текучести и смерти. В этом перевоплощении лучшей природой мыслится мужская; женская же присуща второму рождению и дается даже как наказание (42а, с). См. также: т. 1, Горгий, прим. 80.— 445.
68 Посев душ: ср. в греческой мифологии историю спартов (олартод — «посеянный»), рожденных из посеянных зубов дракона (Павсаний. Описание Эллады IX 10/Пер. С. П. Кондратьева. Т. I —II. Мм 1938—1940; Аполлодор III 4, 3—5). Об орудиях времени см. прим. 66.- 445.
69 О сотворении человеческого рода см.: т. 1, Протагор, прим. 31. Эмпедокл (В 62 Diels) сообщает, что из воды и земли под воздействием огня появилась первые, еще не разделенные на мужчин и женщин формы. См. также: т. 2, Пир, прим. 56.— 445.
70 Здесь отдельные тела разделены на те же сферы и имеют те же самУе связующие члены, что и само тело космоса. Однако их материальная и смертная сущность мешает слаженному и гармоническому движению, характерному для космоса (см. прим. 50).— 445.
71 См.: т. 1, Горгий, прим. 80.—К447.
72 Натурфилософы, как, например, Эмпедокл, говоря о формировании первых живых тел, подчеркивали первоначально хаотическое и уродливое соединение их частей под воздействием Любви. Однако все то, что «возникало для какой-нибудь цели», уцелело, так как «соединилось надлежащим образом» (В 61 Diels). Все остальное было обречено на гибель. По Платону, первые тела, созданные богами, задуманы по высшему образцу и в высшей степени целесообразны; поэтому здесь с самого начала исключены уродливые сочетания.— 447.
73 Механизм зрения Платон объясняет еще по старой традиции досократиков истечением тончайшей материи. См.: т. 2, Федр,
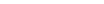
 |
 Здесь Платон говорит о круговороте первоэлементов (по Платону — основных «родов»), диалектику которого выразил еще Гераклит: «Огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля — смертью воды» (В 76 Diels). — 452.
Здесь Платон говорит о круговороте первоэлементов (по Платону — основных «родов»), диалектику которого выразил еще Гераклит: «Огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля — смертью воды» (В 76 Diels). — 452.
81 Платон разделяет неизменную сущность предмета (нечто, то, это) и его качества (такой), которые изменяются и переходят в другие качества. — 453,
82 Треугольник по античной традиции — одно из формообразующих тел (см. ниже, 53с). О мгновении, в которое одно переходит в иное, см.: т. 2, Парменид, прим. 24 и 25.— 453.
83  См. прим. 79. «Мать», «бесформенная», «незримая», «всевос- приемлющий вид», «принимающая любые оттиски» — всё это, по Платону, первичная материя. Платоновская материя резко отличается от материи досократиков, которая тождественна природе, наделена качествами, лишена пустоты, устойчива. Так же резко отличается платоновское понимание материи и от ее понимания у стоиков и орфи- ков, где материя, или природа, является активной силой, «художницей», «демиургическим началом», «творческим огнем», (fr. 172, 599,
См. прим. 79. «Мать», «бесформенная», «незримая», «всевос- приемлющий вид», «принимающая любые оттиски» — всё это, по Платону, первичная материя. Платоновская материя резко отличается от материи досократиков, которая тождественна природе, наделена качествами, лишена пустоты, устойчива. Так же резко отличается платоновское понимание материи и от ее понимания у стоиков и орфи- ков, где материя, или природа, является активной силой, «художницей», «демиургическим началом», «творческим огнем», (fr. 172, 599,
Хотя орфики, говоря о материи (X Quandt), именуют ее так же, как и Платон, «кормилицей», «матерью», она, как и у досократиков, наделена у них качествами, т. е. она «конечная» и «бесконечная», «круглая», «вечная», «всетекучая», «несущая движение», «плодоносная», «нетленная», «перворожденная», в то время как платоновская материя абсолютво беекачественна; она вечно становится и меняется, ибо вечным, самоудовлетворенным (см. прим. 45) и самотождествен- ным. бытием у Платона обладает только космическая душа. — 454.
84 О знании (здесь — уме) и об истинном (правильном) мнении см.: т. 1, Менон, прим. 44 и т. 2, Теэтет.— 455.
85 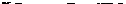 Образ и число наряду со строем и мерой — важнейшие категории античной философии, причем вторая пара характерна для герак- литовцев, а первая — для пифагорейцев с их геометрическими фигурами.— 456.
Образ и число наряду со строем и мерой — важнейшие категории античной философии, причем вторая пара характерна для герак- литовцев, а первая — для пифагорейцев с их геометрическими фигурами.— 456.
87 См. прим. 80.— 461.
88 См. 57cd.— 462.
89 См.: Государство, кн. X, прим. 24.— 463.
90 Выражение, смысл которого неясен, так как в рукописях есть разночтения. Может быть, имеется в виду лава или базальт.— 465.
91 У Гомера, например, соль именуется «божественной» (Ил. IX 214).- 465.
92 Игра слов: хедрат^со — делить на мелкие части, расщеплять; degpov — тепло, жар.— 467.
93 Зависимость ощущения вкуса от формы частиц подробно разработана у поэта Лукреция (О природе вещей II 308—477), использовавшего учение древнегреческих атомистов.— 472.
94 Представление Платона о цвете и сочетании цветов основано на учении о стягивании и разрежении цвета, понимаемого как трехмерное тело с его телесными пластическими функциями. Подробно обо всем этом см. в кн.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ, Платон. С. 582—590.— 474.
95 Образ смертной части души в виде зверя у кормушки в своем логове (возможно и другое толкование: «скотина у кормушки») можно сравнить с образом души как «пестрого и многоглавого зверя», данным в «Государстве» (IX 588b — d).— 477.
96 Древние придавали печени очень важную роль в жизни человеческого организма. У Гомера, например, она мыслилась одним из средоточий жизни. Так, Гекуба жаждет умертвить Ахилла, вонзившись зубами в его печень (Ил. XXIV 212—214). В языке зависимость настроения человека от состояния печени выразилась также в том, что «гнев» именовался «желчью» (xoXrj), а гневный человек — «желчным» (xoXcotoq).— 477.
97 Ср.: т. 1, Ион; см.: т. 1, Менон, прим. 46.— 478.
98 Ср.: «Познай самого себя» (см.: т. 1, Алкивиад I, прим. 24).— 478.
99 Имеются в виду кости головы и грудной клетки. — 481.
100 Сравнение из области орошения садов находим у Гиппократа: «Что земля для деревьев, то желудок для животных: он и питает, и согревает, и освежает; освежает, когда пуст, согревает, когда наполнен» (О влагах I И//Сочинения / Пер. В. И. Руднева. Т. 2. М., 1944).- 483.
01 На взаимоотношениях скорости движения и высоты звука подробно останавливается Аристотель при изучении голосов животных JDe gener. animal. V 7).— 486.
1 2 Гераклейский камень — магнит; см.: т. 1, Ион, прим. 12.— 487.
103 Тело любого живого существа понимается в «Тимее» как замкнутая система микрокосма, соответствующая системе вселенского движения в макрокосме. См. также прим. 34.— 488.
104 Аристотель также отмечает «беспечальную смерть в старости», так как, пишет он, «освобождение души от уз становится совершенно нечувствительным» (De respirat. 479а 20—23).— 488.
105 Флегма — слизистое выделение.— 489.
106 Имеются в виду судороги и корчи. Тетанус — от глагола xeivo) («патягивать», «напрягать»), опистотонус (ojuadorovog) — букв, «натянутый назад», т. е. стягивание назад членов (корчи).— 491.
107 Имеется в виду эпилепсия.— 492.
108 Здесь — типичное для классической эстетики представление о соразмерности в прекрасном, чуждое эстетизации иррационального, безобразного и ужасного, характерной для европейского романтизма. О категории меры в античной эстетике см.: Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М., 1965. С. 13—27.— 494.
109 О гимнастическом и мусическом воспитании очень много говорится в «Государстве». См. также: т. 1, Критон, прим. 13; Протагор, прим. 38.— 495.
1.0 Ср. прим. 83.- 496.
1.1 Очищение («катарсис»): здесь употреблен тот же термин, который Аристотель применяет для выражения следствия трагического действа — эстетического, этического и даже физиологического очищения человека от страданий (Поэтика VI 1449b 28).— 496.
1.2 Гесиод в «Трудах и днях» рассказывает, что после своего ухода из жизни люди золотого века стали «благостными демонами», которые «волей великого Зевса людей на земле охраняют, зорко на правые наши дела и неправы!*смотрят» (121 —124).— 497.
113 По Платону, прикоснуться к истине и обрести бессмертие и блаженство может только философ, вечно стремящийся к познанию мудрости и высшему благу. Это, собственно, и является центральной мыслью его «Государства». — 498.
114 Чтение образ бога умопостигаемого (vot]to'i) основано на том, что Барнет следует рукописной традиции F и Y вопреки чтению «образ бога творящего» (jioit)toi) по рукописям А и Р. В диалоге космос как чувственный бог имеет образец в виде бога мыслимого. Эта идея подтверждается автором сочинения «Тимей Локрский о душе, космосе и природе» (судя по языку — дорийцем) в его рассуждении о космосе, который «был создан некогда по лучшему образу эйдоса нерожденного, вечного и мыслимого» (см.: Plato Dialogi/Ed. Hermann. Lipsiae, 1922. IV 105a). В «Эннеадах» Плотина (VI 2, 22 sqq. Diehl) есть выражение «явления» (ivdaXpaxa) в качестве образа мыслимого, а не творящего бога, т. е. Плотин, как и Платон, противопоставляя бога мыслимого и бога чувственного, вместе с тем четко разделяет понятие мыслимого и творящего божества. Возможно, что разночтение рукописей А и Р возникло не раньше IV в. н. э.— 500.
КРИТИЙ
ИДЕАЛИЗАЦИЯ СТАРИНЫ
«Критий» — одно из последних произведений Платона. Значительная часть этого диалога либо утеряна, либо недописапа самим Платоном, причем эта часть являлась бы самой интересной. Формально «Критий» есть прямое продолжение «Тимея», потому что в «Тимее» (25е — 27Ь) Критий обещает рассказать о древних афинянах как о народе, который вполне соответствует идеалам «Государства». Вспомним, что космология «Тимея» давала обоснование идеальному государству. Идеальному осуществлению этого государства и посвящается диалог «Критий».
КОМПОЗИЦИЯ ДИАЛОГА
I.Вступление (106а—108е)
1. Связь с диалогом «Тимей» (106а — 107Ь).
2. Подражание как художественный метод изложения теории идеального государства (107Ь — е).
3. Просьба рассказчика о снисхождепии и призыв богов на помощь (108а — е).
II. Рассказ о бывшей девять лет назад войне между Афинами и Атлантидой, островом по ту сторону Геркулесовых столпов, и идеализация древнеафинского строя (108е — 112е)
1. После упоминания о войне речь идет об Афинах как об уделе богов Гефеста и Афины Паллады (108е — 109d).
2. Идеальные черты древнего Афинского государства (109а 111е): а) в нем ничего излишнего, а потому ..и отсутствует подробное повествование о героях, кроме имен самих героев (109d — 110Ь);
б) общие качества мужчин и женщин, включая воинские (НОЬс);
в) противопоставление воинов ремесленникам и земледельцам (110с);
г) отсутствие у воинов частной собственности и общность всего для всех (llOcd); д) идеальное географическое положение Афинского государства (110е — 111е).
3. Изображение самих Афин (112а — е): а) географические границы (112аЬ); б) местожительство сословий (112Ь); в) аскетизм и осуществленный идеал общности у воинов, неизменных по своему числу — 20 тысяч (112Ь — d); г) красота тела и добродетелей, а также справедливость и всеобщая слава (112е).
III. Изображение Атлантиды со ссылкой на Солона и египетских жрецов (113а — 121с)
1. Вводные замечания (113а —с).
2. Происхождение жителей Атлантиды от брака Посейдона и смертной женщины Клейто (113cd).
3. Устроение острова Посейдоном и первые цари острова во главе с Атлантом. Дети Посейдона (ИЗе — 114d).
4. Природные богатства и изобилие Атлантиды (114d — 115b).
5. Топография главного города (115с — 117е).
6. Изображение прочей страны (118а — 120d): а) топография страны и ее благоустройство; б) государственное управление на основе равноправия десяти царей; первенство рода Атланта, всеобщее равенство перед законом, даже царей, строжайший запрет всякого междоусобия (119с — 120d).
7. Постепенное вырождение «божественной» природы атлантов, утеря ими старинной добродетели и возникшая по этой причине необходимость возмездия со стороны Зевса (120 — 121с).
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ДИАЛОГУ
1. Диалог «Критий» получает свой смысл только в связи с «Ти- меем», где кратко говорится о той Атлантиде, которой должен быть посвящен целый диалог. Без контекста «Тимея» «Критий» является просто фантастическим рассказом или сказкой. Нигде не видно какой- нибудь идейной направленности этого диалога; остается неизвестным, почему философ взялся за эту тему. Но даже и в отношении сказки, когда речь идет о Платоне, вполне правомерен вопрос о ее философ* ской, социально-политической и эстетической значимости.
2. Что касается философского значения «Крития», то, по-видимому, это идеализация тысячелетнего прошлого, которое преподнес сится здесь отнюдь не в наивном, сказочном духе, но с применением сложной рефлексии человека высокой цивилизации. Поэтому, хотя философские моменты рассеяны в «Критии» весьма скупо, все же можно сказать, что это реставрационная утопия, раскрашенная самым привлекательным образом. Одну такую реставрационную утопию мы уже имели в «Государстве» Платопа, но там на первый план выдвигалось учение об идеях и с точки зрения этого учения устанавливались три общественно-политических сословия. В «Критии», правда, тоже говорится в отдельных местах о царях, воинах, ремесленниках и земледельцах, но эти сословия не рассматриваются в составе единой
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
