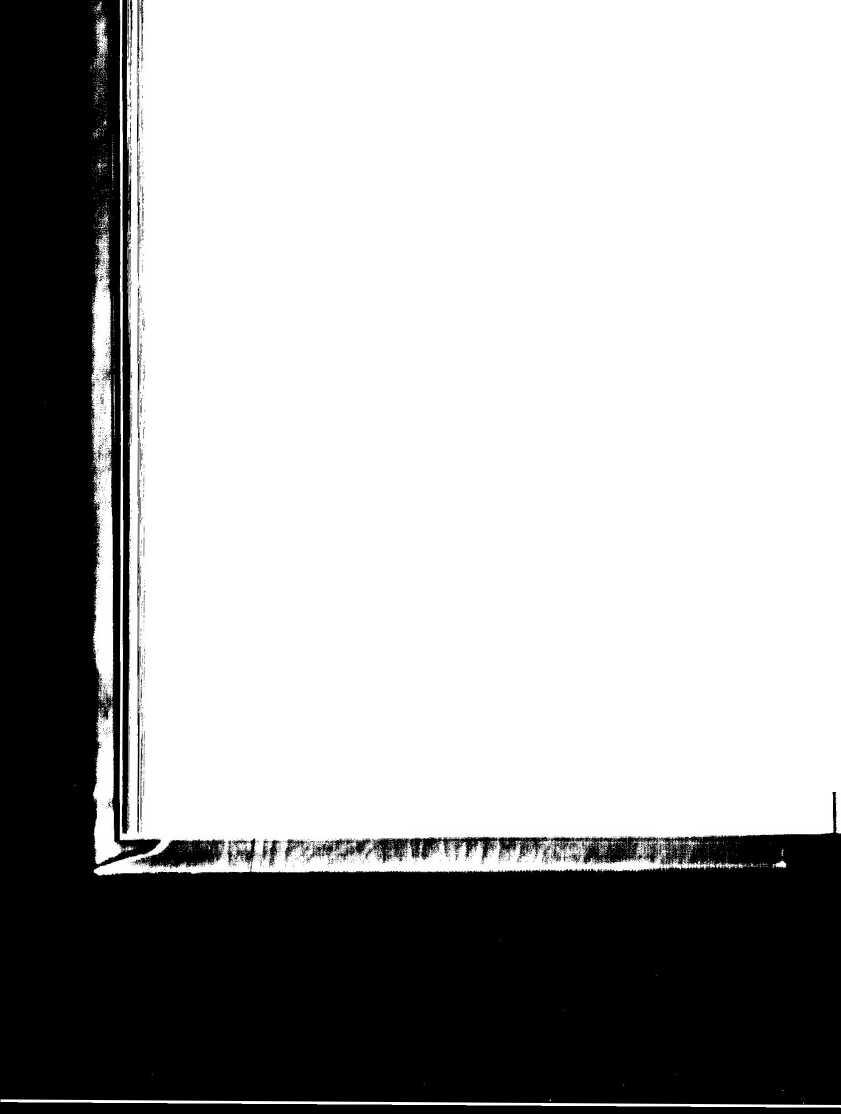- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Кровавая свадьба» 4 страница
Когда муза видит приближающуюся смерть, она закрывает двери, или водружает колонну, или ставит урну, на которой чертит восковой рукой эпитафию. . .
Когда ангел видит приближающуюся смерть, он начинает медленно кружить в воздухе и ткать из ладана и душистых, как нарциссы, слез элегию. . .
Напротив, демон вовсе не приходит, если не предвидит близкой смерти. . ,»29
Смерть и только смерть вызывает к жизни демона вдохновения, необходимого для канте. Лорка ценит в канте способность откликаться на страшное, мучительное. Главная тема «глубинного пения» для него — жизнь под угрозой смерти. (Удивительно, как почувствовал это в Лорке другой великий поэт — Марина Цветаева. Строчки из лорковской «Гитары» в «Поэме о канте хондо»:
у el primer pajaro muerto • sobre le rama 30 —
буквально: «. . .и первая мертвая птица на ветке» — она перевела:
Так прощается с жизнью птица под угрозой змеиного жала 31.)
В очной ставке жизнь и смерть приоткрывают свои сокровенные тайны, но проникнуть в них не так-то просто. Канте почти ничего не растолковывает и очень многое внушает. В нем нет рационалистической последовательности, оно совмещает то, что с точки зрения формальной логики несовместимо. Когда Лорка ссылался в своей лекции на строчки канте, доступные, по его мнению, «только немногим поэтам»:
В светлом кольце луна, любовь моя умерла 32, —
он приводил пример чрезвычайно расхожего в фольклоре параллелизма. Но и в фольклоре подобные параллели загадочны: они сходятся не в сознании, а в глубинах художественной интуиции и сближают настолько далеко отстоящие друг от друга понятия, что источником мощнейшей энергии их притяжения является вера в единство всех мировых явлений. Ареной встречи далеких или полярно противоположных понятий становится душа певца, его внутренний мир. Он вбирает столь многие страдания, что они не могут не перелиться через край.
Одно сердце вбирает горечь всех — единичное оказывается вместилищем всеобщего, но это парадоксальным образом не ведет к сопричастности миру. Канте исполняется одним певцом или одной певицей. Название жанра фламенко solea, по мнению большинства исследователей, не что иное, как начертание андалусского произношения soledad — одиночество. Индивид в канте выступает от своего собственного лица и нередко передает разобщение, замкнутость в своих границах. Кажется, что хоровод, который обычно исполняет фольклорные произведения, рассыпан враж-дебной силой и все его участники разметаны в разные стороны. В лорковской «Поэме о канте хондо» мы видим в пустом пространстве одинокого путника, которому далеко, бесконечно далеко идти до ближайшего пристанища. Имеющее древние корни искусство становится выражением трагедии современной отчужденной линности. Канте получило столь широкое распространение во всей Испании как раз тогда, когда и в народном искусстве все отчетливей давало знать себя индивидуальное, обостренно-драматическое сознание. XIX век принес стране множество потрясений: вторжение
наполеоновских войск и сражения с ними, пять революций, кровопролитные братоубийственные карлистские войны, наступление капитализма, ломавшего традиционные устои и патриархальные связи. С самого начала XX в. ощущалось, что он чреват новыми катаклизмами. Лорка, воспринявший канте как «музыкальную душу нашего народа», с которой «ничто, совершенно ничто не может сравниться во всей Испании» 33, превратит цыгана в обобщенный образ преследуемого, чье искусство, чей праздник и поэзия нелегальны.
* * *
Заглавие «Роеша del cante jondo» адекватнее всего можно перевести именно как «Поэму о канте хондо». Это вовсе не отдельные «стихи» — так чаще всего называют у нас книгу, — а произведение, связанное цельностью замысла 34, проходящими сквозь него образами— лейтмотивами и драматическим единством действия.
Единство действия, ц свою очередь, неотделимо в поэме от бросающегося в глаза единства времени. Время, о котором здесь рассказывается, — ночь. Лорка считал, что канте «всегда песня ночная. В нем нет ни утра, ни вечера, ни гор, ни долин. Ничего, кроме ночи, безмерной, звездной ночи. Все остальное излишне.
Наш канте лишен пейзажа — песня сосредоточена в себе; ее звучание во мраке устрашает; она мечет свои золотые стрелы прямо в наше сердце. В темноте канте хондо кажется сказочным лучником, чей колчан никогда не иссякает»35. Ночная тень ложится на оливковую рощу в стихотворении «Пейзаж»; в русском переводе «Гитары» говорится о закате, плачущем рассвете, в оригинале же сказано еще более решительно и страшно — о вечере без утра, о сгущающейся ночи, за которой не последует утро. Ночь перестает быть атрибутом времени, превращаясь в мифического персонажа, родственного хаосу, царившему не только до появления первых людей, но и до первых богов. Изначальная ночь в книге Лорки — безлюдная, плотная и бескрайняя Тьма зб, и вокруг, кажется, нет ни одной живой души. Но нет в ней и умиротворенности и покоя — напротив, она пронизана огромным, неистовым напряжением. По нашим нервам ударяет .. .дрожь натянутого провода, дрожь
огромного овода.
(«Перекресток»)37
Поэт воскрешает дух древней культуры: если в ренессансном и послеренессансном искусстве драматизм рождался вследствие действий отдельных индивидов, то у Лорки он им предшествует. Безличные, хотя и наделенные человеческими свойствами, стихии существуют у Лорки до личности и вне зависимости от нее. Гранадские реки Дарро и Хениль исходят кровью и слезами; обваливается небо, горы с тревогой вглядываются вдаль, и воздух пронзают спирали плача. И когда, наконец, в мире канте хондо появляются первые люди, они сразу же втягиваются в завязавшуюся
до их прихода и непрекращающуюся, как стон перебираемой неведомыми руками гитары, борьбу, которую правильнее всего было бы назвать любимым Мигелем де Унамуно словом «агония».
Пленники тьмы, они дают знать о своем присутствии однозначно — свечой, фонарем или лампадой. В «Поэме о солеа» Андалусия — «земля бескрайних ночей» и «земля свечи». В рефрене стихотворения «Ночь» «светляк и фонарик, свеча и лампада» составляют контрапункт непросветленности ночи. Но эти мерцающие островки выглядят крошечными, могут в любое мгновение потонуть в ночи и — что не должно удивлять нас в антропоморфной книге Лорки — свеча знает об этой опасности. Она самозабвенно и тщетно грезит о «безветренном воздухе» (стихотворение «Свеча») — ветер, кажущийся непрестанным дыханием черной бездны, ее не минует. Один из главных героев «Поэмы о канте хондо» — фатальный уносящий и «нежный вздох и крик» ветер, он, как головорез, рыщет по сумрачным дорогам, и огонь робко и отчаянно дрожит, когда на него набрасывается губительный шквал.
Дрожь огонька в контексте книги оказывается предельно сближенной с трепетом жизни, все время находящейся под угрозой. В мире лорковского канте
Со всех сторон, куда ни пойдешь, прямо в сердце — нож.
(гПерекресток»)
В «Заговоре» рука, тушащая свечу, — преступница, «сжимающая невидимое сердце», в стихотворении «Неожиданное» мечущийся на ветру фонарик и ветер, бьющий в глаза убитого, еще яснее говорят о смерти. Вслед за ночью и ветром жизнь и смерть становятся деятельными участниками тревожного действа, как равнина, сумрак, крик и тишина; это действо, в котором все силы природы выступают как живые существа.
Такими же существами оказываются и песни, принадлежащие к разным жанрам канте, — петенера, солеа, сигирийя; смуглая сигирийя ходит с серебряным сердцем, петенера превращается в цыганку.
«Удивительно, — писал Лорка, — как в лирических построениях чувство принимает форму и, наконец, конкретизируется в почти осязаемые предметы. Так обстоит дело с Горем в наших песнях.
В песнях Горе обретает плоть, человеческие формы и очерчивается четкой линией. Горе — это смуглянка, которая хочет ловить птиц сетями ветра» 38.
Каждый из циклов книги — отдельная законченная драма, раскрывающая участь какой-либо песни. Восемь стихотворений цикла «Силуэт Петенеры» — восемь драматических картин. Первое стихотворение — «Колокол» играет роль пролога — колокол замолкает на желтой башне, и только ветер, «из пыли.. . мастерит серебряные кили». Затем в «Дороге» появляются «сто конных в черном», цвет их одежд не сулит ничего хорошего, как и вещие звуки гитары, которая в третьем стихотворении цикла «Шесть струн», подобно безжалостному пауку, плетет «звезду судьбы обреченной». Четвертое стихотворение — ритуальный танец в саду Петенеры, постепенно втягивающий в роковую круговерть небо, землю и все мироздание:
В ночи сада за одной другая тени всходят, неба достигая
(«Танец»)
Центральное стихотворение — «Смерть Петенеры». Тени теряют остатки танцевальной беспечности, ложась
на горизонт и на лицо Петенеры, ее агония сопровождается всеобщими бедствиями:
Острые черные тени тянутся к горизонту.
И рвутся гитарные струны, и стонут.
Кони мотают мордами.
Всадники мертвые39.
В оригинале прямо сказано, что речь идет о «ста лошадях», принесших знакомых всадников в черном. А после похорон Петенеры (стихотворение «Фальсета») нам сообщают, что эти сто влюбленных спят, «сухой землей покрыты» (7-е стихотворение цикла «De profun- dis»). Кажется, что песня увела их в подземное царство, как свой траурный кортеж. Таковы роковые последствия магической силы, заключенной в Петенере. В эпилоге опять раздается колокольный звон (стихотворение «Вопль»); звуковая симметрия зеркально обрамляет весь цикл, и мы видим, что по опустевшей дороге шагает лишь одна «смерть в венке увядшем». Ветер вновь «из пыли мастерит серебряные кили», возвращая нас к неотступному образу ночи с царящей в ней серебристой луной — мертвым светилом.
Схожий сюжет имеет и цикл из семи стихотворений «Поэма о цыганской сигирийе», в котором вновь ключевым оказывается 5-е стихотворение — «Поступь сигирийи», об «агонии певчего' тела»; затем следуют два последних стихотворения цикла (они так и называются «Следом» и «А потом...»): по воздуху поднимаются тонкие спирали плача, «гаснут медленные свечи», исчезает все — и «немолчное сердце — источник желаний», и «закатное марево» — и остается лишь тьма и пустыня.
Песни — верховные правительницы судеб, имеющие огромную власть над человеком, богини андалусского Олимпа или, точнее, пантеона, скорее похожего не на лучезарные чертоги греческих небожителей, а на сумеречную Валгаллу. Песни — ночные сирены, — заслушивающийся их, плененный их красотой путник погибает. Ритмы канте — зачаровывающие, гипнотические — смертельно опасны.
В глубине севильских улиц пляшет Кармен вечерами.
Пляшет Кармен с дерзким взглядом и седыми волосами.
Девушки, уйдите!
Окна затворите. . .
Не глядите!
(«Танец*)*0
Танец Кармен — это танец Смерти, всех за собой манящий. К теме смерти возвращает нас каждый из циклов. «Поэма о цыганской сигирийе» сообщает, что все
Умолкло, заглохло, остыло, иссякло, исчезло.
(«Л потом. . .») 41
«Поэма о солеа» констатирует, что в мире «все сокрушилось, одно молчание осталось». В «Поэме о саэте» «Севилья ранит. Кордова хоронит». «Силуэт Петенеры» завершается погребальным «De profundis» и смертным воплем; «Цыганские виньетки» — «Предсмертной жалобой» и «Memento»; «Три города» — знакомым уже танцем Кармен и, наконец, *Шесть каприччио» — стихотворением «Крест»:
Крест.
(Конечная точка пути.)
Это одно из самых жутких двустиший книги. По дорогам канте несутся всадники, желающие достичь границ тьмы, пересечь ее рубежи, увидеть зарю. Но в «Поэме о цыганской сигирийе» сказано, что заря — это лишь иллюзия (стихотворение «А потом...»). Смерть настигает всех всадников до рассвета, как настигает она и пешего Амарго.
В «Сцене с Амарго», завершая поэму о канте хонде, происходит нежданная и нежеланная инверсия: вместо всадника, олицетворяющего порывы к освобождению, появляется мифический всадник, несущий гибель. Под обратным знаком начинает выступать и пламя свечи, оно уподобляется теперь орудию убийства (согласно ремарке, в этой уже откровенно построенной по законам драматургии сцене Всадник «вытаскивает золотой нож, острие загорается, как пламя свечи»).
Нет дорог, ведущих за пределы ночи. Каждая дорога обрывается либо крестом:
(Крест. И ступайте с миром.
Смуглым он был и сирым.
Крест. И не смейте плакать.
Он на луне, мой Амарго.) 42, —
либо безысходным лабиринтом (лучники «входят в лабиринты любви, стекла и камня») 43.
Знаком креста перечеркнуты и жизнь, и свет:
Окно золотистое в сумерках сада колышет
крестов силуэты. («Ночь») 44
Образ любой дороги как последнего пути становится столь важным для Лорки, что перехлестывает рамки «Поэмы о канте хондо». В книге «Песни» мы находим две «Песни всадника». В первой поэт тщетно вопрошает:
Под луною черной смертный крик протяжный, рог костра крученый. . .
(Вороной храпящий,
где сойдет твой всадник, непробудно спящий?)
Во второй царит тяжкое предчувствие:
Конь мой пегий, месяц низкий, за седлом лежат оливки.
Хоть известен путь, а все же не добраться мне до Кордовы.
Над равниной, вместе с ветром, — конь мой пегий, месяц красный.
И глядит мне прямо в очи Смерть с высоких башен Кордовы.
Ай, далекая дорога!
Мчится конь, не зная страха,
Я со смертью встречусь прежде,
Чем увижу башни Кордовы! 46
В самой поэме о канте хондо мотив преждевременной кончины находит наиболее страшное воплощение в картинах смерти детей (мертвая девочка в «Квартале Кордовы», мертвый цыганенок в стихотворении «Свеча» и т. п.).
Критика отметила, что в отличие от Хорхе Манрике, «для которого „достичь — значит умереть", для Лорки умереть — значит не достичь, потому что смерть всегда подстерегает посередине пути. . . Смерть — это не естественный процесс и не естественный предел, а крушение всех надежд»47. Именно такое изображение смерти свойственно мифологическому мышлению — от африканцев48 до австралийцев, на взгляд которых «смерть никогда не бывает естественной» 49. Она всегда проявление мифического зла50, результат действия невидимых сил, постоянно присутствующих в мире и безустанно активных51.
Силы, действующие под покровом ночи канте хондо, не только невидимы, но и неизъяснимы; Лорка не случайно обращается к песне — слово здесь подразумевает музыку и часто как бы отступает перед мелодией, дающей ощутить то, что не высказано и не может
£jg|P t Г" jy,, у быть уловлено и сформулировано в слове. У песен — непроглядные лики, они подобны сфинксам, — в канте существует своеобразная обобщенность тьмой, особая нерасчлененность: речь идет о Судьбе Человеческой — не о судьбе одного конкретного человека. Но судьба эта пропущена сквозь сердце поэта; в книге ощутимы сугубо интимные интонации, мифу не свойственные.
(Пусть мое сердце станет флюгаркой на ветру, когда я мир покину.
Когда умру. . .
(«Memento») 52
Оставьте в поле меня, среди мрака — плакать.
С самого начала в «Поэме» присутствует лирический голос — то тоскующий:
(Ах, любовь, ты исчезла навеки!
Ах, любовь,
ты прошла, словно ветер!
(«Балладилья
о трех реках!»),—
то сметенно и тщетно вопрошающий:
(Куда ты несешь, сигирийя, агонию певчего тела?
Какой ты луне завещала печаль олеандров и мела?
(«Поступь сиеирийи»)53
Потрясаемый сочувствием, болью и ужасом писатель сознает, что очутился под почерневшими небесами не только на перекрестке дорог — на перекрестке истории.
Мольба и предостережение невольно срываются в крик, прожигающий тьму, — крик исступленный, ибо кинжал, вспарывающий, «как пашню плуг», глубины Вселенной, нацелен на его сердце:
Нет.
Не в меня.
Нет.
{«Кинжал»)
Поэма о канте хондо — противостояние современной, ранимой, охваченной чувством тревоги личности и мира, в котором разверзлась бездна, таящая мифический ужас. За пятнадцать лет до массового выступления фашизма в стране Лорка увидел, что в Испании скрываются темные, безжалостные анонимные силы, что спускается ночь убийства и смерть выходит на большую дорогу. Никто не знает, доживет ли он до утра, неизвестно, забрезжит ли вообще утро, — естественный порядок вещей нарушен, наступил час «гибельной магии», о которой говорится в «Сцене с Амарго». Но в пору тотального ужаса художник выбирает сторону жертв, отождествляет себя с ними, он лирически преломляет мифическую атмосферу, и мы прикасаемся не только к магии зла, но и к магии красоты, заключенной в душе поэта, хранящей человечность, и в андалусских песнях, хранящих память о миллионах страдальцев.
* * *
Книга «Цыганское романсеро» начинается с двух стихотворений, рассказывающих о мифических событиях. В первом — «Романс о луне, луне» — луна ночью приходит в кузницу, танцует перед мальчиком и приглашает уйти с ней. В романсе «Пресьоса и ветер» ветер преследует молодую цыганку, моля ее о ласке. . .
Корни последнего стихотворения очевидны. VI книга овидиевских «Метаморфоз», в которой Борей похищает актеянку Орифию, — лишь одно из звеньев мифологической традиции, хранящей образ сластолюбивого ветра 54.
Но «Цыганское романсеро» не только откровенно мифологично, но и откровенно современно.
Тьма в поэме о канте хондо скрадывала приметы времени — персонажи, появлявшиеся в ней, принадлежали бог весть какой эпохе: некие «жуткие существа», «темные лучники» и т. п. В новой книге речь часто идет о нынешнем, даже сиюминутном — герой может запросто обратиться к поэту:
— Ай, Федерико Гарсиа, оповести патрули!
(«Смерть Антоньито эль Камборио» 55),
поэт может внезапно окликнуть героиню
Пресьоса, беги Пресьоса!
Все ближе зеленый ветер!
(«Пресьоса и ветер».)
Актуализация событий достигается благодаря преимущественному использованию глаголов настоящего времени 5б. Но это настоящее сливается с длящимся прошлым:
На кровле грезящий месяц дремотным аистом замер.
Взлетели огни и флаги над сонными флюгерами.
В глубинах зеркал старинных рыдают плясуньи-тени.
В Хересе де ла Фронтера — полуночь, роса и пенье.
(«Романс об испанской жандармерии»),
истоки же прошлого теряются в неведомом. Так, в «Погибшем из-за любви» о смерти собираются извещать по телеграфу («Синие телеграммы ты разошли по свету! . .»), и вместе с тем это несомненно мифическая смерть:
Семь воплей, семь ран багряных, и диких маков махровых разбили тусклые луны в залитых мраком альковах.
И зыбью рук отсеченных, венков и спутанных прядей бог знает где отозвалось глухое море проклятий.
Стык нынешнего и вечного образует «un minuto intransitable» — «непреходящее мгновение» («замерший миг» в переводе А. Гелескула) — совмещается «тогда» и «сейчас», как в «Пресьосе и ветре», где мы одновременно встречаем и английского консула, предлагающего джин перепуганной цыганке, и «звучащего голосами бездны» «нагого великана». Миф творится на наших глазах, не порывая своей связи с глубинными пластами времени. Современность оказывается чреватой мифами, зачатыми много веков назад.
«Сушь и море являются как бы живыми альбомами со вписанными в них мифами» 57, пейзаж выступает как лоно, непрерывно рождающее мифологические образы:
Ломает гора Минервы иссохшие пальцы тиса.
Вода взлетит над обрывом — и вниз, как мертвая птица.
Рваные ноздри созвездий на небосводе безглазом ждут только трещин рассвета, чтоб расколоться разом.
Взбегает нагая зелень ступеньками зыбкой влаги.
(«Мучения святой Олайи»)
Застыло дыхание моря, забились бледные ветви, запели флейты ущелий, и гонг снегов им ответил.
(«Пресьоса и ветер»)
Никогда уже жизнь природы не проявится у Лорки так ярко, как в «Цыганском романсеро». Природа полна здесь не только красок, цвета и запахов — она полна активности, являя собой огромное живое тело, все время находящееся в постоянных переливах.
Смоковница чистит ветер наждачной своей листвою.
Гора одичалой кошкой встает, ощетиня хвою.
(«Сомнамбулический романс»)
Преображений здесь так же много, как и в древних мифах, среди которых «совершенно нет таких, где самые различные существа и предметы не превращались бы мгновенно друг в друга» 58, и реминисценции из ови- диевских «Метаморфоз» вовсе не случайны — «Цыганское романсеро» можно было бы назвать «Метаморфозами» Гарсиа Лорки.
Тугие волы речные в осоке и остролистах бодали мальчишек, плывших
КО
на лунах рогов волнистых , —
луна, вода, волы и мальчишки могут войти в одну поэтическую фразу потому, что Лорка говорит о действительности, в которой все образует органическое целое, проникая друг в друга насквозь.
А по затоке плывет, играя, луна —
и с высот небесных завидует ей вторая.
Мальчик
с песчаной стрелки смотрит на них и просит:
— Полночь, ударь в тарелки!
(<Небылица о доне Педро. ..»)
У Лорки воистину слышна космическая музыка —все здесь принимает участие в общем концерте, сплетается в единой мелодии, — и «под водой продолжают звучать слова» 60, ибо нет преград между духовным и материальным, органическим и неорганическим.
И той порой, когда звезды ночную воду сверлят. . . —
читаем мы в «Смерти Антоньито эль Камборио» в превосходном переводе А. Гелескула. Но в оригинале сказано еще энергичнее:
Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris —
«когда звезды втыкают копья в серую воду» — небо жестоко ранит тело воды.
Еще явственнее, чем в «Поэме о канте хондо», перед нами раскрывается космическая драма — Сант- Яго машет млечным мечом («Романс обреченного»), небо стучится в шорох рощи («Умерший из-за любви»), плещется сотней солнц равнина («Цыганка-монахиня») — Вселенная дышит ветром и «ночью, полной рыбы» («Пресьоса и ветер»),
В этой драме человек — далеко не единственный и не главный ее участник, он подчинен всеобщему взаимодействию животных и рыб, небесных светил и глубин моря. Природа готова его ласкать и ранить, но в любом случае это не равнодушная природа. Человек находится на арене столкновения различных естественных сил, взаимодействующих и друг с другом и с ним; сил то враждебных, то милостивых, то обдающих жаром, как в «Цыганке-монахине», то холодно-уклончивых, как в «Сан Мигеле» («В холод закутались реки, чтобы никто их не тронул»). Природа живет своенравной, часто непостижимой жизнью, но человек, вовсе не до конца ее понимая, не только не огражден от нее — он в нее ввергнут.
Эта неотграниченность человека от природы выступает у Лорки в какой-то мере метафизически, под окружающей героев природой порой подразумевается весь современный поэту мир.
Книга создавалась в пору, когда свободолюбивые чаяния народа вызывали ярость сил, установивших диктатуру Примо де Риверы, чреватую новыми потрясениями; в «Цыганском романсеро» человек либо застигнут врасплох бурей, либо охвачен предчувствием, что она вот-вот разразится — так или иначе он испытывает будоражущее влияние наэлектризованной атмосферы, которая легко, как в «Пресьосе и ветре», может заговорить языком молний.
Стихии действуют не только вне героев книги, но и в них самих — обнаруживается связь волнений персонажей с вулканическими пертурбациями, потрясающими Вселенную. Такая эмоциональная приобщенность к грозным космическим сдвигам приводит к особому феномену: люди в «Цыганском романсеро» испытывают страстные переживания, чьи причины им самим неведомы, ибо лежат в глубине, куда еще не проникло их сознание.
| Лорку, по его собственным словам, занимала «более глубокая тайна, чем во всех драмах Метерлинка. Неподдельная и простая тайна. . .» 6I. В «Цыганском романсеро» поэт и его персонажи и знать не знают, что такое самоизоляция, — они слиты с миром 62, и в этом слиянии ощущают не немотсутствующую тайну Метерлинка, провозгласившего молчание «основой таинственного в нашей жизни» 63, а тайну, говорящую неумолкающим языком космоса 64, языком мифического откровения, — все, что является здесь человеку, магически завораживает его. |
| Ночи, колдующей ночи синие сумерки пали,— |
|
|
| читаем мы в переводе А. Гелескула. И хотя в этих строчках Лорки нет слова «колдующая», переводчик прав, прибегая к нему: ночь — основное время действия не только поэмы о канте хондо, но и «Цыганского романсеро» — выступает в последней книге как пора колдовства, пора снов, дающих, согласно поверьям, доступ к сокровенному. Так проходит череда видений наяву — полусон-полуявь, морок бесконечной бессонницы («Романс обреченного» рассказывает, как «едет бессонный всадник верхом на коне бессонном»). Глаза героев романсеро полуприкрыты65 — они видят не «вещи» (о цыганке в «Сомнамбулическом романсе» сказано, что «вещи с нее глаз не сводят и только она их не видит»), а вещие образы — герою «Романса обреченного» является «север скал и металлов», а Амнон в романсе «Фамарь и Амнон» «в луну впивается взглядом и видит сестрины груди». Перед нами то, что в «Иосифе и его братьях» Томас Манн называет «лунной ясностью», не без лукавства подчеркивая, что «при ясности лунной вещи кажутся иными, чем при ясности солнечной» 66; становятся вполне возможными фантастические допущения, и вступает в свои права «мечтательность». «Цыганское романсеро» не случайно открывается «Романсом о луне, луне». Почти все в книге омыто лунным светом, дарующим ощущение первозданной свежести мира. При луне сверкающий как серебро пейзаж предстает с графической, картинной четкостью. Но свет луны оказывается двусмысленным: открывающим и одновременно что-то таящим; чувство красоты неотделимо от чувства опасности, подстерегающей на каждом шагу. / Особенно ощутимым ночью — йри «лунной ясности» — становится присутствие /Невидимого, власть потаенных и непререкаемых закономерностей, образовавшихся, быть может, еще в «пОрвовремена»; романс «Схватка» о поножовщине в/ современной Гранаде подытожен такими словами: / Так повелось, сеньоры, с первого дня творенья. В Риме троих недочтутся и четверых в Карфагене 67. Но и видимые и невидимые силы, как и в поэме о канте хондо, оказывают на людей огромное воздействие. Мы встречаемся здесь с необычайной интенсивностью впечатления, со сверхчуткостью, когда герои Лорки едва ли не буквально воспламеняются от солнечных лучей и стынут от вечерней прохлады. Сердце героя «Романса обреченного» бьется учащенно или замедленно в зависимости от «магнитного севера» — от магнитных бурь, процессов, происходящих в глубинах земли, и от того, какое влияние оказывают полюса притяжения и отталкивания и на ее поверхности. Ибо ощущение пространства в «Цыганском романсеро» особенное; пространство здесь не нейтрально, а качественно определенно, как и время. Например, упоминание о севере — «un norte de metales у penascos» — вовсе не случайно и полнится скрытым смыслом. Специалисты указывают на «свойственную большинству мифологий демоническую интерпретацию севера, где находится царство мертвых, обитают злые духи и великаны» 68, и, шире, на то, что «в мифологическом мышлении пространство и время никогда не рассматриваются как чистые и безразличные к содержанию формы, но как великие таинственные силы, которые властвуют над ЩИМИ. . .» . «Цыганское романсеро» раскрывает роковую власть окружающей героев атмосферы, сгущающейся так, что она буквально сжимает сердце, активную роль времени и пространства, света и мрака, красок и звуков природы, берущих в полон чувства. Лунный свет — ядовито-зеленый или подернутый лихорадочной желтизной — оказывает на них самое непосредственное действие. Чем пристальнее мы вчитываемся в романс «Погибший из-за любви», рассказывающий, как умирал герой, тем очевиднее становится: кончина наступила из-за того, что Луна, чесночная долька, тускнея от смертной боли, роняла желтые кудри на желтые колокольни. И в двери ворвалось небо лесным рокотаньем дали. А в ночь с галерей высоких четыре луча взывали, что пляска огней, запах янтаря, вина и маков, «шепот старых голосов», дрожь стекла и волшебного лунного света вскружили голову так, что герою больше уже не обрести сознание; природа втянула его в свой колдовской водоворот, и оказалось, как и в мифотворческие времена, что «его жизнь и жизнь природы одно. Все, что происходит во внешней природе, происходит и с ним», и царит «тождество причин и следствий» 70, кажущегося и действительного. «Бессонница» «Цыганского роман- серо» — это тревожная разбуженность чувств; от их чрезмерной остроты и перехлеста все выглядит как в дурмане. Неусыпная органика жизни со всеми ее красками, звуками и ароматами как бы прямо перетекает в нас, и мы растворяемся в ней. Такое растворение и прельщает и пугает — слияние с природой грозит смертью отдельной личности, но наступает она от переизбытка прекрасного, от встречи с неизведанным. Так гибнет цыганенок в «Романсе о луне, луне» и цыганка в «Сомнамбулическом романсе» — быть может, она слишком низко склонилась над водоемом, зачарованная таинственной игрой лунного света, ее отражение сплелось с лунным отражением, отражения растворились друг в друге, гипнотическое влечение принудило ее сделать еще шаг навстречу обманчиво близкому светилу — и вот уже «сосулька луны» поддерживает на водной глади ее мертвое тело. Но еще губительней другой, противоположный органике природы полюс. Тропа, по которой «среди хрусталей и лавров» идет Пресьоса, — неисхоженная тропа. Ступая по ней, поэт с полным правом ощущает себя новатором, следующим за «традицией, ведущей в будущее», ведь в отличие «Поэт — это медиум Природы» 72, — писал девятнадцатилетний Лорка, видимо считая, что весь секрет заключен в том, чтобы отдаться диктату органических импульсов. В «Цыганском романсеро» он проверяет в драматическом действии, к чему приводит чрезмерная непосредственность: став рабом аффектов, игрушкой непозволительно чуткой чувственности, человек теряет власть над собой и в сомнамбулической безотчетности идет к неминуемой гибели. Убежище от окружающего социума грозит превратиться в западню. Гнет, царящий в обществе, бросает отсвет и на судьбу ее аутсайдеров. «Цыганское романсеро» — и гимн природе, и сигнал неблагополучия — ночь здесь не только пора волшебства, но и мрак, под покровом которого приближаются силы уничтожения и небытия. Тьма здесь воистину «ест людей», поглощает в непроглядном естественном лоне. * * * Однако в «Цыганском романсеро» проявляется и неудержимый порыв к свету жизни. Остановимся в этой связи хотя бы на одном романсе — «Сан Габриэль (Севилья)» 73. Сюжет романса гласит: Сан Габриэль (архангел Гавриил)—покровитель Севильи, которому цыгане подарили новое платье, в благодарность за это спешит оповестить одну из цыганок о грядущем рождении ребенка. Он сообщает Анунсиасьон де лос Рейес, что у нее будет сын, но предсказывает, что его убьют. Лорка использует здесь широко известный евангельский сюжет, трактуя его еретически-вольно. Если в церковной традиции Мария как «новая Ева» искупает грехопадение «первой Евы» 74 и, следовательно, Гавриил способствует преодолению фатальных последствий деяния первой женщины, связанного, согласно народному поверью, с чувственным соблазном, то у Лорки сам архангел представляет собой такой соблазн: Высокий и узкобедрый, стройней тростников лагуны, идет он, кутая тенью глаза и грустные губы, поют горячие вены серебряною струною, а кожа в ночи мерцает, как яблоки под луною. И нет ему в мире равных — ни пальмы в песках кочевий, ни короля на троне, ни в небе звезды вечерней. Если прибавить к этому еще туфли из лайковой кожи, о которых не забывает упомянуть поэт, то перед нами — законченный портрет смуглого (в оригинале сказано piel de nocturna manzana — кожа цвета яблока в темноте), фатоватого юного цыгана, собрата Антоньито эль Камборьо, о котором идет речь в двух следующих стихотворениях «Цыганского романсеро» 76. В сущности нет ничего неестественного, что перед ослепительным кавалером так благоговеет оборванка Анунсиасьон (в романсе дважды повторяется эпитет mal vestida). Обилие глаголов в настоящем времени подчеркивает, что визит юного фата к беднячке имеет место в наши дни. И вместе с тем нас не покидает ощущение того, что мы присутствуем при полном сакрального значения событии. Про «прекрасного юношу» несколько раз настойчиво говорится, что он святой и архангел; и важную роль в стихотворении играют три гвоздя — гвозди распятия Иисуса Христа 76; свят
|
|||
|