
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
ТАБЛИЦА 3 3 страница
СаМостьчленства_
49
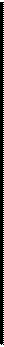
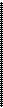
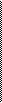

 ть языка и других символов. Однако никакого четкого разня между символом и обозначаемой вещью пока не делает-Следовательно, в каком-то смысле символ (то есть имя или кой-то иной образ) является вещью, и манипуляция с симво-ческим образом — такая, как произнесение имени вещи в со-тветспгвующей церемонии (изображающей зверей, на кото-пых предстоит охотиться, и тому подобное) — дает власть над соответствующими объектами. У дикаря, младенца и регрессивного невротика существует масса ритуалов для осуществления подобного магического контроля [34].
ть языка и других символов. Однако никакого четкого разня между символом и обозначаемой вещью пока не делает-Следовательно, в каком-то смысле символ (то есть имя или кой-то иной образ) является вещью, и манипуляция с симво-ческим образом — такая, как произнесение имени вещи в со-тветспгвующей церемонии (изображающей зверей, на кото-пых предстоит охотиться, и тому подобное) — дает власть над соответствующими объектами. У дикаря, младенца и регрессивного невротика существует масса ритуалов для осуществления подобного магического контроля [34].
Многие исследователи используют термины «магический» и «мифический», как взаимозаменяемые, что вполне приемлемо. Тем не менее я резервирую понятие «магический» для предыдущей стадии «магических образов» и чистого первичного процесса. С другой стороны, «мифическое», как мне кажется, лучше всего подходит для описания как раз этой стадии палеологики — более рафинированной, чем магия, но еще не вполне способной к логической ясности: мы будем называть это мифически-членской стадией. Хотелось бы, впрочем, добавить, что мифологическое мышление в его зрелых формах вовсе не является патологическим или искажающим действительность, а, скорее, соединяет с высшей фантазией (визионерский образ), раскрывая тем самым глубины реальности и высокие формы архетипического бытия, лежащего далеко за пределами обыденной логики. Тем не менее незрелая палеологика является бесконечным источником неразберихи в психике ребенка и ведет к множеству бед, многие из которых носят патологический характер.
Нельзя не сказать, что допричинное мышление является более или менее абстрактным, хотя оно складывается из рудимен-рных абстракций, прорывающихся сквозь мифические элемента палеологическом уровне, в противоположность фантаз-ческому уровню [предыдущей стадии развития, для которой терны только чистые образы], у человека появляется спо-сть к абстрагированию. Он умеет выделять схожие данные У нообразия объектов и может строить категории или классы ЛиГ| В' М Не Менее процесс абстракции далек от совершенства. Цел СтРагированная часть смешивается с целым, либо разные
цп„ ' КОторым принадлежат схожие части, ошибочно отождест-«шяются» /7/.
50
Глава
Таким образом, рудиментарная языковая формация и допри чинной мышление пропитывают все сознание этого раннего членского уровня. Но чем больше эволюционирует сам язык, тем скорее палеологика уходит на задний план, ибо «развитие речи постепенно трансформирует до-логическое мышление в логическое организованное и отрегулированное, и это решительный шаг в сторону принципа реальности» [46]. Паратаксис уступает место синтаксису.
На этой стадии очень важно, что по мере развития ребенком синтаксиса — этот процесс начинается именно здесь, — он приступает к реконструкции воспринимаемого мира окружающих его других людей. При помощи языка, грамматики и синтаксиса он узнает специфическое описание мира, которое его потом научат называть реальностью. К этому относятся проницательные слова дона Хуана:
«Для мага реальность, или мир, который мы все знаем, — это всего лишь описание этого мира».
Ради подтверждения этой предпосылки дон Хуан сосредоточил все свои усилия на приведении меня к подлинной убежденности, что то, что я воспринимал как окружающий меня мир, было просто его описанием, которое вдалбливали в меня с самого рождения.
Он указал, что всякий, кто входит в контакт с ребенком, является учителем, беспрерывно описывающим ему мир, вплоть до того момента, когда ребенок становится способным воспринимать мир так, как его описывают. Согласно дону Хуану, у нас не остается никаких воспоминаний об этом знаменательном моменте просто потому, что ни у кого из нас не могло быть никакой точки отсчета для сравнения его с чем-либо иным...
Для дона Хуана реальность нашей повседневной жизни состоит из бесконечного потока интерпретаций восприятия, которые мы, индивидуумы, разделяющие некое специфическое членство, научились делать одинаковым образом [70].
Итак, ребенок учится трансформировать и тем самым вать собственный поток восприятия в соответствии с принятьШ его культуре описанием [403]. Сначала он может только распознй вать свою новую культурно-согласованную реальность, но, в ко#

|
|
fwneT способен вспоминать ее от момента к моменту, чего мир-как-описание станет его высшей реальностью, и он,
r^rrRv вступит в лингвистическую область бытия. Это ре-по суЩсо ■'' J
лее для роста переживание имеет, однако, естественную тению делать предшествующие стадии более или менее недос-ными. Главнейшая причина забвения большинства детских пе-живаний заключается не столько в их насильственном подавле-(с некоторыми из них это действительно происходит), сколько том что они не соответствуют структуре культурно-согласованного описания, и потому у человека нет терминов, с помощью которых он мог бы их вспоминать.
Мы, разумеется, не собираемся осуждать язык, а лишь указываем на то, что ускоренный рост и эволюция сознания несут с собой много сложностей и потенциальных конфликтов. Ведь эволю-ция — как по внешней дуге, так и по внутренней дуге — сопровождается иерархической серией спонтанно возникающих новых структур, в общем случае следующих упорядоченно, от низших к высшим, и каждая вновь возникающая структура должна быть интегрирована и консолидирована с предшествовавшими структурами, а это задача не из легких. Ибо не только высшие структуры могут тяготеть к подавлению низших, но и низшие порой способны бунтарски подрывать и сокрушать высшие. Возникновение вербального ума — это просто классический пример более высокой структуры, обладающей потенциалом подавления всех низших, что может вести к самым плачевным последствиям.
Но, как мы уже говорили, возникновение самого языка — низшего или вербального ума — знаменует собой решительный рост в сознании, особенно по сравнению с предшествующей телес-и самостью простых физиологических состояний, восприятий и - оции. В частности, отметим, что благодаря употреблению языка К енок впервые может выстроить представление серии или после-телъности событий, и таким образом начинает конструиро-ир огромной временной протяженности. Он строит прочное е времени —- не просто длящееся настоящее воображаемых ны °В На пРеДЬ1ДУЩеЙ стадии), но линейную цепь абстракт-ско Редставлений, следующих от прошлого к будущему. «Поте Теперь возможно вербальное представление последова-o5De событий, добавляется временное измерение: человек свое первое понимание прошлого и будущего. Хотя нель-
52
Главе
зя еще точно измерить длинные периоды времени, прошлое и отно. сительно отдаленное будущее появляются как полноправные вре_ менные измерения» [7]. Или, как пишет Блюм с психоаналитической точки зрения, «речь вводит расширенную функцию ожидания поскольку события могут планироваться в мире слов» [46], так что согласно Феникелу, «благодаря развитию слов, время и ожидание становятся несравнимо более адекватными. Способность к речи превращает... предмышление в логическое, организованное и более отрегулированное мышление» [120].
Все сказанное выше можно кратко суммировать таким образом: возникновение вербального ума отмечает значимую транс-ценденцию тифонического тела ■— ограниченного настоящим тела простых, появляющихся от момента к моменту, чувств и впечатлений. Ум фактически начинает (но только начинает) выкристаллизовываться и дифференцироваться из тела, так же как на предыдущей стадии тело выделилось из материального окружения. С вербальным или низшим умом самость больше не ограничена и не скована настоящим, близоруким и косным. Сознание расширилось за счет символического языка, создающего образное пространство для ума, значительно превосходящее простой сенсорный охват.
Это, конечно, монументальное продвижение по кривой эволюции сознания, и шаг, до сих пор удавшийся только человеческому роду. Однако, как я попытался доказать в книге «Вверх от рая» [437], за каждое приобретение в сознании нужно платить определенную цену, и ребенок вскоре это обнаруживает. Ибо сразу же отметим, что сам язык несет в своих глаголах какую-то временную заданность, и потому неудивительно, что когда ребенок смотрит на мир глазами языка, он видит временной мир — и значит мир напряжения,11 где время и тревога являются синонимами (об этом знал Кьеркегор). Более того, он учится конструировать временное самоощущение и отождествляться с ним, обретает прошлое и смотрит в будущее. Цена за такой рост в сознании — признание соост-веиной отдельности, а значит, и уязвимости. Ребенок начинает во все большей степени пробуждаться из дремоты в подсознании, -"
 " Игра слов. Англ. «tense» переводится как «грамматическое время» как «напряжение». Здесь подразумевается некая символическая сопряя>'е ность этих двух значений слова «tense». —Прим. перев.
" Игра слов. Англ. «tense» переводится как «грамматическое время» как «напряжение». Здесь подразумевается некая символическая сопряя>'е ность этих двух значений слова «tense». —Прим. перев.

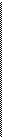
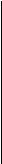
 - сказать, выброшен из райского состояния неведения и дове-°Н' мир разделенности, изоляции и смертности. Ри т м образом, вскоре после обретения языка, и в редких слу-аньше, каждый ребенок проходит через продолжительный кошмаров, — пробуждаемый от сна видениями кровавого Л а Живо переживающий неискоренимый ужас собственного , ельного сушествования, потрясенный первобытным насилием, всегда таящимся под поверхностью отдельной самости.
- сказать, выброшен из райского состояния неведения и дове-°Н' мир разделенности, изоляции и смертности. Ри т м образом, вскоре после обретения языка, и в редких слу-аньше, каждый ребенок проходит через продолжительный кошмаров, — пробуждаемый от сна видениями кровавого Л а Живо переживающий неискоренимый ужас собственного , ельного сушествования, потрясенный первобытным насилием, всегда таящимся под поверхностью отдельной самости.
С позитивной же стороны,, наряду с тем, что вербальная последовательность позволяет ребенку связывать время и конструировать временной мир, членом которого он становится, она способствует повышению его способности задерживать, контролировать, направлять и откладывать ранее импульсивные и неконтролируемые действия. Согласно Ференчи, «речь... ускоряет сознательное мышление и вытекающую из него способность к задерживанию моторной разрядки» [46]. Ребенок должен постичь и вспомнить мир времени, понять прошлое и будущее в абстрактных терминах, чтобы быть способным активно управлять своими реакциями на этот мир. То есть «активное владение собой» и «самоконтроль» тесно зависят от времени и временной определенности, равно как и от роста мастерства в овладении телесной мускулатурой [108], [243]. Развитие активного владения собой есть «постепенное замещение простых реакций разрядки действиями. Это достигается за счет введения какого-то периода времени между стимулом и реакцией» [130].
Согласно юнгианской точке зрения, это «задерживание реакции и устранение эмоционального компонента происходит параллельно с расщеплением архетипа на группы символов» [194], ]■ Таким образом самость на этой стадии учится «дробить ши-ое содержание на частные аспекты и переживать их постепенно, за другим», иначе говоря, в линейной последовательности во Ка fHH' Однако, утверждает Нейман, эта дифференциация «ни в ^ мере не является негативным процессом», потому что только омощью можно заместить неконтролируемую эмоциональ-Жае КТИвность ростом сознания. «По этой причине, — продолжу ' есть глубокий смысл в тенденции отделять [немедленно р, НСТИнктивнУю] реакцию от вызывающего ее перцептуаль- а ССТЬ вводить временной интервал между инстинк-ткликом и образным стимулом]. Если возникновение ар-
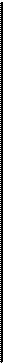 54
54

хетипа не сопровождается немедленным инстинктивным, т4дрным действием, то тем лучше для сознательного развития, ибг результатом вмешательства эмоционально-динамических компонентов является нарушение или даже предотвращение... созна-пня» [279].
Язык не только помогает устанавливать реальность своего членства в мире и самость более высокого порядка, он также служит главным передаточным средством, через которое поступает обычно от родителей, информация о действиях, приемлемых в мире. При помощи слова-и-мысли ребенок интернализует, переносит внутрь себя ранние родительские запреты и требования, тем самым создавая то, что по разному называли «предсовестью» (Феникел), «сфинктерной моралью» (Ференчи), «ранним моральным Супер-» "эго"» (Ранк), «пред-Супер-«эго», «предвестниками Супер-«эго»,| «висцеральной этикой» или «внутренней матерью». Отметим,^ впрочем, что на данной стадии «внутренняя мать» является уже не( просто сплетением образов, как Великая Мать на стадии образа-тела, но также и комплексом вербальных представлений. Это уже не просто неявное образование, оно содержит в себе определенную , информацию в явной форме. Однако, поскольку ему недостает высокой организации и прочной связности, оно будет вырождаться, если в реальной действительности не присутствует соответствующая авторитетная фигура [120], [243], [343].
Язык и возникающая функция абстрактного мышления в огромной степени расширяют эмоциональный и волевой мир ребенка, ибо эмоции теперь могут свободно развертываться в мире времени и возбуждаться временем — впервые становится возможным испытывать и смутно артикулировать специфические временные желания и конкретные временные проявления неприязни. Возможности выбора также предоставлены осознанию ребенка, ибо в мире времени вещи уже не «просто случаются» (как в тифонических областях), а предлагают множество вариантов, которые можно привлекать выборочно. Только в пространстве языка вы можете пр0' изнести слово «или...». «Должен ли я сделать это ИЛИ я должен сделать то?» Таким образом, здесь мы обнаруживаем корни прот°' воли и волеизъявления, трансформировавшиеся из более расплЫВ-чатого и глобального хотения предыдущего уровня.
По нескольким признакам эта стадия соответствует анальн садистическому периоду, описанному в психоанализе. (Строго г
 япьная стадия сама по себе относится лишь к либидозному, анальи
япьная стадия сама по себе относится лишь к либидозному, анальи
или эмоционально-сексуальному развитию, а его
п пан
^павнивать ни с развитием «эго», ни с познавательным раз-
Тем не менее, поскольку в данной книге я не дифференци-
ВИТИбМ.
ячличные линии развития, анальная стадия включена в опи-
е этого этапа, потому что именно здесь она чаще всего разви-
Точно так же я включу фаллическую стадию в обсуждение
ально-эгоического ур0ВНЯ в следующей главе.) Специфиче-
' кими для этого уровня страхами считаются страх лишиться тела
Гфекалии) и страх телесных увечий [120]. Мы подробно исследуем
последний, когда будем рассматривать динамику эволюции, так
как он играет крайне важную роль. И наконец, Эрик Эриксон,
представляя психоанализ, добавляет, что конфликты на данном
этапе касаются борьбы чувства автономии против чувств сомнения
и стыда, иными словами, как ребенок будет себя чувствовать в
этом новом мире членства и выбора [108].
В целом, самоощущение на рассматриваемом этапе остается в чем-то тифоническим, но уже в меньшей мере; самость приступает, — пока лишь приступает, — к дифференциации от тела. Текучие образы «хорошего меня» и «плохого меня», характерные для предыдущего этапа, организуются в рудиментарное лингвистическое самоощущение — в самость членства [в мире языка и культуры], самость временной определенности, самость слова-и-мысли.
| САМОСТЬ ВЕРБАЛЬНОГО ЧЛЕНСТВА | |
| познавательный стиль | аутический язык; палеологическое и мифическое мышление, познание своего членства в мире |
| формы эмоционального проявления | временные желания, расширенные и специфические случаи приязни и неприязни |
| золевые или моти-^ОДтшы^факторы Формы времени | прото-воля, корни волеизъявления и автономного выбора, принадлежность |
| сцепление времени, структурирование времени, прошлое и будущее | |
| Разновидность самости | вербальная, определенная во времени и культурно-согласованная самость |
56
Глава 4
 Вербальный Ум: резюме
Вербальный Ум: резюме
Как мы увидели, на этом этапе из простого телесного «эго» начинают возникать и постепенно выделяться подлинные умственные или концептуальные функции. С развитием языка ребенок вводится в мир символов, идей и понятий, и таким образом постепенно поднимается над флуктуациями простого, инстинктивного, непосредственного и импульсивного телесного «эго». Помимо всего остального, язык приносит с собой расширенную способность рисовать себе последовательности вещей и событий, которые непосредственно не представлены телесным органам чувств. «Язык -— это средство иметь дело с не-явленым миром», — как сказал Роберт Холл, — и до некоторой степени с таким, который бесконечно превосходит мир простых образов [176].
Тогда, по тому же признаку, язык есть средство трансценден-ции наличного мира. (В более высоких областях сознания язык сам трансцендируется, но чтобы достичь трансвербальности, нужно идти от довербального к вербальному. Здесь мы говорим о транс-цендеиции довербального вербальным, которая, хотя и составляет лишь половину дела, все равно становится экстраординарным достижением.) При помощи языка можно предвосхищать и планировать будущее и вести свою деятельность в настоящем с расчетом на завтра, то есть можно задерживать или контролировать телесные желания и активность в настоящем. То есть, речь идет о «постепенном замещении простых реакций разрядки действиями. Достигается это за счет введения промежутка времени между стимулом и реакцией» [120]. Благодаря языку и его символическим временным структурам, человек может отсрочить незамедлительную и импульсивную разрядку простых биологических побуждений. Он уже не полностью подвластен инстинктивным требованиям, а способен до некоторой степени контролировать их. И это означает, что самость приступает к отделению от тела и возникает как ментальное или вербальное или синтаксическое бытие.
Отметим еще раз ту триаду, которую мы ввели в предыдущей главе: когда ментальная самость возникает и при помощи языка дифференцируется от тела, она трансцендирует последнее и потому может оперировать им, используя собственные ментальные структуры, как инструменты (она способна задерживать немедленную телесную разрядку и отсрочивать удовлетворение ин-
Самость членства
57

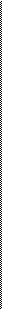
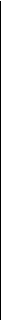
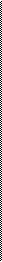
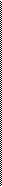
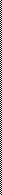 стинктов, применяя вербальные вставки). Одновременно это позволяет начать сублимацию эмоционально-сексуальной телесной энергии в более тонкую, сложную и развернутую активность. Эта триада дифференциации, трансценденции и оперирования составляет, как мы дальше увидим, единственную, самую фундаментальную форму развития, повторяющуюся на всех стадиях роста и ведущую — насколько нам известно — прямо к самому Высшему и Предельному.
стинктов, применяя вербальные вставки). Одновременно это позволяет начать сублимацию эмоционально-сексуальной телесной энергии в более тонкую, сложную и развернутую активность. Эта триада дифференциации, трансценденции и оперирования составляет, как мы дальше увидим, единственную, самую фундаментальную форму развития, повторяющуюся на всех стадиях роста и ведущую — насколько нам известно — прямо к самому Высшему и Предельному.
МЕНТАЛЬНО-ЭГОИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ
По целому ряду причин самоощущение ребенка сосредоточивается вокруг его синтаксической культурно-согласованной познавательной способности и тесно связанных с ней эмоциональных проявлений, мотиваций и фантазий. Ребенок переносит свою центральную самотождественность с тифонических областей на вербальные и ментальные. Паратаксис умирает и начинает развиваться синтаксический, вторичный процесс, и линейное, концептуальное, абстрактное, вербальное мышление решительно вмешивается в каждый элемент осознания. В итоге самость перестает быть лишь быстротечным аморфным образом или констелляцией образов самого себя, простым словом или именем, а становится более высоко организованным единством слуховых, вербальных, диалоговых и синтаксических концепций себя, которое, будучи вначале зачаточным и расплывчатым, быстро консолидируется.
За исключением самых ранних фаз развития, когнитивное состояние индивида определяет большую часть изменений, происходящих в его психодинамической жизни. Именно это состояние заново прорабатывает прошлый и настоящий опыт и в значительной мере меняет его эмоциональные ассоциации. Среди мощных эмоциональных сил, которые мотивируют или будоражат людей, многие поддерживаются или даже порождаются сложными символическими процессами. Индивидуальные чувства — понятия личной значимости, самотождественности, роли в жизни или самоуважения не могли бы существовать без таких сложных познавательных конструкций... Понятия входят в образ самости и в
Менталъно-эгоические области
59

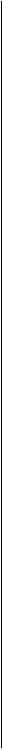
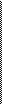
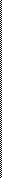
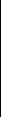
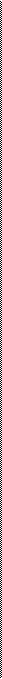
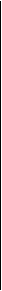
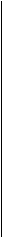 значительной мере создают его. Человек на [синтаксическом] концептуальном уровне развития видит себя самого уже не как физическую сущность или имя, а как вместилище понятий, относящихся к его собственной личности... Думая, чувствуя и даже действуя, он теперь больше интересуется понятиями, а не вещами [7].
значительной мере создают его. Человек на [синтаксическом] концептуальном уровне развития видит себя самого уже не как физическую сущность или имя, а как вместилище понятий, относящихся к его собственной личности... Думая, чувствуя и даже действуя, он теперь больше интересуется понятиями, а не вещами [7].
Феникел говорит об этом так: «Решающий шаг в направлении консолидации сознательной части «эго» происходит в тот момент, когда к более архаичным ориентациям добавляется слуховая концепция слов» [120]. Такая слуховая, концептуальная, синтаксическая самость представляет собой собственно эгоиче-ский уровень, содержащий в себе почти все аспекты самоощущения, включая эмоциональные и волевые факторы, прочно встроенные в культурно-согласованное мышление и концептуальное познание.
«Эго», в том смысле, в каком я использую этот термин, по нескольким важным признакам отличается от прочих форм самоощущения. Если уроборос был доличностной самостью, тифон — растительной, а членская [культурно-согласованная] самость — самостью имени-и-слова, то сердцевина «эго» — это мысленная самость, само-концепция. «Эго» является концепцией самого себя или совокупностью таких концепций вместе с образами, фантазиями, отождествлениями, воспоминаниями, субличностями, мотивациями, идеями и информацией, относящейся к отдельной концепции себя или связанной с ней. Следовательно, как утверждает психоанализ, «здоровое «эго» — это более или менее «правильная концепция самого себя», то есть такая, в которой учтены разнообразные и часто противоречивые тенденции «эго» [119]. Кроме того, «эго», хотя и дифференцируется от тела, однако тесно связано с произвольной мускулатурой тела, так что при патологических состояниях «эго» чаще всего наблюдаются соответствующие мышечные дисфункции [249]. Таким образом, эгоическо-синтаксический уровень подчинен концептуальному познанию и характеризуется трансценденцией тифонического тела.
Стадия «эго»-концепции, начало которой похоже на фаллическую (или локомоторно-генитальную) стадию в психоанализе, знаменует также окончательное появление настоящего Супер-«эго» [46], [108]. (Как я указывал выше, сама фаллическая стадия относится к тифоническим, телесным областям, но, как правило, на-
60
Глава 5
 блюдается в сочетании с возникновением раннего «эго» и истинного Супер-«эго». Поскольку я не дифференцирую различные линии развития, то ранний эгоический период в этой книге будет трактоваться как огоическо-генитальный.) Супер-<ого» — это интернали-зованный или интроецированный из слухового восприятия вер-бально-концептуальный набор внушений, команд, предписаний и запретов, обычно усваиваемый от родителей [120]. Интернализо-ванная идея или понятие Родителя включает в себя родительские отношения, чувства и мысли относительно самого ребенка (или скорее, то, как их понимает ребенок). Другими словами, интерна-лизуется не столько сам родитель, сколько взаимоотношения между родителем и ребенком [244], так что если воспользоваться соответствующими терминами транзактного анализа, можно сказать, что Родитель и Ребенок являются коррелятивными структуры внутри «эго». В психике они опираются друг на друга. (Этот факт обычно упускают из виду в классическом анализе, что позволило Фрицу Перлзу однажды сказать, что Фрейд «как всегда, был прав лишь наполовину»: он ввел понятие Супер-«эго», но забыл об инфра-«ого») [291]. Ведь если ребенок концептуально интернализует родителей, то одновременно он фиксирует и связывает те взаимоотношения, которые у него, как ребенка, складываются с родителями, и которые у них, как родителей, складываются с ним. Таким образом, взаимоотношения между родителем и ребенком, частью традиционные, частью воображаемые, становятся стабильной связью внутри эго [243]. Это отличительная черта эгоического уровня.
блюдается в сочетании с возникновением раннего «эго» и истинного Супер-«эго». Поскольку я не дифференцирую различные линии развития, то ранний эгоический период в этой книге будет трактоваться как огоическо-генитальный.) Супер-<ого» — это интернали-зованный или интроецированный из слухового восприятия вер-бально-концептуальный набор внушений, команд, предписаний и запретов, обычно усваиваемый от родителей [120]. Интернализо-ванная идея или понятие Родителя включает в себя родительские отношения, чувства и мысли относительно самого ребенка (или скорее, то, как их понимает ребенок). Другими словами, интерна-лизуется не столько сам родитель, сколько взаимоотношения между родителем и ребенком [244], так что если воспользоваться соответствующими терминами транзактного анализа, можно сказать, что Родитель и Ребенок являются коррелятивными структуры внутри «эго». В психике они опираются друг на друга. (Этот факт обычно упускают из виду в классическом анализе, что позволило Фрицу Перлзу однажды сказать, что Фрейд «как всегда, был прав лишь наполовину»: он ввел понятие Супер-«эго», но забыл об инфра-«ого») [291]. Ведь если ребенок концептуально интернализует родителей, то одновременно он фиксирует и связывает те взаимоотношения, которые у него, как ребенка, складываются с родителями, и которые у них, как родителей, складываются с ним. Таким образом, взаимоотношения между родителем и ребенком, частью традиционные, частью воображаемые, становятся стабильной связью внутри эго [243]. Это отличительная черта эгоического уровня.
Иначе говоря, на данной стадии прежние межличностные взаимоотношения становятся внутрипсихическими структурами, что происходит благодаря вербальной концептуализации. То есть, развитие даже рудиментарных форм концептуального или синтаксического подхода несет с собой способность принимать абстрактные роли, и это решающий пункт в развитии «эго». «Диалектика личностного роста» у Болдуина [20], «Другое» и «стадия зеркала» у Лакана [236], «зеркальная самость» Кули [82], «принятие роли других» у Кольберга [229], «конкретный другой» и «обобщенный другой» у Мида [267], — все эти концепции указывают на «внутренний ролевой диалог как социальный источник самости» [243]. Важнее всего, что это — «ролевой диалог ребенка против родителя, импульса против контроля, зависимости против владения со-
0ентально-эгоические области
61

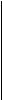
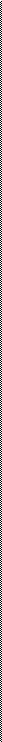
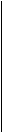
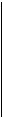
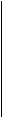
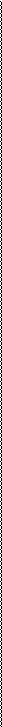
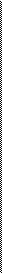
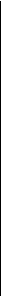
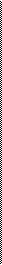
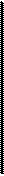
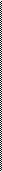 бой, причем все сразу и вместе. Всякий раз, когда происходит принятие роли другого, «эго» ребенка и его «внутренний другой» соответствующим образом усложняются» [243].
бой, причем все сразу и вместе. Всякий раз, когда происходит принятие роли другого, «эго» ребенка и его «внутренний другой» соответствующим образом усложняются» [243].
Итак, происходит решающая «внутренняя дифференциация структуры «эго» на Родителя и Ребенка, на Супер-«эго» и инфра-«эго», на «победителя» и «побежденного» (наряду с другими субличностями, слишком многочисленными для подробного обсуждения). Интернализованные Родитель-и-Ребенок суть взаимоотношения, укорененные в специфической ретрофлексии [418]. Ведь ребенок принимает роль Родителя по отношению к себе, оборачивая на себя те понятия и аффекты, которые не допустимы для Родителя. Например, если родитель неоднократно бранит ребенка за его несдержанность, рано или поздно последний начинает отождествляться с ролью Родителя и бранить сам себя за свои вспышки. Таким образом, вместо родителя, физически контролировавшего допустимость тех или иных импульсов, ребенок начинает контролировать их сам [292]. Он может хвалить себя, что приводит к гордости, или осуждать, что порождает вину [120]. Суть в том, что, принимая роль Родителя по отношению к самому себе, ребенок обретает способность разделять «эго» на несколько разных сегментов, каждый из которых сначала (но только сначала) базируется на оригинальных межличностных отношениях ребенка с родителем. Их внешние отношения становятся, таким образом, внутренними — между двумя различными субличностями «эго». Межличностное стало внутриличностным, так что «эго»-состояния Родителя и Ребенка превращаются в сеть взаимопересекающихся ретрофлексии и интернализованных диалогов [418].
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|