
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
КНИГА ШЕСТАЯ 1 страница
II
Когда Матье принялся за тайные розыски, его первой мыслью было, еще до разговора с Бошеном, обратиться непосредственно в воспитательный дом. Если ребенок, как он предполагал, умер, на этом история будет закончена. К счастью, он помнил все подробности: имя ребенка – Александр‑Оноре, точную дату отправки его в воспитательный дом, все незначительные события того дня, когда он отвез Софи Куто на вокзал. Его принял директор, и Матье, назвав себя, сообщил ему подлинную причину своих розысков. Как же он был поражен, когда получил быстрый и точный ответ: Александр‑Оноре, отданный на воспитание кормилице, некоей тетушке Луазо из Ружмона, сначала пас коров, затем решил стать слесарем, а последние три месяца состоит в обучении у каретника, г‑на Монтуара, в Сен‑Пьере, деревушке по соседству. Ребенок жив, ему исполнилось пятнадцать лет, и это все – больше никаких сведений ни о его физических данных, ни о его моральном облике Матье получить не удалось.
Очутившись на улице, Матье, несколько ошеломленный всей этой историей, припомнил, что тетушка Куто действительно рассказывала ему со слов одной сиделки, будто мальчика собирались отправить в Ружмон. А ему представлялось, что он умер, что его унесло поветрием, скосило, как и других новорожденных, покоившихся на тихом деревенском кладбище, заселенном маленькими парижанами. То, что мальчик нашелся, избежал гибели, было, конечно, даром судьбы, но вызывало в сердце Матье какую‑то смутную тревогу, словно в предчувствии еще более страшной катастрофы. Но поскольку ребенок был жив и Матье знал теперь, где его искать, он усомнился, имеет ли право продолжать поиски, не предупредив Бошена. Дело принимало серьезный оборот, и Матье не считал возможным действовать дальше без согласия отца.
Тотчас же, не заезжая в Шантебле, он отправился на завод, где ему посчастливилось встретить самого хозяина, который вынужден был сидеть в конторе, так как Блез отсутствовал. Поэтому Бошен был в самом мрачном настроении, зевал, тяжело отдувался, борясь с дремотой. Уже три часа дня, сказал Бошен, и если после завтрака он не совершит прогулки, у него нарушится пищеварение. На самом же деле после разрыва с женой Бошен отдавал все свое послеобеденное время девице из пивной, для которой он обставил квартирку.
– Ах, милый друг! – вздохнул он, потягиваясь. – У меня определенно застоялась кровь. Мне необходимо поразмяться, не то я просто погибну.
Однако он позабыл о сне, едва только Матье без долгих слов объяснил ему мотивы своего визита. Сначала Бошен ничего не понял, настолько вся эта история показалась ему странной и нелепой.
– Что? Что вы сказали? Моя жена сама заговорила с вами об этом ребенке? Это ей пришла блестящая мысль разыскать его, наводить справки?
Его отекшее, багровое лицо исказилось, он бормотал что‑то, не помня себя от злости. А когда он окончательно уяснил, какое поручение Констанс дала своему кузену, он взорвался:
– Да она сумасшедшая! Я же вам говорю, у нее буйное помешательство! Видали вы что‑нибудь подобное? Каждое утро какая‑нибудь новая выдумка, новая пытка, и все для того, чтобы свести меня с ума!
Матье спокойно продолжал:
– Я сейчас из воспитательного дома, там я узнал, что ребенок жив. У меня есть адрес… Что мне теперь делать?
Это сообщение подействовало на Бошена словно удар дубиной. Он отчаянным жестом сжал кулаки и воздел их к потолку.
– Только этого недоставало! Вот до чего мы докатились!.. Но черт возьми, что она привязалась ко мне с этим ребенком? Он же не ее, пусть оставит нас в покое, ребенка и меня! Дети, которых я делаю, никого, кроме меня, не касаются. Скажите на милость, прилично ли, что моя жена заставляет вас бегать и разыскивать их? Ну, а потом что? Надеюсь, вы не собираетесь привезти его к нам? Что мы будем делать с этим деревенским малым, который, возможно, наделен всеми пороками? Представьте себе его и нас обоих. Я же вам говорю, что она сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая!
И Бошен в ярости принялся шагать по комнате. Вдруг он остановился.
– Дорогой мой, сделайте одолжение, скажите ей, что мальчик умер.
Внезапно он побледнел и попятился: у порога стояла Констанс, она слышала все. С некоторого времени она взяла себе в привычку бесшумно бродить по заводским помещениям, появляться то там, то тут, словно кого‑то выслеживая. С минуту она в молчании стояла перед растерявшимися мужчинами. Потом, не обращаясь к мужу, просто спросила:
– Если не ошибаюсь, он жив?
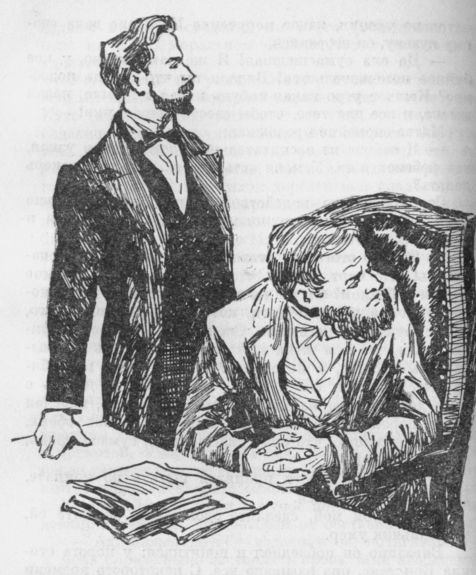
Матье не оставалось ничего другого, как сказать правду. Он утвердительно кивнул головой. И Бошен, в отчаянии, решил сделать последнюю попытку:
– Послушай, друг мой, будь благоразумна. Я как раз говорил Матье, что мы ведь даже не знаем, что он собой представляет, этот малый. Зачем же отравлять себе жизнь?

Она сурово и сухо взглянула на мужа, не нарушая своего ледяного молчания. Затем повернулась к нему спиной и потребовала, чтобы Матье сказал ей имя ребенка, фамилию каретника и название деревушки.
– Отлично! Вы говорите, Александр‑Оноре живет у каретника Монтуара в Сен‑Пьере, около Ружмона в Кальвадосе… Так вот что, друг мой! Окажите мне услугу и постарайтесь добыть точные сведения о привычках и характере этого ребенка. Будьте, конечно, осторожны, не называйте никого… Благодарю вас, заранее благодарю за все, что вы для меня делаете!
И она ушла, ничего не объяснив, не сказав мужу о своих планах, быть может, еще настолько смутных, что сама не разбиралась в них. Бошен, подавленный презрением жены, быстро оправился. К чему он, беспечный эгоист, будет портить себе жизнь и потворствовать безумным идеям своей супруги?
Он взялся за шляпу, намереваясь пойти туда, где его ждали привычные удовольствия. Пожав плечами, он сказал:
– Ну и пусть берет его! Не моя вина, если она совершит эту глупость… Послушайтесь ее, продолжайте поиски, успокойте ее… Даст бог, оставит меня в покое… А на сегодня с меня довольно, будьте здоровы! Я ухожу.
Первой мыслью Матье было обратиться за всеми справками о Ружмоне к тетушке Куто, если только ему удастся ее найти. Она скрытна уже по самой своей профессии, и молчание ее можно легко купить. Он решил завтра же заглянуть на улицу Миромениль к г‑же Бурдье, чтобы навести у нее справки о тетушке Куто, но тут ему пришла в голову мысль пойти по другому следу, который показался ему более надежным. Приобретя в свое владение все Шантебле, он довольно долго не видался с Сегенами и только недавно благодаря некоторым особым обстоятельствам возобновил с ними отношения. Каково же было его удивление, когда он встретил у них Селестину, прежнюю горничную Валентины, некогда изгнанную с позором и несколько месяцев назад вновь попавшую в милость. Основываясь на старых воспоминаниях, он решил, что через Селестину прямехонько доберется до тетушки Куто.
Вновь завязавшиеся добрые отношения между Сегенами и Фроманами были результатом счастливого стечения обстоятельств. Амбруазу, родившемуся вскоре после близнецов Блеза и Дени, шел теперь двадцать первый год; сразу же после окончания лицея, в возрасте восемнадцати лет, он поступил к дядюшке Сегена, Тома дю Орделю, одному из богатейших комиссионеров Парижа. За эти три года Тома дю Ордель, – еще крепкий старик, несмотря на свой весьма преклонный возраст управлявший делами фирмы с истинно молодым пылом, – проникся глубокой симпатией к одаренному юноше, настоящему коммерческому гению. У старика дю Орделя было две дочери: одна умерла в раннем детстве, другая была замужем за сумасшедшим, который пустил себе пулю в лоб, оставив жену бездетной и тоже полупомешанной. Этим‑то и объяснялась живая симпатия дю Орделя, которому так и не суждено было стать дедом, к Амбруазу, посланному ему небом, самому красивому из всех Фроманов, румяному юноше, с большими черными глазами, вьющимися темными, волосами, необычайно изящному и остроумному. Но больше всего пленяла старика необыкновенная деловая сметка Амбруаза, знание четырех европейских языков, которыми он овладел шутя, и коммерческая хватка – необходимое качество для руководства фирмой, торговавшей со всеми пятью частями света. Еще ребенком Амбруаз был самым смелым, самым обаятельным из всех своих братьев и сестер. Возможно, они были и лучше его, но он выделялся среди них, этот красивый мальчуган, честолюбец, лакомка, жизнелюб и будущий победитель. Так оно и оказалось: за несколько месяцев он покорил старика дю Орделя обаянием своего блестящего ума, так же как позднее ему предстояло покорять всех, кого он встречал на своем пути. Сила его была в умении нравиться и действовать, в упорном, но в то же время изящном трудолюбии.
К этому времени произошло сближение между Сегеном и его дядюшкой, который перестал появляться в особняке на проспекте Д’Антен с того дня, как там поселилось безумие. Впрочем, это внешнее примирение произошло только в результате драмы, сохранившейся в глубокой тайне. Погрязший в долгах, покинутый Норой, предчувствовавшей скорое разорение, Сеген попал в лапы алчных девок и в конце концов докатился до того, что совершил на скачках один из тех неблаговидных поступков, которые в кругу порядочных людей называются кражей. Когда дю Ордель узнал об этом, он тотчас же явился и уплатил всю сумму сполна, дабы предупредить скандал, но полный крах дома племянника, где еще недавно царило благополучие, так потряс старика, что его охватило чувство острого раскаяния, точно он счел себя ответственным за все, что произошло здесь с тех пор, как он из эгоистических побуждений, не желая нарушать свой покой, устранился от их дел. В особенности же пленила его Андре, внучатая племянница, очаровательная восемнадцатилетняя девушка, почти невеста, и, привязавшись к ней, старик стал бывать в доме Сегенов, встревоженный тем, что его любимица оставлена на произвол судьбы, а это могло привести к самым плачевным последствиям. Отец где‑то пропадал, Валентина, мать Андре, только что начала оправляться после страшного потрясения – окончательного разрыва с Сантером, который решил порвать обременительные семейные узы, не скрашенные выгодами брака, и женился на очень богатой пожилой даме; так и должен был поступить этот хитрец, который использовал женщин в своих интересах и искусно скрывал подлую и жадную душонку за позой писателя‑пессимиста, наживавшегося на глупости разлагающегося общества. Растерянная и страдающая оттого, что ее больше не любят, Валентина, которой уже исполнилось сорок три года, целиком отдалась церкви, где, как ей казалось, она найдет утешение в обществе порядочных людей. Теперь и она отсутствовала по целым дням, – говорили, что она стала деятельной сотрудницей графа де Навареза, председателя Общества католической пропаганды. Гастон, окончив три месяца назад лицей Сен‑Сир, поступил в Сомюрское училище и был настолько упоен военной службой, что дал зарок никогда не жениться, ибо, по его словам, офицеру не пристало иметь другой любви, другой законной жены, кроме шпаги. В девятнадцать лет Люси поступила наконец в монастырь к урсулинкам, где собиралась принять постриг, радуясь, что может принести в жертву свое тело, отвращение к которому доводило ее чуть ли не до безумия; уподобившись бесплодной смоковнице, презрев свою плоть и свой пол, она мечтала без помех отдаться мистической экзальтации. И в огромном пустом особняке, где гулял вихрь безумия, в доме, покинутом отцом, матерью, братом и сестрой, оставалась одна только нежная и очаровательная Андре, брошенная на произвол судьбы, и дядюшке дю Орделю, по‑прежнему жалевшему и любившему девушку, пришла блестящая мысль – дать ей в мужья будущего завоевателя, Амбруаза.
Возвращение Селестины в дом Сегенов ускорило осуществление этих матримониальных планов. Прошло уже восемь лет с тех пор, как Валентина вынуждена была уволить горничную, забеременевшую в третий раз и не сумевшую скрыть свою пополневшую талию. В течение этих восьми лет Селестина, не желая больше связывать себя опостылевшей службой, испробовала множество подозрительных профессий, о которых предпочитала не говорить. Вначале она тайком занималась продажей беременным девицам пеленок по низким ценам, что позволило ей проникать к акушеркам и выполнять там роль то наперсницы, то комиссионерши, то посредницы, услуги которой подчас щедро оплачивались; затем, более гласно, она устроилась служанкой в доме терпимости и вошла в компанию с Куто, которая привозила из Нормандии вместе с кормилицами молодых, хорошеньких и услужливых крестьянок. Но в доме случилась беда, и Селестина, спасаясь от преследований полиции, скрылась, выпрыгнув из окна. Затем она на целых полтора года исчезла, словно в воду канула, и наконец появилась в Ружмоне, у себя на родине, больная, несчастная, жалкая, вынужденная работать поденно, лишь бы не умереть с голода. Благодаря покровительству священника, которого Селестина покорила своей необычайной благочестивостью, она постепенно оправилась, немного приоделась. К этому времени у нее возник план вернуться к Сегенам; о том, что там происходит, ей было известно от тетушки Куто, которая поддерживала добрые отношения с г‑жой Мену, владевшей по соседству маленькой галантерейной лавочкой. Назавтра после разрыва с Сантером, когда в минуты жестокого отчаяния Валентина снова уволила всех своих слуг, невесть откуда появилась раскаявшаяся Селестина с выражением такой преданности и вины на лице, что тронула сердце хозяйки. Валентина напомнила Селестине о ее проступке, чем довела служанку до слез, и потребовала, чтобы та клятвенно обещала никогда больше не поддаваться соблазну, – Селестина теперь исповедовалась, причащалась и даже привезла от ружмонского священника свидетельство о своем глубоком благочестии и высокой нравственности. Этот документ окончательно убедил Валентину; она вполне отдавала себе отчет, какой неоценимой помощницей ей, испытывавшей все большее отвращение к домоводству, уставшей от вечных беспорядков, будет эта девушка. Именно на это и рассчитывала Селестина, понимая, что при такой неразберихе ей удастся снова прибрать дом к рукам. Двумя месяцами позже она, разжигая религиозный фанатизм Люси, ускорила ее уход в монастырь. Гастон появлялся лишь тогда, когда получал увольнительную. И только одна Андре оставалась в доме, и ее присутствие мешало Селестине выполнить задуманный план и начать постепенное ограбление дома. Горничная стала, таким образом, самой деятельной сторонницей замужества мадемуазель Андре.
Впрочем, Амбруаз покорил Андре, как и всех, с кем его сталкивала жизнь. Уже в течение целого года она встречала его у своего дядюшки дю Орделя еще задолго до того, как тому пришла мысль поженить молодых людей. Андре была большим и ласковым ребенком, беленькой овечкой, как называла ее мать. Красивый, всегда улыбающийся юноша, проявлявший к ней столько нежности, стал ее мечтой, единственным прибежищем, где можно было укрыться от одиночества и семейных дрязг. Брат уже не угощал ее тумаками, как в детстве, но Андре чувствовала, что разлад в распавшейся семье все усугубляется, она знала, что здесь ей грозит нечто постыдное и низкое, хотя и не понимала, в чем заключается угроза. И потому, когда дядя, мечтая довести дело спасения племянницы до конца, осторожно стал расспрашивать ее, как она отнесется к браку с Амбруазом, девушка бросилась ему на шею со слезами благодарности, молчаливо признавшись в своем чувстве. Извещенная об этом Валентина сначала несколько удивилась: сын Фромана? Раньше они отняли у них Шантебле, а теперь хотят отнять дочь? Но она не сумела найти ни одного разумного возражения перед лицом угрозы окончательного разорения, которое ожидало семью. Она никогда не любила Андре и утверждала, что кормилица Катиш, безответная, как жвачное животное, вскормив ее своим молоком, превратила девочку в свое подобие, что Андре пошла не в Сегенов, как в сердцах нередко заявляла мать. Делая вид, что она заступается за девушку, Селестина восстанавливала мать против дочери: чем быстрее сыграют свадьбу, внушала она Валентине, тем быстрее развяжут мадам руки, дадут ей возможность посвятить себя иным занятиям. И дю Ордель, переговорив с Матье, который пообещал дать согласие на брак, решил заручиться поддержкой Сегена, прежде чем родители Амбруаза официально попросят для сына руки девушки. Но не так легко оказалось встретиться с Сегеном в приличествующей случаю обстановке. Целые недели ушли на поиски. Родителям приходилось успокаивать Амбруаза, этого истинного завоевателя, который был пылко влюблен и, вероятно, предчувствовал, что Андре, нежное и бесхитростное дитя, принесет с собой целое царство любви, которой дышала каждая складочка ее платья.
Однажды, проходя по проспекту Д’Антен, Матье решил зайти справиться, не появлялся ли Сеген, внезапно уехавший в Италию. Но так как он очутился с глазу на глаз с Селестиной, случай показался ему вполне подходящим, чтобы расспросить ее о тетушке Куто. Поговорив о кое‑каких пустяках, он наконец осведомился о комиссионерше, сказав, что один из его друзей ищет хорошую кормилицу.
– Вы пришли очень кстати, – любезно ответила горничная, – тетушка Куто должна сегодня привезти ребенка нашей милой соседке, госпоже Мену. Сейчас около четырех, как раз в это время она обещала быть здесь… Вы ведь знаете, как найти госпожу Мену? Третья лавочка по первой улице налево.
Она извинилась, что не может проводить его.
– Я одна дома. О мосье пока нет никаких вестей. По средам мадам председательствует в секции благотворительного общества, а мадемуазель Андре дядюшка увез на прогулку.
Матье поспешил к г‑же Мену. Еще издали на пороге лавочки он заметил ее владелицу; с годами она совсем съежилась и в сорок лет казалась худенькой девочкой с узеньким, как лезвие ножа, личиком. Ее словно иссушила непосильная работа: в течение двадцати лет она молча и упорно старалась заработать свои два су на нитках и три су на иголках, так никогда и не преуспев в этом, довольствуясь тем, что ежемесячно может добавить свой жалкий заработок к жалованью мужа, лишь бы его побаловать. Ревматизм, наверное, вынудит его рано или поздно оставить свое место в музее, и как они тогда проживут на несколько сот франков пенсии, если она бросит свою торговлю?
К тому же им вообще не везло: первый ребенок умер, второй родился поздно, но рождение его порадовало родителей, хотя нелегкое бремя легло на их плечи, в особенности теперь, когда пришлось забрать его домой. Матье застал г‑жу Мену на пороге лавочки; взволнованная ожиданием, она неотрывно глядела на угол улицы.
– Вас Селестина послала, сударь?.. Нет, тетушка Куто еще не приходила, я уж сама беспокоюсь, жду ее с минуты на минуту… Не угодно ли вам зайти и передохнуть?
Он отказался сесть на единственный стул, загромождавший помещение, где с трудом могли уместиться трое покупателей. За стеклянной перегородкой виднелась темная комнатушка, которая служила одновременно кухней, столовой и спальней, а воздух поступал туда из промозглого двора через окошко, похожее на люк сточной трубы.
– Как видите, сударь, у нас тесновато. Но мы и платим‑то всего восемьсот франков, а где мы найдем другое помещение за такую цену? Не говоря уже о том, что наша клиентура, которую я приобрела за двадцать лет, живет в этом же квартале… О! Я не жалуюсь, я худенькая, для меня везде места хватит. А муж мой возвращается только к вечеру, сразу усаживается в кресло выкурить трубку, и не слишком страдает от тесноты. Я балую его, чем могу, а он достаточно благоразумен, чтобы не требовать большего… Но как мы поместимся здесь с ребенком – ума не приложу.
Она вспомнила своего первенца, своего маленького Пьера, и глаза ее наполнились слезами.
– Ну вот, видите, сударь, уже десять лет прошло с тех пор, а я по сей день помню, как тетушка Куто привезла мне малыша, так же как она сейчас привезет мне второго. Мне столько всего нарассказывали – и что в Ружмоне свежий воздух, и что для ребенка там рай земной, и что мой малыш окреп, порозовел, вот я и держала его там до пяти лет, хотя у меня сердце разрывалось, что из‑за тесноты не могу взять его сюда. Сколько подарков из меня вытянула кормилица, сколько денег я ей переплатила! Нет, вы даже представить себе не можете, просто начисто разорили! Потом ни с того ни с сего вдруг потребовали взять его, у меня только времени и было, чтобы за ним послать, и вернули мне мальчугана такого хилого, такого бледненького и слабенького, словно он за всю свою жизнь порядочного куска хлеба не съел… Два месяца спустя он умер у меня на руках… Отец после этого заболел, сударь, и если бы мы не поддерживали друг друга, думаю, оба пошли бы да утопились…
Все еще взбудораженная своим рассказом, с мокрыми от слез глазами, она снова вернулась к дверям лавочки, бросила на улицу полный ожидания взгляд, но, никого не увидев, возвратилась к Матье.
– Представляете себе, что мы пережили, как волновались, когда два года назад, в тридцать семь лет с лишним, я снова разрешилась мальчиком. Мы чуть с ума не сошли от радости, словно молодожены. Но сколько навалилось забот, сколько хлопот! Пришлось и его тоже отправить на воспитание к кормилице, так как мы не могли оставить ребенка при себе. И хоть мы поклялись не посылать его в Ружмон, мы все же в конце концов решили, что место это нам знакомо, что ему там будет не хуже, чем в любом другом. Только я поместила его у тетушки Виме, так как слышать не могла о тетушке Луазо, которая вернула мне моего Пьера полуживым. Но на сей раз, когда малютке исполнилось два года, я не стала слушать никаких обещаний, никаких предложений, а потребовала, чтобы мне его привезли, хотя не знаю даже, где я его помещу… Я жду его вот уже целый час и прямо дрожу, как бы не случилось какого несчастья.
Ей не сиделось в лавочке, и, подбежав к порогу, она уставилась на угол улицы, даже шею вытянула. Вдруг она пронзительно вскрикнула:
– Ой! Вот они!
В лавочку не спеша вошла тетушка Куто с хмурым и усталым лицом и, положив спящего ребенка на руки г‑жи Мену, сказала:
– Уж он‑то, ваш Жорж, весит немало, за это я отвечаю! Про этого уж вы не скажете, что вам его вернули отощавшим.
Госпоже Мену, у которой от радости подкосились ноги, пришлось сесть. Она целовала и разглядывала ребенка, лежавшего у нее на коленях, расспрашивала хорошо ли он себя чувствует, будет ли жить. У него было полное бледноватое личико, хотя он производил впечатление откормленного малыша. Но когда мать раздела его дрожащими от волнения руками, оказалось, что у малыша тоненькие ножки и ручки и вздутый живот.
– Уж очень у него животик большой, – прошептала она, и сияющее лицо ее омрачилось в предчувствии новых бед.
– Опять вы жалуетесь! – прикрикнула на нее тетушка Куто. – На вас не угодишь! Тот был слишком худой, а этот, оказывается, слишком толстый… Никогда мамаши не бывают довольны.
С первого же взгляда Матье догадался, что этого малыша, как и всех таких ребятишек, вскармливали супом, пичкали экономии ради хлебом и водой, с самого детства обрекая на всевозможные желудочные заболевания. При виде этого жалкого существа в памяти его всплыли все те ужасы, о которых он знал из рассказов о Ружмоне. Там была тетушка Луазо, омерзительная грязнуха, и малыши, отданные ей на воспитание, буквально заживо гнили, валяясь в нечистотах; там была тетушка Виме, которая не покупала детям молока, а собирала по всей деревне хлебные корки и готовила для них похлебку из отрубей, как для поросят; там была тетушка Гаветт, которая по целым дням работала в поле, оставляя детишек под присмотром старого деда‑паралитика, и однажды один из ее питомцев угодил прямо в горящую печь; там была тетушка Гошуа, которая оставляла детей без присмотра, привязывая их к люльке, и куры, беспрепятственно входя в дом, набрасывались на беззащитных младенцев и выклевывали им глаза, облепленные мухами. Смерть косила их десятками, проникая сквозь широко открытые двери прямо к стоявшим в ряд люлькам, чтобы поскорее освободить место для новой партии новорожденных, которых, как пакеты, беспрерывно отправлял Париж. Однако не все умирали: ведь этот младенец вернулся домой. Но даже те из них, кого привозили оттуда живыми, несли на себе печать смерти, – такова была щедрая дань, приносимая чудовищному идолу общественного эгоизма.
– Я еле на ногах стою, – продолжала тетушка Куто, усаживаясь на узкой скамейке за прилавком. – Ну и проклятое ремесло! Да еще встречают нас, словно мы какие‑то бездушные преступницы и воровки!
За эти годы и она тоже словно усохла, лицо ее задубело, обветрилось, в нем появилось что‑то птичье. Только глаза, полные злобной жестокости, сохранили прежний живой блеск. Видать, не очень‑то легко давались ей деньги, раз она, как всегда, причитала, жаловалась на трудности своего ремесла, на родителей, которые становятся все скупее, на придирчивость администрации, на то, что всех комиссионерш встречают нынче в штыки, будто настоящую войну им объявили. Вот уж действительно работа, надо быть проклятой богом, чтобы в сорок пять лет тянуть лямку, не скопив ни гроша про черный день.
– Хоть разорвись, все равно на старость ничего, кроме нескольких жалких грошей, не отложишь, а уж брани наслушаешься! Полюбуйтесь, какая неблагодарность: я привожу вам великолепного ребенка, а вы гримасы строите. И впрямь закаешься людям добро делать!
Возможно, ее сетования были рассчитаны на то, чтобы вытянуть у лавочницы подарок посущественнее. Г‑жа Мену все еще не оправилась от первого волнения. Мальчик проснулся и начал громко плакать. Ему дали немного теплого молока. Когда подвели итог, тетушка Куто повеселела, увидев, что ей останется десять франков на чай.
Она уже собралась уходить, но тут г‑жа Мену, указав на Матье, сказала:
– Этот господин дожидался вас по делу.
Хотя они и не виделись много лет, тетушка Куто, конечно, сразу узнала Матье. Но она даже не повернулась в его сторону: она знала, что сам он причастен к слишком многому, и понимала, что он вынужден хранить молчание в собственных интересах. И поэтому она сказала только:
– Пусть мосье объяснит, в чем дело, я к его услугам.
– Я провожу вас, – ответил Матье, – мы потолкуем по дороге.
– Вот и хорошо, меня это вполне устраивает, я спешу.
Выйдя на улицу, Матье решил не хитрить с ней: лучше сразу выложить все, как есть, а затем купить ее молчание. С первых же слов тетушка Куто поняла все. Она прекрасно помнила ребенка Норины, хотя дюжинами отвозила детей в воспитательный дом, однако особые обстоятельства, слова, сказанные тогда Матье, их поездка в фиакре сохранились у нее в памяти. К тому же этого ребенка пять дней спустя она обнаружила в Ружмоне; она даже помнила, что ее приятельница, сиделка, привезла его и поместила у тетушки Луазо. Но больше она им не интересовалась, считая, что он, как и многие другие, давно уже умер. Когда же она услышала о деревушке Сен‑Пьер, о каретнике Монтуаре, об этом пятнадцатилетием Александре‑Оноре, который, очевидно, находится у него в качестве ученика, она крайне удивилась.
– Ох, сударь! Да вы ошибаетесь. Я хорошо знаю Монтуара из деревни Сен‑Пьер. У него действительно живет мальчишка из воспитательного дома такого возраста, как вы говорите. Но он поступил к нему от тетушки Гошуа. Долговязый такой, рыжий малый по имени Ричард, его привезли в Ружмон несколькими днями раньше, чем вы говорите. Я знаю, кто его мать, постойте‑ка! Ведь вы ее тоже видели: это англичанка, та самая Эми, которая, как мне сказали, уже три раза побывала у госпожи Бурдье, ее постоянная клиентка. Этот рыжий наверняка не сын вашей Норины. Александр‑Оноре был темненький.
– Значит, – сказал Матье, – у каретника должен быть еще один ученик. Мои сведения совершенно точные, я их получил из официальных источников.
Тетушка Куто в недоумении развела руками, но тотчас же сдалась:
– Вполне возможно, сударь, может быть, у Монтуара два ученика. Заведение у него солидное, а я несколько месяцев не была в Сен‑Пьере и ничего не берусь утверждать… Словом, что вам от меня угодно?
Матье разъяснил тетушке Куто, чего он от нее ждет: пусть соберет самые точные сведения о ребенке – о его здоровье, характере, поведении, о том, были ли им довольны учителя и доволен ли им его теперешний хозяин, – словом, пусть постарается получить как можно более подробные сведения. Но, самое главное, она должна проделать все это потихоньку, чтобы никто ни о чем не догадался – ни ребенок, ни окружающие. Полнейшая тайна.
– Это нетрудно, сударь. Я все прекрасно поняла, можете на меня положиться. Конечно, потребуется некоторое время, лучше всего, если недели через две, в следующий раз, когда я снова приеду в Париж, я вам расскажу, что мне удалось узнать… Если вы ничего не имеете против, мы можем встретиться с вами через две недели, в два часа, в конторе дома Брокет, улица Рокепин. Я там как у себя дома, и тайна ваша будет сохранена, словно в могиле.
Несколько дней спустя, когда Матье вместе с Блезом был на заводе, Констанс, увидав его, подозвала к себе, и после ее настойчивых расспросов ему пришлось рассказать обо всем, что он успел узнать и сделать. Услышав о свидании с Куто, назначенном на среду будущей недели, она заявила решительным тоном:
– Зайдите за мной, я сама расспрошу эту женщину… Мне необходима уверенность.
Заведение Брокет на улице Рокепин нисколько не изменилось за пятнадцать лет, разве что умершую г‑жу Брокет заменила ее дочь Эрмини. Поначалу казалось, что внезапная смерть этой белокурой представительной дамы, как бы вносившей в дело дух респектабельной добропорядочности, причинит непоправимый ущерб фирме. Но случилось, что Эрмини, долговязая, без кровинки в лице, бесцветная, напичканная романами девственница, томно разгуливавшая среди грудастых кормилиц, произвела благоприятное впечатление на клиентуру. В тридцать лет она еще не была замужем, не испытывала любовных желаний словно вид этих толстых девок с хнычущими младенцами на руках внушил ей отвращение к браку. К тому же отец, г‑н Брокет, несмотря на свои шестьдесят пять лет, негласно оставался полновластным и энергичным хозяином фирмы, следил за порядком и без устали сновал по всем трем этажам большого подозрительного заведения, наставляя новеньких кормилиц, как новобранцев.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|