
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Ричард Олдингтон. Сущий рай. Ричард Олдингтон. Сущий рай. Часть I
Ричард Олдингтон
Сущий рай
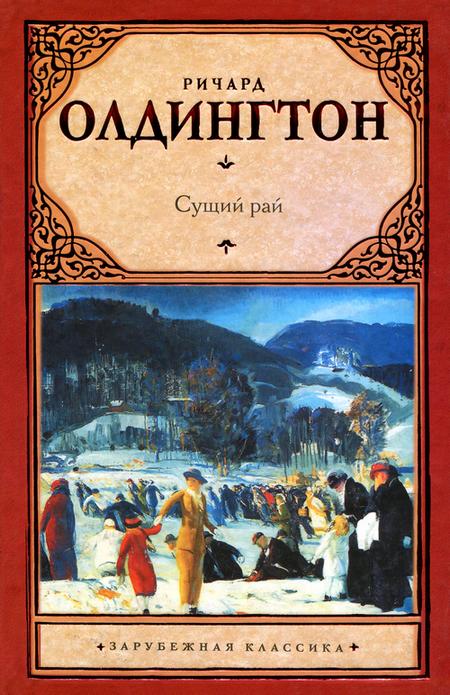
Ричард Олдингтон
Сущий рай
Заря такая – счастье для живых.
Для молодости сущий рай.
(Вордсворт о французской революции)
Часть I
Один
Стоя у амбразуры окна и предаваясь холостяцким размышлениям, мистер Уинтроп Чепстон – член ученого совета и преподаватель колледжа Святого Духа – с особенной тщательностью набил свою трубку Данхилл, стоимостью две гинеи, не забыв примять табак средним пальцем левой руки.
Сей сноб платил двойную цену за второсортный надушенный табак, присылавшийся ему за то в пачках в четверть фунта, обернутых в свинцовую бумагу и снабженных этикеткой «Смесь мистера Чепстона». В точности такой же продукт доставлялся двадцати тысячам других идиотов, и на этикетках каждого значилось: «Смесь мистера Смита», «мистера Брауна», «мистера Такого‑ то» и т. д., в зависимости от обстоятельств. Ибо всех нас стригут для прибыли Капиталиста, все мы – агнцы его возлюбленного стада.
Набив трубку, он сейчас же забыл о высоких достоинствах табака, и сознание его машинально воспринимало ощущения первых затяжек. Он смотрел через двор колледжа на заплесневелый, но исполненный достоинства боковой фасад в стиле английского барокко. К сожалению, мистер Чепстон созерцал этот вид так часто, что перестал им наслаждаться. Он даже не замечал его. Он неврастенически размышлял.
«Годы летят без толку. Скоро мне стукнет пятьдесят. Мы тратим нашу жизнь на то, чтобы изо дня в день готовиться к чему‑ то значительному, и только затем, чтобы убедиться, что слишком поздно, что для всего уже слишком поздно. Если бы не война, я мог бы… Что, если бы я уехал в Америку? Не выходит дело. Все предопределено. Так было предначертано в первый день творения. Этот мальчик, Крис Хейлин, что я ему скажу? Что можно сказать студенту, родители которого потеряли состояние? Неприятная случайность, не предусмотренная классиками античности. Иов разорился, но кому какое до него дело? Насколько я понимаю, никогда не известно, что нужно сказать в том или ином случае. А еще того менее, что сделать. Жизнь – мрачный фарс. Farce lugubre. Очевидно, в стиле Гюго. Тридцать лет назад я читал его. Теперь он кажется скучным. Годы летят, летят. А кажется, только вчера я сбросил с себя солдатскую шинель».
Неуклюже шагнув от окна, он плюхнулся в глубокое кресло у камина, пуская белый дымок, точно труба никому не нужной фабрики. Он почесал тот участок своей макушки, растительность которого еще не пострадала от разрушительного действия времени.
«Кристофер Хейлин. А ну‑ ка, что я знаю о нем? Человек, который читает все, кроме того, что полагается по программе. Усердия нет. Никогда не получал первой награды. Интересуется больше происхождением человека, чем происхождением грамматики. Плохо, совсем плохо. Знаю я его родителей? Кажется, нет. Да это и не важно. Родители – это только помеха; первородный грех всех нас in statu pupillari. [1] Неплохо придумано. Надо запомнить. Должен ли я помочь мальчишке? Он способный малый. Жаль, если станет клерком или еще чем‑ нибудь в этом роде. А как, собственно говоря, помогают в таких случаях? Деньгами? Рекомендациями? Непрошеными советами, которыми пренебрегают? Что бы ни случилось, к сорока годам жизнь ему опротивеет. Farce lugubre. А тогда стоит ли?.. »
Стук в дверь и возглас «войдите» вызвали появление не Хейлина, которого он ждал раньше, а слуги, которого он ждал вторым. Чай и сдобные лепешки. Подобно «Смеси Чепстона», лепешки были для него средством не быть похожим на других. Большинство профессоров не едят сдобы.
– Поставьте лепешечницу на камин, Уилдон.
Мистер Чепстон называл свое блюдо с лепешками лепешечницей. Он приподнял теплую фарфоровую крышку и обменялся маслянистой улыбкой с поблескивающими жирными дисками намазанных маслом лепешек. Часы пробили половину пятого. Хейлин опаздывает. Еще одно проявление высокомерия.
«Я не должен позволять студентам опаздывать к назначенному сроку. Мало дисциплинировано это поколение. Мы – слишком, они – недостаточно. Пора бы им знать, что мир – не соска для чешущихся ручонок рекламного младенца с плакатов искусственного вскармливания детей. Не понимаю я их. Откуда это проклятое malentendu[2] между разными поколениями? Разве я тоже не был молодым и не сталкивался с status quo? [3] Теперь я сам часть status quo. А ведь что такое тридцать лет? Пустяк, микромиллиметр времени, и, однако, целая пропасть на самом деле. Что я ему скажу? Мы говорим, они по всей видимости реагируют, по всей видимости вежливы и благодарны, однако же держат нас больше чем на расстоянии, скрываются от нас, как какие‑ то лицемерные эпикурейцы. А жаль! Но они живут совсем в другой атмосфере; мы в тени жуткого для них прошлого, они в тени пугающего нас будущего. Мы обмениваемся безгубыми улыбками, как призраки, в царстве теней. Но что же, черт возьми, я скажу ему?.. »
Мистер Кристофер Хейлин, студент колледжа Снятого Духа, выбывающий из состава слушателей по причинам финансового порядка, вышел из своей квартиры на сырую улицу. Громыхающие грузовики, проносящиеся легковые машины, украшенные экзотическими консервными банками, витрины бакалейных лавок, толчем детских колясочек придавали городу, старинному очагу просвещения, характер живописного уединения и достоинство. К сожалению, Крис созерцал этот вид так часто, что перестал им наслаждаться. Он шел и предавался грустным размышлениям.
«Что я скажу этому старому педанту? Он ни черта не поймет. Они никогда не понимают. Он умастит мои раны сливочным маслом своих лепешек и пойдет дальше своей дорогой. Как он может знать, что это такое, когда рушится жизнь? Может быть, он сообщит мне, какими чертовски бравыми молодцами были они в пятнадцатом году. Но мне что делать, боже мой, мне‑ то что делать? Кем мне быть: шофером, лакеем, конторщиком, летчиком? Что делать: стоять у дверей, просить подаяние, заискивать или воровать?..
Дома к этому относятся весьма спокойно. „Мы потеряли почти все, дорогой, и тебе лучше было бы вернуться домой сейчас же, потому что мы не можем уделить тебе ни пенни больше“. Иными словами – найти себе работу. Помогай‑ ка богатым оставаться богатыми. А у меня‑ то был план работы на всю жизнь. Триста фунтов ренты в год и стипендия или отсутствие таковой. Со стипендией, конечно, лучше, если бы последние три семестра зубрил как сумасшедший. А теперь: вот возвращайся домой и вешайся на крюк в передней.
С ума можно сойти, как подумаешь об этом. С ума сойти. Если бы я сошел с ума, за мной бы ухаживали. Если бы я был калекой, со мной бы носились. Будь я кретином, уродом, слабоумным, слепым, умалишенным, дегенератом, больным, дряхлым стариком – общество сочло бы долгом совести поспешить ко мне на помощь. Но я лишь молод, здоров, силен, достаточно умен и не урод; поэтому никто ничего для меня поделает и никому до меня нет дела. Возлюби кретина как самого себя и поставь всевозможные препятствия на пути человека с нормальными умственными способностями. Вот путь к улучшению рода человеческого путем подлинно „естественного“ отбора.
Что я скажу Чепстону? С ним‑ то никогда ничего не случается. Он весь запеленут в мысли классиков, отстоит от жизни на три поколения. Будет вращаться до самой смерти вокруг оси той системы, которая его кормит. Наш университет – поистине зоопарк, в котором сидят в клетках эгоцентрики и беглецы от жизни. Не потому ли и мне хотелось попасть сюда? Мы все боимся жизни, боимся сопряженных с ней риска и трудностей. Хотим, чтобы все наши дни были, как варенье на золоченом блюде. Работа под чьим‑ нибудь крылышком и небольшой капиталец. Я лишился того и другого, и вот мне страшно…»
Он свернул в переулок между высокими глухими стенами университетских садов, прошел мимо хорошенькой, завитой перманентной завивкой девушки, как будто несшей флаг штампованного сексуального призыва. Крис не внял тому сигналу на международном коде пола, который послали ее веселые глаза. Потом он пожалел об этом. Почему нет? Вот уже самое почтенное из приветствий, которыми обмениваются люди. Все мы смертны, почему же нам не приветствовать женщин – носительниц новой жизни? Они ведут безнадежную борьбу за оплодотворенное лоно со смертоносным временем. А мы, отверзающие ложе сна, испуганно отстраняемся. Завтра, и завтра, и завтра…
Дожевывая намасленную лепешку, мистер Чепстон строго сказал:
– Вы опять опоздали, Хейлин.
– В таком случае прошу прощения. Мне казалось, что я, наоборот, пришел слишком рано.
Мистер Чепстон подумал о том, как трудно произносить с олимпийским достоинством внушение, когда рот набит лепешкой, а в руке держишь чашку с чаем. Он решил отменить приготовленную речь о недисциплинированности молодого поколения.
Умостившись, как два петуха на соседних насестах, они издавали резкие и разнообразные крики, свойственные их породе. Оба страдали, ибо правила хорошего тона мешали им – типичным англичанам – сказать что бы то ни было по существу того, что они считали главным. Они были распяты на кресте застенчивости.
Внутренне терзаясь, не зная, что же ему сказать, Чепстон внешне оставался таким же, как всегда: любезным, веселым педантом. Не будучи по природе талантливым чудаком, он немало ломал себе голову, чтобы найти для себя соответствующий университету стиль. Он убедился, что повизгиванье, хихиканье и пыхтенье имеет здесь достаточно большой успех. Пользовалась успехом также спазматическая порывистая манера говорить и неистово дрыгать ногами в минуты напускного веселья. Это было тем более убедительно, что ему до смерти опостылели жизнь и служба и он был подвержен отвратительным припадкам нервного отчаяния. Это придавало оскалу его всегда готовой появиться улыбки сатанинский оттенок – внушительный для робких и загадочный для тупоумных.
В муках самообуздания Чепстон прохихикал «страшно интересный анекдот». Мысленно переводя щебетанье профессора с языка штампов на нормальный английский язык, Крис понял, что профессор Косинус, величайший из живущих на земле специалистов по геометрии четырех измерений, катаясь на велосипеде, столкнулся с другим велосипедом, на котором ехал профессор Плоскость, последний фанатичный приверженец реальности Евклидовой вселенной. Покрытые грязью, в крови и ссадинах, они в ярости выбрались из‑ под обломков и среди обступившей их толпы восхищенных студентов и обывателей завязали оживленный спор о своих скоростях и траекториях. Плоскость утверждал, что Косинус описал противозаконную гиперболу на неправильной, или релятивистской, стороне дороги, тогда как Косинус настаивал, что Плоскость непристойное явление, возникшее во временно‑ пространственной конечности пустозвонства.
Восхищенный своим талантливым изложением этого замечательного события, мистер Чепстон откинулся на спинку кресла, весело дрыгая ногами, и прикрыл носовым платком лицо, сморщившееся от искусного хихиканья.
– Сегодня, однако, нам предстоит обсудить не этот вопрос, – торжественно сказал он, внезапно явив свое лицо из носового платка, словно рыдающий клоун. – Вы действительно покидаете нас?
– Да, завтра я уезжаю.
Покорность Криса судьбе обрадовала и успокоила мистера Чепстона. С той самой минуты, как он услышал о катастрофе, благожелательность вела в его душе безуспешную борьбу со скупостью и осторожностью.
– Послушай‑ ка, – говорила Благожелательность, – не упускай случая. Ты вечно ворчишь, что жизнь твоя пуста, что тебе никогда не удается сделать что‑ нибудь действительно порядочное и существенное. Ты знаешь, что это умный парень, слишком умный, чтобы вечно корпеть над одними лишь предписанными программой книгами. Из него может выйти блестящий ученый. Он даже способен мыслить. Помоги ему деньгами. Добейся для него стипендии. Тебе это не будет стоить и четырехсот фунтов. Если он выбьется в люди, он тебе вернет эти деньги. А если нет, у тебя появится интерес в жизни, и ты вполне можешь позволить себе потратить столько.
– Нет, нет, ни в коем случае! Ты не можешь себе этого позволить, – возмущалась Скупость. – Помнишь, как ты обжегся на акциях этих рудников? Помнишь жуткий крах Ривьера‑ Палас‑ Отеля? А подоходный налог? А вдруг ты заболеешь? Лишишься кафедры? Не будь сентиментальным ослом. За твоим кошельком будет охотиться половина нищих гениев Англии.
– К тому же, – добавила Осторожность, – подумал ты о том, что станут говорить другие?
Справедливость прежде всего, не так ли? Ну что ж, будем справедливы. Не вмешайся Осторожность, Скупость, может быть, сдалась бы. Но мистер Чепстон до ужаса боялся сплетен и смешных положений. Холостяк, который проводит свои долгие каникулы в отдаленных уголках Сицилии, приобщаясь к античности среди пастухов (вспомнился Вергилий), и который слишком известен своей романтической дружбой с гибкими юнцами… Довольно, довольно! Осторожность победила.
Мистер Чепстон вспомнил обо всем этом в течение какой‑ нибудь секунды. А жаль, жаль. Да, не может быть никакого сомнения, что Хейлин очень красивый мальчик. В нем есть что‑ то античное.
Мистер Чепстон почувствовал, что ему надо проявить сердечность.
– Так, так! Так, так! – Он сиял, как идиотический Пиквик. – Нам будет очень грустно потерять вас. Что же вы намереваетесь предпринять?
– Не имею ни малейшего представления, – холодно сказал Крис, думая про себя: «Вот тоже старый балбес: ржет, как пьяная кобыла. Мог бы помочь мне, если бы захотел. Так чего ж он молчит? Ведь знает, что сам я прямо спросить не могу».
– Надеюсь, вы ни при каких обстоятельствах не забросите классиков, – профессорским тоном сказал мистер Чепстон. – Запомните, что способность писать греческие стихи имеет… а… гм… большое значение.
– Я бы назвал это развлечением для сельских священников в часы досуга, – едко отпарировал Крис.
Мистер Чепстон прикрыл эту смертельную рану, нанесенную его благожелательности, и эту царапину, нанесенную его тщеславию, целой серией сложных хихиканий и повизгиваний, сопровождаемых подрыгиванием ног.
– Ах, это здорово! – воскликнул он. – В самом деле очень хорошо. Развлечение сельских священников. Я передам это декану, обязательно передам.
Но Крис отклонил этот словесный гамбит, за которым должно было следовать обычное академическое собеседование. Странная горечь овладела им. Оскорбительно это хихиканье стариков в мире, который стонет в родовых муках и задыхается в хаосе, намеренно создаваемом искателями власти.
– А вы не могли бы вместо этого поговорить с деканом обо мне? – пробормотал он, краснея от стыда и злобы. – Неужели нет возможности дать мне стипендию – колледж богат, – а потом и место ассистента. Я хотел бы заняться научной работой.
– Научной работой? – воскликнул Чепстон холодно, настороженно, но внешне сохраняя наивное выражение и улыбку. – Ну, скажите, чего ради энергичному молодому человеку совершать духовное харакири на нашем оскверненном алтаре просвещения? Пусть мы плывем в ковчеге Муз, но на какой Арарат провинциализма выбросило нас стихией! Я немного видел свет, я командовал на войне батареей, хотя мои орудия не всегда пользовались славой бьющих без промаха, ха‑ ха‑ ха! Я вернулся сюда зализывать свои раны, как свинья в Эпикуровом стаде. А каково истинное мое призвание? Стать актером. Вы никогда не видели меня в роли Ромео. У меня была возможность попасть в Голливуд. Я упустил ее, забился в эту нору ради хлеба насущного и дешевой бутылки вина. Ах, почему я не последовал за своей звездой и не стал актером?
– Все англичане прирожденные актеры, – сказал Крис. – К сожалению, слишком многие из них играют злодеев.
– Разве это такое несчастье, когда молодой человек бросается очертя голову в широкий мир? – воскликнул мистер Чепстон, пропуская мимо ушей этот выстрел Криса. – Где же традиции авантюры, где современные Рали и этот, как его там? Предоставьте академическое затворничество старикам. А молодым – действия, приключения, острый запах жизни в ноздрях. Да в вашем возрасте люди моего поколения несли весь мир на штыках…
– И посмотрите, куда они его принесли…
– Героическая жизнь сама себе награда. – Мистер Чепстон сделал попытку быть внушительным. – Возьмите, например, Руперта Брука. Его статуя на Скиросе, его рукописи в Британском музее. А где он сам, по существу говоря? Среди бессмертных!
– И тем не менее он мертв и довольно‑ таки скучноват.
– Не будьте циником! – взмолился мистер Чепстон. – Разрешите мне просить вас не быть циником. Диоген был самый низменный из философов.
– Да, – перебил Крис, – он был в состоянии разозлить Платона, сказав ему, что, если бы тот научился питаться сырыми овощами, как Диоген, ему не пришлось бы льстить тиранам.
– Ха! – мистер Чепстон решил пропустить намек мимо ушей. – А, так вы читали Лаэрция? Чудесно, восхитительно. К сожалению, жизнь состоит не только из классической учености, особенно для тех, у кого нет ни гроша.
– Разумеется, они имеют право на свой otium sine dignitate, – горько сказал Крис.
– На покой без почета? – Мистер Чепстон сделал паузу. – Ах! Вы имеете в виду безработных? Да, это слишком верно. Но вы не будете из их числа…
– Ведь я не имею права даже на пособие, – усмехнулся Крис.
– Мой милый мальчик! Довольно цинизма, прошу вас. Разрешите мне сказать вам два‑ три слова ободрения. Постараюсь не впадать в обычную ошибку людей моего возраста и не буду предлагать вам самого себя в качестве примера. Напротив, я хотел бы послужить вам предостережением. Моя жизнь началась на вершинах, но слишком скоро закончилась надгробной эпиграммой в испорченном или христианском стиле Греческой Антологии. Вы, как юный Вергилий, начинаете с того, что теряете все отцовские угодья. Ну так что ж? Боги оказывают вам честь, давая возможность начать с царапины на скачках жизни. Выше голову – и вперед! Сколько предприимчивости и талантов погибло для мира благодаря тому, что обладатели их имели несчастье унаследовать ренту. Нищета – бич, который подхлестывает талант на пути к успеху. Бойтесь довольства и изнеженности…
Невозможно сказать, как долго гудел бы еще мистер Чепстон, наставляя Криса в стиле Полония. Крис слушал с удивлением и стыдом, сознавая, что ему хитроумно заткнули рот. Он чувствовал себя в смешном и глупом положении. Смешно было бросаться в самый разгар катастрофы к Чепстону, как к милосердной Богоматери; глупо наступать человеку на любимые мозоли, когда хочешь что‑ нибудь получить от него. Крис сделал удивительное открытие, что шутки на чужой счет требуют подкрепления в виде независимого дохода. За отсутствием такового человек вынужден присоединиться к великой армии тех, кто лижет чужой зад явно и старается укусить его исподтишка; сплетнями мстит человеческое «я» за те унижения, на которые обрекает человека забота о собственной выгоде…
Крис вышел из задумчивости и закрыл шлюзы чепстоновского красноречия, поднявшись со словами:
– Ну, мне пора идти. Надо еще уложить вещи и повидаться с массой людей. Спасибо за все.
– Вам в самом деле пора? – воскликнул мистер Чепстон, с самым непринужденным видом вскакивая с кресла. – Может быть, вы чего‑ нибудь выпьете? Нет? Что ж, в таком случае…
Он принялся медленно и внушительно пожимать правую руку Криса, раскачивая ее, как ручку насоса:
– Не забывайте своего старого учителя, – пожатие, – приезжайте иногда повидаться со мной, – пожатие, – не становитесь тряпкой, – пожатие, – никогда не таите обиду за несправедливость, – пожатие, – держитесь идеалов, которые мы старались вам привить, – пожатие, – берегитесь вульгарности, – пожатие, – материализма, – пожатие, – бесчестных поступков, – пожатие, – и, превыше всего, женщин!
Выпустив руку Криса, мистер Чепстон быстро отвернулся, как бы желая скрыть душившие его чувства.
– Прощайте, – сказал он гортанным голосом. – Прощайте!
Крис направился к двери и, когда она закрылась, услышал голос мистера Чепстона, поднявшийся до прощального вопля.
– Прощайте! Держитесь – ваши идеа‑ алы…
Склонив голову набок, точно огромный, но уродливый певчий дрозд, мистер Чепстон слушал, как ослабевает эхо шагов Криса по деревянным ступенькам, потом по‑ птичьи подскочил к окну и выглянул посмотреть на голову и спину явно разочарованного молодого человека, направляющегося к воротам колледжа.
Может быть, на лице этого выдающегося специалиста по античной литературе появилось слабое подобие сатанинской улыбки?
Может быть, он сообразил, что пять процентов из четырехсот фунтов, это двадцать фунтов в год, – достаточно, чтобы оплатить годовой счет за табак каждого сколько‑ нибудь благоразумного человека?
Во всяком случае, он снова принялся набивать трубку, с особенным напряжением вглядываясь в сумерки.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|