
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Предисловие 7 страница
27 февраля [1942], пятница, 10 часов утра. Человек сам создает свою судьбу. Это высказывание кажется мне поверхностным. Но вот как внутренне к этой судьбе относиться, человек действительно решает сам. Нельзя постичь чужую жизнь, зная только о ее внешних проявлениях. Чтобы познать жизнь другого человека, надо знать его мечты, его отношение к близким, его настроения и его разочарования, его болезнь и его смерть.
Ранним утром в среду мы с большой группой людей стояли в помещении гестапо, и жизненные обстоятельства в этот момент были для всех нас одинаковыми. Мы все – и сидящие за столами, и те, кто пришел на допрос, – находились в одном месте. Но жизнь каждого была определена его внутренним отношением ко всему происходящему. Мне сразу бросился в глаза молодой человек, который носился туда‑ сюда с недовольным видом. Он никоим образом не скрывал своего недовольства, делал все так нервно, вымученно. Он постоянно искал предлог, чтобы только наорать на бедных евреев: «Руки – из карманов! » и т. п. На мой взгляд, он заслуживал сострадания больше, чем те, на кого он кричал. А их самих можно было жалеть настолько, насколько велик был их собственный страх. Когда подошла моя очередь, он вдруг заорал: «Что вы находите здесь смешного? » Мне хотелось ответить: «Кроме вас, ничего». Но из дипломатических соображений я решила промолчать. «Вы ведь беспрерывно смеетесь! » – продолжал он орать. И я, совершенно невинно: «Это бессознательно, это мое обычное лицо». Тогда он с миной, выражающей – я еще с тобой поговорю: «Не придуривайтесь. В‑ в‑ о‑ он отсюда! » Это, вероятно, был психологический момент, во время которого я должна была смертельно испугаться, но я быстро раскусила его маневр.
Мне вообще не страшно. Не оттого, что я очень смелая, а от чувства, что все еще имею дело с людьми, и хочу попытаться, насколько мне это удастся, понять ход мыслей каждого, от кого бы они ни исходили. И это был еще один исторический момент этого утра. Он состоял не в том, что я была обругана несчастным гестаповцем, а в том, что я не была этим возмущена, скорее я ему сочувствовала. Больше всего мне бы хотелось его спросить: «У тебя что, было несчастливое детство или, может, тебя бросила девушка? » Он выглядел нервным, измученным, впрочем, также по‑ настоящему неприятным и вялым. Мне очень захотелось тут же предложить ему психотерапию, поскольку я прекрасно понимала, что такие типы заслуживают сожаления лишь до тех пор, пока не могут причинить зла. Но если их спустить на человечество – становятся опасными для жизни. Преступна только система, использующая этих парней. И если речь идет об истреблении, то следует истреблять не самого человека, а зло, живущее в нем.
Кроме того, в это утро – необыкновенно сильное ощущение того, что я, вопреки всему горю и происходящей кругом несправедливости, не могу ненавидеть людей. И что все ужасающие, отвратительные события – не что‑ то далекое, полное таинственности и угрожающее нам снаружи, но находится вблизи нас и из нас, из людей, исходит. Поэтому оно кажется мне знакомым и не таким пугающим. Ужасающим является то, что выросшая над людьми система равным образом дьявольски поглощает и свои жертвы, и своих изобретателей. Возвышаясь и господствуя над нами, как построенные людьми огромные здания и башни, она может рухнуть и погрести нас.
12 марта 1942 года, четверг, 11. 30 вечера. Это было неописуемо красиво. Макс, общая чашка кофе, плохие сигареты и наша, рука об руку, прогулка по затемненному городу. И еще – сам факт, что мы идем вдвоем. Посвященным в нашу историю эта встреча наверняка показалась бы в высшей степени странной, так как поводом для нее послужило то, что Макс хочет жениться и к тому же хочет услышать мое, смешно, именно мое мнение. И это было прекрасно: снова увидевшись с другом юности, отразиться с ним вместе в нашей зрелости. В начале вечера он сказал: «Не знаю что, но что‑ то в тебе изменилось. Думаю, теперь ты стала настоящей женщиной». А в конце: «Я бы не сказал, что ты изменилась к худшему, нет, твои черты, мимика такие же подвижные и выразительные, как прежде, но за всем этим стоит зрелость. Мне с тобой хорошо». Он посветил своим маленьким фонариком мне в лицо, засмеялся и, одобрительно кивнув, сказал: «Да, это ты». И прежде чем мы разошлись в разные стороны, наши щеки неуклюже и все же очень доверчиво коснулись друг друга. Было действительно неописуемо красиво. И пусть это прозвучит парадоксально, но, наверное, это было наше первое удавшееся свидание. Во время прогулки он вдруг сказал: «Я думаю, что спустя годы, быть может, мы сможем стать настоящими друзьями». Вот так ничто не пропадает. Люди возвращаются, а пока они годами не приходят, можно продолжать жить с ними внутренне.
8 марта я написала S.: «Прежде моя страстность была фактически не чем иным, как отчаянным цеплянием за… за что, собственно говоря? За что‑ то такое, за что физически зацепиться невозможно».
Когда‑ то это было тело мужчины, шедшего сегодня рядом со мной как брат, за которое я цеплялась с нечеловеческим отчаяньем. И хотя в прошлом мы буквально разрушили наши жизни, было радостно от сохранившегося доверительного, теплого общения, от проникновения в атмосферу друг друга и от не мучивших нас больше воспоминаний. Теперь‑ то можно совсем спокойно утверждать: да, под конец мы оба были совершенно истощены.
Но все‑ таки я узнала в нем прежнего Макса, когда он внезапно спросил: «У тебя в то время были отношения еще с кем‑ нибудь? » Я показала два пальца. А позже, когда я упомянула, что, возможно, выйду замуж за одного эмигранта, чтобы с ним вместе остаться в лагере, он поморщился. И при прощании сказал: «Ты ведь не сделаешь глупость? Мне так страшно, что ты погибнешь». И я в ответ: «Я никогда и нигде не погибну». Хотела еще что‑ то сказать, но мы уже слишком удалились друг от друга. Если живешь внутренней жизнью, то, наверное, нет большой разницы, находишься ты внутри или снаружи лагерных стен. Смогу ли я и дальше жить в соответствии с этими словами? Не будем строить больших иллюзий. Жизнь будет очень тяжелой. Думаю, недалеко то время, когда мы будем разлучены с теми, кто нам дорог. Надо уже быть внутренне к этому готовым.
Охотно прочла бы еще раз письма, которые в 19 лет писала Максу. Он сказал: «Я всегда гордился тобой, ждал от тебя толстых книг». Я: «Макс, ты торопишься? Они еще будут. Я умею писать, и мне есть что сказать. Но почему мы такие нетерпеливые? » Он: «Да, я знаю, ты умеешь писать. Время от времени я перечитываю твои письма. Ты действительно умеешь писать».
Утешает, что в этом разорванном мире все‑ таки еще возможны вот такие вещи. Предполагаю, что их может быть гораздо больше, чем мы сами себе в этом признаемся. Вновь встретить свою юношескую любовь, заглянуть, улыбаясь, в собственное прошлое и примириться с ним. Так и случилось. Сегодня вечером я задала тон, а Макс последовал ему, и это уже большой шаг вперед.
Теперь все уже не кажется случайностью, небольшой игрой, увлекательным приключением. Чувствуешь, есть «судьба », и в ней одно за другим следуют наполненные смыслом события. И когда при этом я думаю о том, как мы, повзрослевшие, растроганные собственным прошлым, шли вместе через темный город, шли с чувством, что мы друг другу еще многое бы рассказали, но оставляем это, наверное, на несколько лет, до нашего следующего свидания, меня охватывает чувство глубокой, истинной благодарности за то, что такое в жизни возможно. Сейчас почти 12, иду спать. Да, это было замечательно. В конце каждого дня у меня возникает потребность повторить: несмотря ни на что, жизнь прекрасна. Безусловно, это мое собственное мнение об этой жизни, мнение, которое я могу даже отстаивать перед другими, а это много значит для такого робкого ребенка, каким я всегда была. И существуют разговоры, как вчера вечером с Яном Полаком, в которых сказанное становится свидетельским показанием.
Вторник [17 марта 1942], 9. 30 утра. Вчера вечером, когда ехала к нему на велосипеде, меня переполняло сильное весеннее томление. И, неожиданно почувствовав ласковое прикосновение теплого, свежего ветра, когда, замечтавшись, проехала по асфальту улицы Лересса, подумала: это тоже хорошо. Разве нельзя испытать сильное, нежное опьянение любовью к весне и ко всем людям? Можно подружиться с зимой, с городом или страной. Помню, как в юношеские годы у меня были особые отношения с одним темно‑ красным буком. Иногда по вечерам на меня нападало такое желание повидаться с ним, что я отправлялась на велосипеде в получасовой путь и потом ходила вокруг него плененная, заколдованная его кроваво‑ красным обликом. Да, почему нельзя влюбиться в весну? Весенний воздух так нежно обнимал и ласкал меня, что мужские руки, даже его, в сравнении с этим казались грубыми.
И вот я у него. Из кабинета в маленькую спальню падал луч света, и, войдя, я увидела его расстеленную постель и над ней – тяжело склонившуюся, душистую ветку орхидеи. А на столике около кровати стояли нарциссы, такие желтые, такие невероятно желтые и молодые. Расстеленная постель, орхидеи и нарциссы… в такую постель вовсе не обязательно ложиться. Ненадолго задержавшись в этой сумеречной комнате, я словно пережила долгую ночь любви. А он сидел за своим небольшим письменным столом, и мне опять бросилось в глаза, как сильно его голова напоминает серый, ветхий, древний ландшафт.
Да, знаешь, человеку необходимо терпение. Твое желание должно быть как медленный, величественный корабль, плывущий через бескрайний океан и не ищущий пристани. И вдруг на короткое время он все же ее находит. Вчера вечером он нашел такую гавань. Действительно ли всего четырнадцать дней назад я так дико, несдержанно притянула его к себе, что он прямо упал на меня, а после была настолько несчастна, что подумала, что не смогу жить дальше. И неделю назад, лежа в его объятиях, тоже чувствовала себя несчастной, потому что было это как‑ то натянуто.
Однако все эти «этапы» были необходимы, чтобы прийти к нежной, доверительной близости, к способности дорожить друг другом. Такой вечер целиком и навсегда остается в памяти. И, наверное, не нужно много таких вечеров, чтобы чувствовать, что жизнь наполнена любовью.
Воскресенье [22 марта 1942], 9 часов вечера. Моя серьезная черная марокканка снова смотрит в цветущий сад, или, скорее, она, как всегда, своим темным, безмятежным и одновременно звериным взглядом смотрит вдаль. Маленькие желтые, лиловые и белые крокусы, со вчерашнего дня совершенно увядшие, устало и истощенно перевесились через край жестяной коробки из‑ под шоколада. А вот желтые колокольчики в прозрачном зеленом хрустале. Как же они называются? S. купил их в приливе весеннего настроения. А вчера вечером он пришел с букетиком тюльпанов. Маленький красный бутон и совсем маленький белый, такие закрытые, такие неприступные и все же несказанно милые. Слушая сегодня днем Хуго Вольфа[35], не могла оторвать от них взгляда. За окнами – вызывающе живой и новый в своих очертаниях и в то же время такой давно знакомый Рейксмузей[36].
Мы больше не имеем права гулять по Ванделвег, и любая жалкая группка из двух‑ трех деревьев рассматривается как лес, и перед ними прибита табличка: «Евреям запрещено». И такие таблички развешиваются повсюду. Но есть еще много места, где можно быть, жить и быть веселым, где можно наслаждаться музыкой и любить друг друга. Гласснер принес с собой мешочек угля, Тидэ – немного дров, S. – сахар и печенье, у меня был чай, а наша маленькая швейцарская артистка, вегетарианка, пришла с большим кексом. Сначала S. почитал нам кое‑ что о Хуго Вольфе. В отдельных трагических местах его губы подрагивали. И за это я тоже его люблю. Он такой настоящий. Им переживается каждое сказанное, спетое или прочитанное вслух слово. И когда он эмоционально читает о грустном, ему самому становится грустно, и кажется, что он сейчас расплачется. Это так трогательно. Тогда бы и я с удовольствием оплакала с ним вместе какую‑ нибудь строфу.
И Гласснер, все лучше играющий на рояле. Мне сегодня хотелось крикнуть ему: «Мы следим за твоими успехами, молчаливый, кроткий Гласснер».
Бывают моменты, в которые я, как говорится, на собственной шкуре ощущаю, почему творческие люди, опускаясь, предаются пьянству, разврату и т. д. Чтобы не выпасть в моральном отношении из пазов, чтобы не вогнать себя в бесконечность, художник должен обладать очень сильным характером. Не могу описать точно, но в иные моменты я так это чувствую. Всю свою нежность, свои сильные эмоции, все бушующее море, океан души, назовите как угодно, мне бы хотелось излить в одном‑ единственном маленьком стихотворении. Но случись такое – полетела бы сломя голову в пропасть и напилась. После творческого взлета, чтобы не провалиться бог знает как глубоко, нужно с помощью своего же сильного характера, морали или уж не знаю чего еще очень крепко ухватиться за себя. Что за темная энергия движет мной? В самые плодородные, самые творческие моменты я чувствую, как одновременно с этим внутри поднимаются демоны и меня подстерегают сокрушительные, саморазрушающие силы. Это не обычное стремление к другому, к мужчине, нет, это нечто космическое, всеобъемлющее, неудержимое. Но я также чувствую, что даже в такие моменты способна взять себя в руки. Внезапно появляется потребность, опустившись в каком‑ нибудь тихом углу на колени, собраться и проследить, чтобы мои силы не затерялись в безбрежной бесконечности.
Примерно под вечер я поймала себя на том, что, словно барьером, была остановлена его прозрачным, светло‑ серым, всю меня объявшим взглядом и тяжелым, дорогим мне ртом. Под этим взглядом я на секундочку почувствовала себя защищенной. Но весь этот день я блуждала в каком‑ то бесконечном пространстве, где не было никаких сдерживающих границ, чтобы в конце концов дойти до той границы, где бесконечность становится невыносима и ты в отчаянии способен броситься в разврат. А в ясном, прозрачном, весеннем воздухе – темные, раскинувшиеся ветви. Проснувшись утром, я увидела за окном кроны деревьев, а днем, за широкими окнами нижнего этажа – их стволы. Красные и белые бутоны склонившихся друг к другу тюльпанов, благородный рояль, черный, таинственный и сложный, существо в себе, а за окнами – черные ветви на фоне светлого неба, и в отдалении – Рейксмузей. И S., то чужой, то родной, одновременно очень далекий и очень близкий, иногда вдруг страшный древний гном, потом снова добрый большой дядька за пирогом, а потом нежданно‑ негаданно вновь обольститель с теплым голосом, всегда другой, мой друг и опять же далекий мне человек.
26 апреля 1942. Сейчас это лишь маленькая красная увядшая анемона. Но спустя много лет я найду этот засушенный цветок между страницами книги и с легкой грустью скажу: смотри, эта красная анемона была в моих волосах в тот день, когда тому человеку – самому большому, незабываемому другу моей молодости – исполнилось 55 лет. И было это на третьем году Второй мировой войны. Мы ели макароны, купленные на черном рынке, и пили настоящий кофе, от которого Лизл «охмелела». Мы все были веселы и спрашивали себя, что будет с войной через год, на следующий день рождения. У меня в волосах была красная анемона, и кто‑ то сказал: «Ты сейчас – настоящая русско‑ испанская смесь». А один швейцарец, блондин с густыми бровями, добавил: «Русская Кармен», после чего я спросила, не прочтет ли он с его забавным швейцарским «ррр» стихотворение о Вильгельме Телле.
Потом мы опять прошлись по хорошо знакомым улицам южного Амстердама, но сначала поднялись посмотреть на его цветник. Тем временем Лизл быстро сбегала домой и надела плотно облегающее платье из блестящего темного шелка с просторными прозрачными лазурными рукавами и с такой же лазурью поверх маленькой белой груди. Она мать двоих детей. А такая стройная, хрупкая. И опять же: полна скрытых стихийных сил. И Хан тоже выглядел «элегантным» и предприимчивым, поэтому на его столовой карточке стояло: вечно молодой любовник, отец героини. Титул, который, посопротивлявшись, он все‑ таки принял. Лизл сказала мне позже: «В этого мужчину я бы могла влюбиться».
Но особенный отпечаток, по крайней мере во мне, этот вечер оставил вот почему: было уже примерно половина двенадцатого, Лизл в соседней комнате села к пианино, S. – перед ней на стуле, а я, стоя рядом, прислонилась к нему. Лизл что‑ то спросила, и мы вдруг оказались посреди дискуссии на психологические темы. Черты лица S. вновь стали очень выразительными, и он живо, с готовностью, которая никогда его не покидает, дал ей ясный, меткими словами выраженный ответ. Позади был долгий день с цветами и письмами, с людьми и беготней, с организацией обеда, на котором он сидел во главе стола, и потом вино, и опять вино, которое он не особенно хорошо переносит. Так что он должен был уже порядочно устать, но тут случайно кто‑ то задает вопрос о серьезных жизненных вещах, и его лицо становится сосредоточенным, он полностью уходит в это и мог бы уже оказаться за кафедрой перед внимательно слушающим его залом. Взволнованное личико Лизл над прозрачной лазурью смотрит на него большими глазами, и она с присущим ей трогательным заиканием говорит: «Это так потрясающе, что вы такой».
А я еще теснее прижимаюсь к нему, глажу его добрую, выразительную голову и говорю Лизл: «Ты знаешь, это, собственно, и есть самое сильное ощущение, связанное с S. У него всегда есть ответ именно потому, что в нем всегда покой и готовность к ответу. И поэтому проведенные с ним часы всегда полны глубокого смысла, с ним время никогда не расточаешь попусту». А S. взглянул как‑ то по‑ детски удивленно, с выражением, которое я все еще не могу описать и для которого уже год постоянно подбираю слова, и сказал: «Но ведь так происходит с каждым? » Он поцеловал маленькую Лизл в щеку, в лоб и притянул меня ближе к своим коленям, и я вдруг снова вспомнила слова Лизл, сказанные ею пару недель назад на ее солнечной крыше: «Хотела бы несколько дней провести вместе с тобой и S …». И я подумала тогда, что это могло бы быть неплохо. В этот момент появилась остальная компания, и мы начали обсуждать, остаться ли нам до четырех утра, но S. сказал: «Никогда не следует стремиться к крайности, всегда должно что‑ то оставаться для фантазии».
18 мая 1942. Внешняя угроза становится все сильнее, с каждым днем увеличивается террор. Как высокой, темной, защищающей меня стеной, я окружила себя молитвой. Уединившись в ней, точно в монастырской келье, я потом выхожу более «собранной», сильной, вновь овладевшей собой. Уход в закрытую келью молитвы становится для меня все большей реальностью, становится необходимостью. Эта внутренняя концентрация помогает из раздробленного состояния собраться в единое целое и возвратиться к себе. И я представляю, что придут времена, когда я дни напролет буду стоять на коленях, стоять до тех пор, пока не почувствую, что меня опять окружают стены, чья защита не дает мне, потеряв в себя веру, погибнуть.
26 мая [1942], вторник, 9. 30 утра. Я шла вдоль набережной под теплым и в то же время освежающим ветром. Проходя мимо сирени, маленьких роз и немецких солдат на посту, мы говорили о нашем будущем и о том, что было бы хорошо остаться вместе. Я совершенно не могу передать, как это вчера было. Когда сквозь теплую ночь я, такая легкая, оглушенная белым итальянским «Кьянти» шла домой, вдруг снова появилась уверенность, которая сейчас, с тех пор как держу ручку, совершенно исчезла. Уверенность в том, что когда‑ нибудь позже я буду писать. И эти долгие ночи, когда я буду писать, станут моими лучшими ночами. Все, что скопилось во мне, вырвется наружу и тихо, но неудержимо потечет уже никогда не прекращающимся потоком.
Пятница, 29 мая 1942, после ужина. Еще сегодня: Микеланджело и Леонардо. Они тоже занимают часть моей жизни. А еще Достоевский, Рильке и Блаженный Августин. И Евангелисты. Вот в каком прекрасном обществе я нахожусь. И в этом больше нет былого «эстетства». Каждый по‑ своему передает мне что‑ то подлинное, непосредственно касающееся меня. Некоторые вещи Микеланджело неожиданно так захватили меня.
«Безмерно, до самоуничтожения предаться своей печали» – легендарная фраза. Этого больше нет. Никогда не позволяю себе, даже в дни наибольшей усталости и кручины, падать так глубоко. Жизнь остается непрерывным потоком; в наши дни текущим, наверное, медленнее, встречающим большее сопротивление, чем обычно, но все равно текущим дальше. И я не могу больше говорить о себе, как раньше: «я так несчастна, не вижу никакого выхода». Это стало мне совершенно чуждым. Прошло время, когда я надменно считала себя самым несчастным человеком на этом свете.
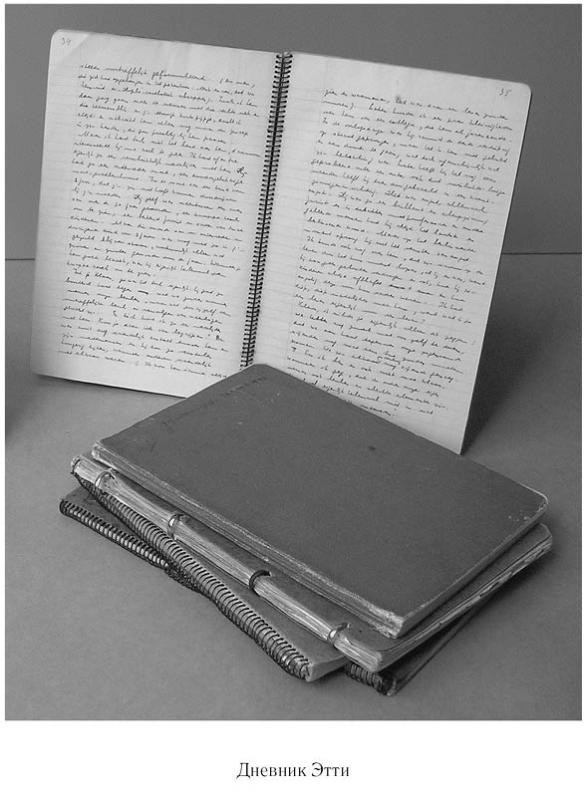
Господи, в эти неистовые времена зачастую едва возможно постичь, духовно переработать то, что твои подобия на земле причиняют друг другу. Но, оставаясь в своей комнате, Господи, я не прячусь от этого. Мои глаза открыты, я ничего не стремлюсь избежать, я пытаюсь понять и объяснить даже самые ужасные преступления. Я неуклонно продолжаю искать след маленького беззащитного человека, которого в чудовищных руинах его безрассудных действий порой разыскать невозможно. Я не останусь в этой тихой комнате, любуясь цветами, вместе с поэтами и мыслителями прославлять тебя. По правде говоря, это было бы слишком легко. И я вовсе не оторвана от мира, как трогательно утверждают мои добрые друзья. Знаю, у каждого человека – своя реальность, но тем не менее я не какая‑ нибудь мечтательница, не подросток с «прекрасной душой» (Вернер[37] сказал о моем «романе»: «От прекрасной к большой душе» ). Господи, я смотрю в глаза твоему миру, я не прячусь от него в красивых мечтах, хотя думаю, что рядом с безжалостной правдой есть место и для них. Вопреки всему я продолжаю восхвалять твое творение! Если он в скором времени опять позвонит и своим инквизиторским голосом спросит: «Ну, как вы там? », я с чистым сердцем смогу ответить: «Вверху – очень хорошо, внизу – очень плохо! »
Большинство проблем, если их определить, в основном решаются. Быть может, в жизни все по‑ другому, но по крайней мере в психологии это так. И мне вдруг стало ясно: когда я чувствую себя нездоровой, это очень часто зависит от моих отношений с ним, а когда беспомощной фразой кое‑ как выражаю это на бумаге, – внезапно немного от него освобождаюсь и с этим отвоеванным кусочком свободы могу снова идти к нему. Таким образом, параллельно протекают оба процесса – приближения друг к другу и все большего освобождения друг от друга. В дни, когда чувствую себя слабой, утомленной, наверное, невольно я крепче цепляюсь за его силу, словно от нее зависит мое спасение. И в то же время его переливающаяся через край энергия выводит меня из строя, ибо я чувствую, что мне не сравниться с ней, и я боюсь не устоять под ее напором. Однако и та, и другая реакция неверны. Мое исцеление и перерождение должны быть достигнуты моими собственными, а не его силами. В такие моменты вырывающаяся из него мощная жизненная сила раздражает и пугает меня. Наверное, больной человек, находясь рядом с человеком, пышущим здоровьем, часто чувствует свою ущемленность.
Суббота [30 мая 1942], 7. 30 утра. Голые стволы, возвышающиеся перед моим окном, покрываются молодой зеленой листвой. Вьющийся покров на обнаженном крепком теле аскета.
Как же это было вчера вечером в моей маленькой спальне? Я рано легла и долго смотрела в большое открытое окно. И было так, будто Жизнь со всеми ее тайнами была совсем рядом, будто я могла прикоснуться к ней, и будто, покоясь на ее обнаженной груди, слушала ее тихое, ровное сердцебиение. Я чувствовала себя такой защищенной в ее руках и думала о том, как же все странно. Война, концентрационные лагеря, все возрастающая жестокость. Проходя по улицам мимо чьих‑ то домов, я знаю: здесь в тюрьме сын, здесь заложником держат отца, а там оплакивают смертный приговор восемнадцатилетнему сыну. Эти улицы и дома находятся рядом с моим домом. Я знаю, как затравлены люди, знаю об огромном, все умножающемся человеческом горе, знаю о преследованиях и притеснениях, о произволе, страшном садизме и бессильной ненависти. Но зная все это, я продолжаю смотреть в глаза каждому встающему передо мной фрагменту действительности.
И все равно в какой‑ то незащищенный, мне одной предоставленный момент я лежу на обнаженной груди жизни, и ее руки ласково, бережно обнимают меня, а ее сердцебиение не поддается описанию: такое медленное, размеренное, тихое, почти приглушенное, но и надежное, никогда не прекращающееся, такое доброе и милосердное.
Таково теперь мое жизнеощущение, и я не думаю, что война или какая‑ нибудь бессмысленная человеческая жестокость в состоянии что‑ либо в нем изменить.
Четверг [4 июня 1942], 9. 30 утра. В такой летний день, как сегодня, чувствуешь себя словно убаюканным множеством ласковых рук. Становишься таким вялым, ленивым, а внутри тебя неизвестно для чего волнуется целый мир. Что я еще хотела сказать: когда он не так давно пел «Липу»[38] (это было столь прекрасно, что я попросила его спеть целый липовый лес), морщины на его лице походили на старинные тропы, пролегающие через древний, как сам мир, ландшафт.
Недавно, когда мы сидели за угловым столиком у Гайгера[39], между нами промелькнуло тонко очерченное, юное лицо Мюнстербергера, и я ужаснулась тому, какое старое у S. лицо, как будто сквозь него прошла не одна, а множество жизней. И моя, как на мгновенном снимке, отразившаяся реакция: я не хотела бы навсегда связать свою жизнь с его жизнью, это невозможно. По своей сути – пошлая, мелкая реакция. Она основывается на привычных представлениях о браке, супружестве. Ведь моя жизнь и так уже связана, а лучше сказать – соединена с его. И не только жизни, связаны наши души. Согласна, такая формулировка в утренний час может показаться высокопарной, но, наверное, это оттого, что ты еще не вполне «признаешь» слово «душа».
И на редкость низко, когда его лицо случайно покажется тебе приятным, думать: мол, да, я бы вышла за него замуж и осталась бы с ним навсегда, а в моменты, когда видишь его старым, таким древним, в особенности если рядом чье‑ то молодое, свежее лицо, думать – нет, все‑ таки нет. Есть критерии, от которых тебе нужно навсегда избавиться. Это тот тип реакции, который… да, не могу пока иначе выразить, который препятствует действительно большому, переходящему через все границы условностей и брака чувству единения. И при этом речь идет даже не об условностях, не о браке как таковом, а о тех представлениях, которые о нем сложились.
Просто непозволительно – в один момент из‑ за определенного выражения лица или еще чего‑ нибудь подумать: я бы с удовольствием вышла за него, а в следующий – реагировать противоположным образом. Такое действительно не должно происходить, потому что это не имеет ничего общего с теми важными вещами, о которых идет речь. Это опять что‑ то такое, чего я не в состоянии передать даже приблизительно. Но нужно многое из себя выкорчевать, дабы освободить безгранично широкое пространство для больших настоящих чувств и не перечеркивать их реакциями низшего порядка.
Пятница [5 июня 1942], 19. 30. Сегодня днем вместе с Гласснером рассматривала японские гравюры. И вдруг поняла: хочу писать вот так. С таким большим пространством вокруг нескольких слов. Ненавижу многословие. Хочу писать лишь теми словами, которые, органично включая в себя высокое безмолвие, не заглушают, не разрушают его. Слова должны подчеркивать молчание. Как цветущая ветка в нижнем углу на японской гравюре. Пара легких штрихов, но как переданы мельчайшие детали! А вокруг – большое пространство, но не пустое, одушевленное. Не выношу нагромождения слов. О жизненно важных вещах можно сказать несколькими словами. Если я когда‑ нибудь буду писать (что, собственно? ), хотелось бы на безмолвном фоне набросать всего несколько слов. Но труднее, чем найти те самые слова, будет передать тишину и молчание, одушевить их. Я имею в виду точное соотношение слов и безмолвия; безмолвия, в котором происходит больше, чем во всех связанных друг с другом словах.
И в каждом рассказе, или что это будет, тихий фон, как на японских гравюрах, должен звучать иначе и передавать другое содержание. Речь ведь идет не о неопределенном, непостижимом молчании, молчание тоже должно иметь четкие контуры и свои собственные формы. И поэтому слова должны служить только точной передаче формы и очертаний молчания. Каждое слово – как веха или холмик вдоль бесконечных дорог просторной равнины. Это уже по‑ настоящему странно: я могла бы написать целую главу о том, как, собственно, хотела бы писать, и при этом, вполне возможно, кроме этого рецепта, никогда не напишу и буквы. Но японские картины вдруг наглядно показали мне, как я хотела бы это делать. Вот бы побродить когда‑ нибудь по японским ландшафтам, чтобы еще лучше осознать это. Вообще‑ то я думаю, что когда‑ нибудь, позже, отправлюсь на Восток, чтобы там в каждодневной жизни найти для себя то, что здесь можно по ошибке вообразить неверно.
9 июня [1942], вторник, половина 11‑ го вечера. Сегодня во время завтрака – более или менее подробные новости о ситуации в еврейском квартале. Восемь человек в одной маленькой комнате, со всеми связанными с этим неудобствами. Все это еще трудно охватить, постичь, и едва ли можно себе представить, что все происходящее на соседней улице – твое собственное будущее. И сегодня вечером, во время короткой прогулки (от наших швейцарских вегетарианцев к его растущей во все стороны герани), я вдруг спросила его: «Скажи, что делать с чувством вины, охватывающим меня, когда я слышу, что восемь человек должны жить в тесном помещении, в то время как у меня, одной, – большая светлая комната? » Он бросил на меня искоса свой, несомненно, несколько дьявольский взгляд и сказал: «Здесь две возможности: либо ты выезжаешь из квартиры (при этом он с выражением “я прямо вижу, как ты уже это делаешь” иронично, испытующе посмотрел на меня), либо ты должна выяснить, что скрывается за этим чувством вины. Может быть, ты просто недостаточно работаешь? » И тут мне все стало ясно и я сказала: «Да, видишь ли, во время работы я всегда витаю в высоких духовных сферах, а когда слышу о таких бесчинствах, у меня наверняка несознательно или, наоборот, осознанно, как сейчас, возникает вопрос: смогла бы я продолжать с той же убежденностью и отдачей работать, живи я в грязной комнате с восьмью голодными людьми? » Потому что эта духовная работа, эта интенсивная внутренняя жизнь только тогда имеет ценность, когда продолжается невзирая на внешние обстоятельства. И если невозможно продолжать ее на деле, в поступках, – то хотя бы внутренне, мысленно. Иначе все, что я сейчас делаю, это всего лишь «эстетство». И, наверное, на короткое время меня это парализует (прежде что‑ то в этом роде держало меня неделями, но тогда, вероятно, я еще не верила в необходимость этой работы). Страх: останусь ли я той же в подобных обстоятельствах. Сомнение: выдержу ли я такие испытания. Обоснованность вот такого моего существования я должна еще только доказать. Все равно мне придется жить так, как живу, ибо не гожусь ни в социальные работники, ни в политические деятели, и даже если мое чувство вины гонит меня в этом направлении, такие мысли возникать не должны.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|