
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Вопросы и задания 6 страница
— Вот вам, говорит актриса, чертя карандашом по бумаге. — Токатлиан. От этой штучки вы идите налево, сворачивайте на эту штучку, потом огибаете эту штучку, и тут второй дом, где я живу. Номер 22. Третий этаж, квартира барона К.
Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся.
На другой день вечером, когда я собрался в гости к актрисе, зашёл знакомый.
— Куда вы?
Куда? От Токатлиана прямо, потом свернуть в одну штучку, потом в другую. Квартира барона К.
— Знаю. Хороший дом. Что ж это вы, дорогой мой, идёте в такое аристократическое место — ив пиджаке.
— Не фрак же надевать!
— Л почему бы и нет? Вечером в гостях фрак — самое разлюбезное дело. Всё-таки, это ведь заграница!
— Фрак так фрак, — согласился я. — Я человек сговорчивый.
Оделся, и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фрачной сорочки, отправился на Перу танцовать от излюбленной русской печки.
Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, то это только половина дела. Другая половина - найти номер дома. Это трудно. Потому что седьмой номер помещается между 29-м и 14-м, а 15-й скромно заткнулся между 127-6 и 19-а.
Вероятно, это происходит потому, что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. Л потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему более по душе.

Искомый номер 22 был сравнительно приличен: между 24-м и 13-м.
На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида.
— Что угодно?
— Анна Николаевна здесь живёт?
— Какая?
— Русская. Беженка.
Ах, это вы к Аннушке! Аннушка! Тебя кто-то спрашивает.
Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница в фартуке и с какой-то тряпкой в руке.
Первые слова её были такие:
— Чего тебя, ирода, черти-то по парадным носят? Не мог через чёрный ход притить?!
— Виноват, — растерялся, — сказали...
— Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня. Я его до- преж того в Петербурхе знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотёпа!
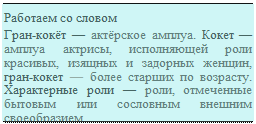 Кухня была тёплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее.
Кухня была тёплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее.
— Ну, садись, кум, коль пришёл. Самовар, чать, простыл, но стакашку ещё нацедить — возможное дело.
А я вижу, вы с гран-кокет перешли на характерные, — уныло заметил я, вертя в руках какую-то огромную ложку с дырочками.
Чаво? Я, стало быть, тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забиждают.
— На своих харчах? — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.
Хозяйские. И отсыпное хозяйское.
И доход от мясной и зеленной имеете?
Законный процент. (В последнем слове она сделала ударение на «о»). А то, может, щец похлебаешь? С обеда остались. Я б разогрела.
Вошла хозяйка.
Аннушка, самовар поставь.
Во мне заговорил джентльмен.
— Позвольте, я поставлю, — сказал я, кашлянув в кулак. — Я мигом. Стриженая девка не успеет косы заплести, как я его уш- кварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите: куда насыпать уголь и куда налить воды.
Кто это такой, Аннушка? спросила хозяйка, с остолбенелым видом разглядывая мой фрак.
Так один тут. Вроде как сродственник. Он, барыня, тихий. Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить.
Вы давно знакомы?
—  С Петербурга. — скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу. — Аннушка в моих пьесах играла.
С Петербурга. — скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу. — Аннушка в моих пьесах играла.
— Как... играла... Почему в ваших?
— Л кто тебя за язык тянет, эфиоп, — с досадой пробормотала Аннушка. — Места только лишишься из-за вас, чертей. Видите ли, барыня... Ихняя фамилия — Аверченко.
Так чего ж вы тут. Господи! Пожалуйте в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады.
— Видала? — заносчиво сказал я, подмигивая. — А ты меня всё ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются, к столу приглашают.
С чёрного хода постучались. Вошёл ещё один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший третьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с галуном и сказал:
— Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское.
•kle-k
Мы сидели в столовой, за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое — кухарка, швейцар и я.

|
 |
|
Л мы сидели трое кухарка, швейцар и я — и, сблизив головы, тихо говорили о том, что ещё так недавно сверкало, звенело и искрилось, что блистало, как молодой снег на солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь залилось океаном топкой грязи.
Усталые затуманенные слезами глаза тщетно сверлят завесу мглы, повешенную господом Богом... Какая это мгла? Предрассветная? Или это сумерки, за которыми идёт ночь, одиночество и отчаяние?
(^] Размышляем над прочитанным
1. Какие способы создания комического использует автор? Приведите примеры из текста.
2. Какие художественные детали помогают читателю представить образ героя рассказа? Почему во фраке герой выглядит особенно нелепо?
3. Прокомментируйте фрагмент диалога Аннушки и героя:
— На своих харчах? — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.
— Хозяйские. И отсыпное хозяйское.
— И доход от мясной и зеленной имеете?
— Законный процент. (В последнем слове она сделала ударение на «о»).
О чём говорят герои? Используя интернет-словари, прокомментируйте непонятные слова. Что хотел подчеркнуть автор словами «на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска»?
Ц 4. Проанализируйте речь Аннушки и найдите в ней просторечные слова и выражения. С какой целью она их употребляет?
5*. Прочитайте финал рассказа и определите его пафос.
6. Почему рассказ называется «Русское искусство»?
7. Подготовьте радиопостановку фрагмента рассказа «Русское искусство» со слов «Что угодно?» до слов «Такое наше дело швейцарское».
Круг чтения
>■ А. Т. Аверченко. Широкая Масленица. Рыцарь индустрии. Волчья шуба. История болезни Иванова. День человеческий. Чёртово колесо.
Стихотворения поэтов первой волны русской эмиграции: Георгия Адамовича, Дона Аминадо, Константина Бальмонта, Ивана Бунина. Георгия Иванова, Владимира Набокова, Ирины Одоевцевой, Владислава Ходасевича и др. ◄

О ВАШИХ РОВЕСНИКАХ
Прощание с детством
Неизбежно с неведомым дети роднятся: Звёзды! Бури морские! Над бездной мосты! Станет поступь другой. Сны другие приснятся. Вдруг исчезнут игрушки. Нахлынут мечты. И былое померкнет перед небывалым, И покажется милый родительский дом Неуютным в сравненье с походным привалом. — Мы об этом ещё пожалеем потом.
В. Д. Берестов
В жизни каждого человека есть несколько этапов: завершается какой-то период и начинается следующий. У школьников своеобразным рубежом, конечно, является окончание 9 класса, а вслед за этим окончание школы. Затем наступает новая полоса — юность, когда большинство вчерашних школьников становятся студентами или идут работать. Наступает новый этап: детство заканчивается, но оно не уходит совсем, а навсегда остаётся в воспоминаниях. Прощание с детством это не только потеря, но и приобретение. Появляется новое окружение, новые друзья, навыки будущей профессии, а главное - осознание того, что за все свои шаги и поступки человек должен отвечать сам, пробуя во всех делах свои молодые силы.
Переход от отрочества к юности не всегда происходит безболезненно, все люди совершают ошибки. Но вместе с «шишками» приходит и опыт. Новые умения появляются не сами собой, а в результате усилий, которые каждый должен научиться делать над собой. Приходит и эмоциональный опыт: то, на что не обращают должного внимания в подростковом возрасте (любовь, взаимопонимание, сострадание, великодушие), в юности становится важным, укрепляется в сердце.
Знаете ли вы, что ещё полвека назад обязательным образованием была семилетка и выпускники 7 классов уже в 14 лет шагали в большую жизнь? Кто-то, конечно, продолжал учиться в старшей школе, кто-то поступал в профессиональное училище или техникум. Но многие уже в 14 лет начинали работать на заводах и фабриках, чтобы материально помочь своим семьям, и учились заочно. Несомненно, это требовало от подростков большей ответственности в своих решениях и особенно в выборе профессии. Но на пороге юности ваши сверстники тех далёких лет так же, как и вы, прислушивались к новым состояниям своей взрослеющей души, мечтали о настоящей дружбе и верной любви, радовались ярким событиям и впечатлениям жизни, хотели покинуть родительский дом и стать самостоятельными. увидеть мир, стремились поразить окружающих смелыми и неожиданными поступками. Среднюю школу юноши и девушки заканчивали в возрасте 16—17 лет, и студенты того времени могли быть вашими ровесниками, как и герой повести Юрия Коваля «От Красных ворот».

Из первых уст
► Звенят-поют, забвению мешая,
В моей душе слова: «пятнадцать лег».
О, для чего я выросла большая?
Спасенья нет!
Ещё вчера в зелёные берёзки
Я убегала, вольная, с утра.
Ещё вчера шалила без причёски.
Ещё вчера!
Весенний звон с далёких колоколен
Мне говорил: «Побегай и приляг!»
И каждый крик шалунье был позволен,
И каждый шаг!
Что впереди? Какая неудача?
Во всём обман и, ах, на всём запрет!
— 'Гак с милым детством я прощалась, плача, В пятнадцать лет.
М. И. Цветаева ◄
Вопросы и задания
1. Прочитайте эпиграф к статье «Прощание с детством» и прокомментируйте его последнюю строчку.
2. Близки ли чувства лирической героини М. И. Цветаевой, вступающей в юность, вашему ощущению жизни? Обоснуйте свой ответ.
 Юрий Иосифович Коваль
Юрий Иосифович Коваль
Литературные имена России
Юрий Иосифович Коваль (1938—1995) — поэт, писатель, художник, сценарист игровых и мультипликационных фильмов, автор песен, диафильмов. Произведения Юрия Коваля пронизаны особым лирическим юмором, который понятен и детям, и взрослым.
Окончив школу, Юрий Коваль стал студентом историко-филологического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина, где в то время работали выдающиеся преподаватели, а имена его однокашников и сокурсников теперь
известны всем: поэт и актёр Юрий Визбор, поэт, прозаик и сценарист Юрий Ряшенцев, поэт и драматург Юлий Ким. режиссёр театра и кино Пётр Фоменко.
Писать рассказы Коваль начал в школьные годы, публиковаться в институтской многотиражке. Одновременно он пробовал себя и как художник, изучал жанры изобразительного искусства, занимаясь живописью, скульптурой, графикой. Это позволило ему получить по окончании института право преподавать в школе русский язык, литературу, историю и рисование.
Коваль очень много ездил по стране и постоянно писал, пробуя себя в разных жанрах. Так появились юмористический детектив • Приключения Васи Куролесова», повести «Недопёсок» и «Алый», по которым были сняты известные фильмы.
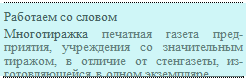 После путешествия по северным рекам он написал одну из лучших своих книг повесть «Самая лёгкая лодка в мире», получившую Почётный диплом Международного совета по литературе для детей и юношества. ◄
После путешествия по северным рекам он написал одну из лучших своих книг повесть «Самая лёгкая лодка в мире», получившую Почётный диплом Международного совета по литературе для детей и юношества. ◄
Из первых уст
► Слово Юрия Коваля будет всегда, пока есть кириллица, речь вообще и жизнь на Земле.
Татьяна Бек
Юрий Коваль — писатель нужный, чрезвычайно необходимый. Скажу иначе: Коваль — писатель чрезвычайной необходимости. Так весомей звучит, необходимей, чрезвычайной. Необходимый он даже нс потому, что написал «Недопёска» — «одну из лучших книг на земле», как назвал её поэт Арсений Тарковский. А потому, и это в первую очередь, что он знает все звериные языки Земли кошачий, собачий, птичий, — включая языки экзотические, такие как пчелиный и черепаший. Коваль вообще знал много чего. <...>
Книги Коваля (каждая!) такие же чудесные, как Жар-птица.
А. Етоев ◄
Какие книги Юрия Коваля вы читали? Чем они вам запомнились?
Прочитайте повесть «От Красных ворот» и подумайте, чем похож её главный герой на вас и ваших одноклассников.
Историко-культурный комментарий
► Триумфальная арка «Красные ворота», построенная в 1709 году по приказу Петра I в честь победы над шведами под Полтавой, вначале была деревянной и неоднократно разрушалась из-за частых пожаров в Москве, но в середине XVIII века была перестроена по проекту архитектора Д. В. Ухтомского и стала величественным камеи-
ным сооружением, выполненным в стиле барокко. Арка была украшена лепниной, росписью и бронзовыми фигурами, гербами губерний Российской империи и портретом императрицы Елизаветы Петровны.
В конце 1920-х годов арка «Красные ворота» была разрушена из-за расширения Садового кольца и прокладки трамвайных путей. В 1935 году под площадью была проведена первая линия московского метро.
При разработке проекта станции метро «Красные ворота» архитектор Иван Фомин выполнил вестибюль станции в форме арки триумфальных ворот. Сегодня эго название носит и площадь, где они находились, и станция метро. ◄

|
(Отрывок)
<...> Я всю жизнь терпеть не мог маленьких беленьких собачонок. И в особенности тех, у которых были такие розовые глазки, принакрытые бровками.
Розовые, розовые, розовые глазки!
Из-за вас
в который раз
хожу на перевязки.
Я не понимал, как можно ходить на перевязки из-за такой чепухи.
Беленьких собачонок с розовыми глазками я не считал собаками. Для меня это были бегающие шампиньонники.
Я питал страсть к гончим псам, к благородным сеттерам — ирландским и гордонам, я уважал дратхааров. преклонялся перед западносибирской лайкой.
Впрочем, Милорд не был таким уж маленьким и беленьким. Его нельзя было назвать шампиньонником.
Для фокстерьера у него был хороший рост, а белую его рубашку украшали чёрные и коричневые пятна. Одно ухо — чёрное, а вокруг глаза расширялось коричневое? очко, симпатично сползающее к носу. И никаких розовых глазок осмысленные, карие, с золотинкой. <...>
У Красных ворот стоял наш дом — серый и шестиэтажный, эпохи модернизма. Но не в серости его и шестиэтажности было дело. Важно было, что он стоял у Красных ворот.
Я гордился тем, что живу у Красных ворот.
В детстве у меня была даже такая игра. Я выбегал к метро и спрашивал у прохожих:
— Ты где живёшь?
На Земляном или на Садовой, отвечали прохожие.
А я у Красных ворот. Это звучало сильно.
Обидно было, конечно, что никаких ворот на самом деле не было, не существовало. Они стояли здесь когда-то давно-давно, а теперь на их месте построили станцию метро. Эта станция, построенная в эпоху серого модернизма, могла сойти и за ворота, но то были ворота под землю, а ворота под землю никогда не могут заменить ворот на земле.
Не было, не было Красных ворот, и всё-таки они были. Я не знаю, откуда они брались, но они были на этом месте всегда. Они даже как будто разрослись и встали над метро и над нашим домом. <...>
Надо сказать, что проблема полёта домашних животных никогда особенно не занимала меня, а в период подготовки к экзаменам я не мог уделять этому делу никакого времени.
Просто-напросто, отбросив учебники, я выходил с Милордом к фонтану.
К нам присоединилось и некоторое третье лицо — тонкий кожаный поводок, который я пристёгивал к ошейнику собаки. Дома пристёгивал поводок, у фонтана отстёгивал.
Поводок был необязателен. Милорд сам по себе ходил у моего ботинка. Но все приличные владельцы собак имели поводки. Поводок считался важным звеном, связывающим человека с собакой, и я это звено имел.
Это кожаное тоненькое, но крепкое звено Милорд ненавидел. Он не понимал его смысла. Он считал, что нас связывает нечто большее.
Как только я отстёгивал поводок у фонтана, Милорд немедленно принимался его грызть.
Это сердило. Я не мог каждый день покупать связывающие нас звенья. И я старался отнять у Милорда кожаное изделие.
Уступчивый обычно Милорд оказался здесь на редкость упрям. Я не мог выдрать поводок из его зубов. Фокстерьеры вообще славятся мёртвой хваткой, и Милорд поддерживал эту славу изо всех сил.
С мёртвой хватки и начались необыкновенные полёты Милорда.
Однажды у фонтана он вцепился в поводок особенно мёртво. Так и сяк старался я расцепить его зубы и спасти поводок. Многие жители нашего двора повысовывались в окна, потому что у фонтана слышалось грозное рычанье и мои крики в стиле: «Отдай! Отцепись!»
Оконные зрители раздразнили меня, я дергал поводок всё сильнее. Милорд же всё сильнее упирался и сквозь зубы рычал.
Я затоптался на месте, туго натянув поводок, закружился, и Милорду пришлось бегать вокруг меня. Я затоптался быстрее — Милорд не успевал переставлять ноги, они уже волочились и вдруг оторвались от земли.
Низко, над самой землею летал вокруг меня Милорд. Он рычал, но поводок изо рта не выпускал.
Я кружился всё быстрее, Милорд подымался в воздухе всё выше и скоро достиг уровня моей груди.
Голова у меня у самого уже закружилась, но я поднял его в воздух ещё выше, и вот он летал на поводке в воздухе высоко у меня над головой.
Зрители остекленели в окнах.
Никогда в жизни ни одна собака не летала ещё в нашем дворе вокруг фонтана.
Наконец чудовищная центробежная сила разжала мёртвую хватку, Милорд отпустил поводок и, подобно лохматому и рычащему булыжнику, выпущенному из пращи, полетел от меня над фонтаном.
Он врезался задом в окно первого этажа, которое, впрочем, было затянуто крепкою стальною противофутбольной сеткой.
Отпружинив от сетки. Милорд снова ринулся ко мне, вцепился в ненавистный поводок, и я снова закрутил его над фонтаном.
Необыкновенные полёты гладкошёрстного фокстерьера сделались любимым зрелищем мелких жителей нашего двора и крупной уличной шпаны. Когда мы гуляли у фонтана, вокруг нас всегда топтались тёмные типы с просьбою «повертеть Милорда». Я же, отупевший от собственных успехов, частенько уступал их просьбам.
Я раздразнивал Милорда поводком, давал ему покрепче ухватиться и начинал, как волчок, крутиться на месте, постепенно отрывая собаку от земли.
Иногда мне удавалось угадать момент, когда чудовищная центробежная сила должна была вот-вот победить мёртвую хватку, и я постепенно опускал собаку на землю. Большей же частью этот момент угадать мне не удавалось, и чудовищная центробежная сила побеждала мёртвую хватку, и, подобно булыжнику, выпущенному из пращи, Милорд улетал от меня над фонтаном и попадал задом в окно первого этажа, затянутое крепкою стальною сеткой.
А там, за этим окном, всегда, и даже летом, готовила уроки отличница Эллочка, и многие считали, что я нарочно целюсь в её окно своей летающей собакой.
Но, хотя Эллочка всегда внутренне притягивала меня, я никогда в её окно Милордом не прицеливался. Глубокий внутренний интерес, который я чувствовал к Эллочке, как-то сам по себе воплощался в собачьем полёте, и как же, наверно, удивлялась Эллочка, когда, оторвав свои очи от бледных ученических тетрадей, вдруг видела, как в окно её летит по воздуху задом гладкошёрстный фокстерьер.
Летающий Милорд не всегда попадал в это чудесное окно. Иногда улетая от меня, он врезался в прохожих, опрокидывал урны. Голубчик, он вовсе не обращал внимания на то, во что врезался. Ему явно нравилось летать, и, врезавшись во что-то, он тут же вскакивал на ноги и мчался ко мне, готовый вступить в мёртвую схватку с чудовищной центробежной силой.
Пришёл месяц сентябрь, и я вступил под своды Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина.
♦ Под своды» — это сказано правильно. Институт наш имел как- то особенно много сводов, куда больше, чем все другие московские вузы. И главный, стеклянный его свод увенчивал огромнейший Главный зал. А в Главном зале нашего института свободно мог бы уместиться шестиэтажный дом эпохи модернизма.
Прохлада и простор — вот какие слова приходят мне на ум. когда я вспоминаю Главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок, здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет этот был ясен и трезв. Что-то древнеримское, что-то древнегреческое чудилось в самом воздухе этого зала, и только особенный пасмурносеребряный свет, заливающий его пространство, подчёркивал северность этого храма науки.
А на галереях, усложнённых пилястрами и балюстрадами, на галереях с элементами колоннад было ещё много сводов, а под сводами этими... боже! Чего только не бывало под этими сводами! Какие вдохновенные лица горели на галереях и блистали на кафедрах, какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Только лишь один простой перечень сланных имён занял бы сотню самых убористых страниц, и нет никаких сил составить такой перечень, но и удержаться безумно трудно.
Историко-культурный комментарий
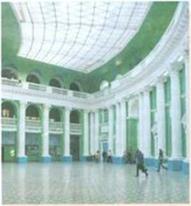
|
Ну вот хотя бы Юрий Визбор. Ну Юлий Ким. Ну Пётр, хотя бы. Фоменко, ну Юрка Ряшенцев, ну Лёшка Мезинов, ну Эрик Красновский... Нет, не буду продолжать, иначе мне никогда не вырваться из-под магического знака великих и родных имён, так и буду вспоминать, так и буду перечислять до конца дней своих, забросив к чёртовой матери детскую и юношескую литературу, да ведь и как забыть эти лица, освещённые вечным пасмурным светом, льющимся с наших северных небес в глубину Главного зала?! Вот, скажем, Алик Ненароков? И не только он! А Гришка-то Фельдблюм? А Валерка Агриколянский?
А какие же ходили здесь девушки! Да что же это за чудеса-то бегали тогда по бесконечным нашим лестницам и галереям?! Вог мой, да не я ли отдал в своё время всю жизнь за Розу Харитонову? Невозможно и невыносимо просто так, без сердечного трепета называть имена, которые вспыхивали тогда под пасмурным серебряным и стеклянным нашим потолком. И я трепещу, и вспоминаю, и буквально со слезами полными глаз думаю... Впрочем, хватит слёз и глаз, но вот ещё одно имя — Марина Кацаурова.
Именно из-за неё притащил я в институт Милорда.
Посреди Главного зала, под северным и серебряным нашим стеклянным потолком, раскрутил я Милорда. Чудовищная центробежная сила взяла верх над мёртвою фокстерьере кой хваткой и рычащий Милорд полетел над головами доцентов и врезался в почётнейшую доску, на которой было написано: «Славные сталинские соколы-стипендиаты».
Запахло отчислением.
Дня через два меня пригласил в кабинет наш именитый декан Фёдор Михайлович Головенченко. На его имя подали докладной конспект, в котором описывалось моё поведение. Среди прочих оборотов были в нём и такие слова: «... и тогда этот студент кинулся собакой в доску».
— «И тогда этот студент, читал мне Фёдор Михайлович, многозначительно шевеля бровями, — кинулся собакой в доску».
И Фёдор Михайлович развёл величаво философские брови свои.
Что же это такое-то? — сказал он. — «Кинулся собакой». Вы что же это — грызли доску? Тогда почему «кинулся собакой в доску»? Надо бы — «на доску». Или студент был «в доску». Что вы на это скажете?
Я панически молчал. Я не мог подобрать ответ, достойный великого профессора.
— Впрочем, — размышлял Фёдор Михайлович. — Следов погрыза или другого ущерба на доске не обнаружили. Доска, слава Богу, цела... Но поражает словесная фигура: «... и тогда этот студент кинулся собакой в доску». Что же это такое?
Извините, мне кажется, что это — хорей, — нашёлся наконец я. Хо-рэй? Какой хо-рэй?
Четы рёхстоп н ы й.
В чём дело? О каком вы хо-рэе?
— «И тогда этот студент кинулся собакой в доску»...
Я полагаю, что это хорей, Федор Михайлович, но с пиррихием.

Фёдор Михайлович воздел длани к сводам и захохотал.
— Божественный хо-рэй! — воскликнул он. — Божественный хо- рэй! И он ещё рассуждает о хо-рэе! Подите вон, знаток хорэя, я не желаю больше думать о собаке и доске!
Я попятился, наткнулся на какое-то кресло, замялся в дверях, не понимая, прощён ли я.
— О, закрой свои бледные ноги! воскликнул тогда декан, и. бледный, закрыл я дверь деканата.
Оказалось всё-таки, что я прощён, но потом не раз вспоминал заключительную фразу профессора. Я не мог понять, почему великий декан, грозно прощая меня, привёл классический пример одно- стишия *0. закрой свои бледные ноги». Наверно, мой жалкий вид не мог возбудить в его памяти никаких стихов. к|юме этих.
Больше я Милорда в институт, конечно, не водил. Но как же плакал и рыдал он, когда я ухолил из дому, он забивался под кровать и лежал там в тоске, нежно прижавшись к старому моему ботинку. Сердце разрывалось, но я ничего не мог поделать собака есть собака, а студент есть студент.
К концу сентября Милорд совершенно зачах. Огромное разочарование наступило в его жизни. Ему казалось, что он нашёл ботинок, возле которого можно двигаться всю жизнь, а ботинок этот удвигал- ся каждое утро в педагогический институт.
В первое воскресенье октября я повёз его в лес. на охоту.
Была тогда странная осень.
Золото, которое давно должно было охватить лес. отчего-то запоздало, ни золотинки не виднелось в березняках, ни красной крапинки в осинах. Сами берёзовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром. Им неловко было, что они ещё такие зелёные, такие молодые, а давно уж должны были озолотеть.
Я шёл вдоль болотистого ручья, медленно постигая берега его.
Я ждал уток, и они взлетали порой, и первым подымался селезень. а следом утка, и только потом, в небе, они перестраивались иначе — первой шла утка, а за нею — селезень. Впрочем, осенью всегда трудно разобраться, где утка, где селезень, не видно немыслимо-зелёной весенней селезневой головы, только по взлёту и полёту можно догадаться.
Странная была тогда осень. Утки отчего-то разбились на пары, а надо было им собираться в стаи и улетать на юг.
Утки, разбившиеся на пары, и листья, которые не желали золотеть, изо всех сил затягивали лето.
Я иногда стрелял. Милорд при звуках выстрелов выскакивал высоко из травы, выглядывая улетающую добычу. Он не понимал меня и моей стрельбы, потому что в душе не был, конечно, утятником. Его тянуло в лес. Мне же хотелось подбить утку, чтоб Милорд понял в конце концов, что не зря поклонялся моим сапогам и ботинкам.
Было любопытно, как он поведёт себя, когда я подобью утку. Сообразит, что её нужно подать из воды, или нет? Я был уверен, что сообразит.
 Наконец какой-то селезень зазевался. Он только ещё начал хлопать крыльями, чтоб подняться с воды, как я врезал дробью ему под крыло. Утка, скрежеща крыльями, ушла.
Наконец какой-то селезень зазевался. Он только ещё начал хлопать крыльями, чтоб подняться с воды, как я врезал дробью ему под крыло. Утка, скрежеща крыльями, ушла.
Селезень бил крылом по воде совсем неподалёку, надо было перепрыгнуть ручей, чтобы достать его. В азарте я позабыл, что решил поручить это дело Милорду, и прыгнул.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|