
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Е. П. Ильин 14 страница
Острые и глубокие реакции ревности являются результатом полной неожиданности измены на фоне благополучного супружества. Измена больше ранит доверчивого и преданного человека. Ревность становится затяжной, если ситуации не разрешается, партнер ведет себя противоречиво, не принимая определенного решения.
По Волковой, существуют следующие способы преодоления ревности.
1. Отвлечение на что-либо значимое для человека (учеба, работа, забота о детях, хобби).
КукольникН. В Сомнение // Русские песни и романсы. М : Художественная литература, 1989. С. 205.
Глава 7. Коммуникативные эмоциональные состояния 191
2. Выработка нового взгляда на вещи, формирование морали прощения, сознательный контроль над реакциями ревности.
3. Извлечение уроков, поиск собственных ошибок, построение новых отношений с партнером, возможно, другого типа.
4. Обесценивание партнера и ситуации измены — соизмерение их в ряду других ценностей, жизненных установок.
5. В случае распада партнерства — поиск нового партнера, изменение образа жизни, формирование других межличностных связей.
Детская ревность. Как пишет П. Куттер (1998), в детстве все испытали эмоциональные переживания, связанные с ревностью. Сначала ребенок любит свою мать и отца пассивно, при этом скоро он начинает понимать, что не всегда может добиться от них ответного чувства: ведь даже самая нежная мать и самый заботливый отец время от времени оставляют ребенка ради друг друга. Эт о убеждает ребенка, что всякий раз, когда он желает, чтобы кто-нибудь его любил, он рискует оказаться брошенным.
А. Валлон (1949, 1990) описывает проявление ревности у маленьких детей. Первые реакции ревности наблюдаются уже у девятимесячных детей. Они примитивны и стереотипны. Ребенок кричит, плачет, дрыгается, когда видит, как мать подходит к другому ребенку, берет его на руки. Реже ребенок ревнует ко взрослому, например когда мать делает вид, что обнимает отца. Ребенок может ревновать и к кукле, он бросает ее, если видел, как ее гладили родители. В десять месяцев видя, как мать кладет голову отцу на плечо, старается всунуться между ними.
В возрасте одного года и девяти месяцев девочка не хочет, чтобы шили платье ее кукле. В возрасте двух с небольшим лет враждебные действия в связи с ревностью уже сдерживаются, вместо них появляются переживания, обида, «надувание» губ.
Затем в возрасте от двух с половиной до пяти лет ревность появляется при наличии у ребенка уже активной любви к родителям, которая оказывается ими «неразделенной»: мать или отец не ответили ему взаимностью, не отнеслись к его чувству с желаемым трепетом. Ребенок чувствует себя отвергнутым, изолированным, «выставленным за дверь дома, в котором наслаждаются любовью и счастьем другие» (Куттер, 1998, с. 87). Этот опыт закладывает основу для всех последующих невротических расстройств и других психопатологий у данного человека.
192 Раздел III. Психические состояния
У мальчиков возникает позитивный эдипов комплекс (по имени мифического персонажа царя Эдипа, в неведении женившегося на своей матери и убившего своего отца). Он проявляется в сексуальном влечении к матери и в ревности к отцу, которого мальчик начинает рассматривать как соперника в борьбе за мать, несмотря на имеющиеся к нему нежные чувства. Возможен и негативный эдипов комплекс, когда у мальчика возникает любовь к отцу и ненависть к матери. Иногда обе формы сочетаются и возникает амбивалентное отношение к родителям.
У девочек возникает комплекс Электры (по имени мифической царевны, которая, мстя за убийство своего любимого отца, участвовала в убийстве своей матери, виновной в его гибели). У них возникает сексуальное влечение к отцу и ревность к матери, которая рассматривается как соперница. Как и у мальчиков, этот комплекс может быть позитивным, негативным (любовь к матери и ненависть к отцу) и смешанным.
У детей ревность возникает и по отношению к своим братьям и сестрам. Для первенца появление второго ребенка в семье является серьезным испытанием. Ведь старший ребенок лишается монопольного права на заботу и восхищение родителей. Одинаковый пол детей и небольшая разница в возрасте (два-три года) увеличивают вероятность появления ревности и соперничества за любовь матери. Однако насколько разовьется эта ревность, зависит от чуткости родителей, их умения показать старшему, что он по-прежнему желанен и необходим для них.
Можно полагать, что чувство ревности имеет филогенетические корни. Один из цирковых дрессировщиков рассказывал, что когда молодой леопард выполняет трюки старого, последний начинает ревновать.
Глава 8
Интеллектуальные (когнитивные) состояния
Под интеллектуальными состояниями понимают специфические состояния, возникающие у человека в процессе мыслительной деятельности (размышление, задумчивость), в том числе и так называемые интеллектуальные эмоции: удивление, изумление.
8.1. Удивление
Об удивлении как побудителе познания писал еще Аристотель (1934). У него оно служит как бы переходом от познания простых вещей к более сложным. При этом эмоция удивления развивается в ходе познания. Р. Декарт развил мысль Аристотеля о том, что познание начинается с удивления. В ряду шести основных «чувств» на первое место он ставил «чувство» удивления. Им высказан ряд важных мыслей. Он, например, писал, что поскольку мы удивляемся до того, как мы определяем ценность предмета, то удивление есть первая из всех страстей. Удивление не имеет противоположной себе эмоции. Если объект не имеет в себе ничего необычного, он не затрагивает нас, и мы рассматриваем его без всякой страсти.
13-1413
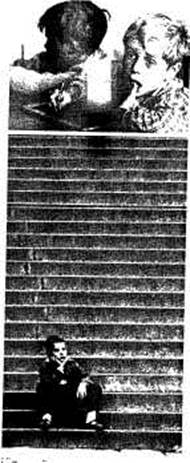
Задумчивость
194 Раздел III. Психические состояния
Удивление выполняет в познании полезную роль, так как при его возникновении душа внимательно рассматривает предметы, кажущиеся ей редкими и необычными.
И. Кант (1900) определял удивление как состояние замешательства при встрече с чем-либо неожиданным. При этом в развитии эмоции удивления он выделял две стадии: первоначально оно задерживает развитие мысли и вследствие этого бывает неприятным, а потом содействует приливу мыслей и неожиданных представлений и потому становится приятным.
Т. Рибо (1898) в понимании интеллектуальных чувств, и в частности удивления, исходил из представлений о любопытстве. Рассматривая становление интеллектуальных чувств в онтогенезе, он выделял три периода: утилитарный, бескорыстие и страсть. В первом периоде им выделялись три этапа: изумление, удивление и чисто утилитарное любопытство.
Глубокий анализ эмоциональному состоянию удивления дал Ушин-ский. Он полагал, что в удивлении к чувству неожиданности присоединяется сознание трудности примирить новое для нас явление с теми представлениями, которые уже имеются у человека. Пока мы не обратим внимания на эту трудность, будем испытывать только чувство неожиданности или чувство обмана. По мнению У шинского, дело не в самом явлении или образе, нас поражающем, а в его отношении к нашим убеждениям и рядам наших мыслей, обусловливающих наши ожидания. «Явление, поражающее химика или ботаника, может вовсе не поразить человека, незнакомого с этими науками, и наоборот, то, что поражает человека, не знающего химии и физики, вовсе не поразит специалиста в этих науках, и не поразит не потому, что химик или физик привыкли к данному явлению (они могли его прежде никогда и не видеть), но потому, что они знают, что ожидаемое явление должно произойти, и будут, напротив, удивлены, если оно не произойдет» (1974, с. 434). Ушинский для доказательства своей позиции приводит мнение Броуна, который утверждал, что удивление предполагает предварительные знания, которым новое явление противоречит, и поэтому удивление невозможно при полном невежестве. Развивая эту мысль, Ушинский отмечает, что для младенца все явления новы, но он ничему не удивляется. «Мы удивляемся новому, неожиданному для нас явлению именно потому, что чувствуем всю трудность внести его как новое звено в вереницы наших представлений, и как только мы это сделаем, так и чувство удивления прекратится...» (с. 435).
Глава 8. Интеллектуальные (когнитивные) состояния 195
Ушинский соглашается с мнением Декарта, что одни люди способнее других к чувству удивления, но сетует на то, что тот смешал это чувство со страстью удивляться (в современной терминологии последнее, очевидно, относится к любознательности). Он полагает, что людей, не ищущих удивления (нелюбознательных), действительно можно встретить, как и вообще людей, равнодушных к приобретению знаний; но людей, неспособных удивляться, нет. Ушинский пишет о трех видах людей, которые редко удивляются. Во-первых, те, которые настолько увлечены своим делом, что мало интересуются всем остальным. Во-вторых, те, у которых много разнообразных знаний и которых редко чем можно удивить. В-третьих, люди, которые знают все поверхностно, но которые, как им кажется, могут все объяснить (т. е. дилетанты).
Ушинский поднимает важный вопрос о том, что традиционные воспитание и обучение детей, когда ребенку на все даются готовые ответы, убивает способность удивляться, смотреть на природу зрелым умом и с младенческим чувством. Он считает, что свежее детское (непосредственное) и в то же время мудрое удивление присуще глубоким мыслителям и великим поэтам, останавливающимся часто перед такими явлениями, на которые все давно перестали обращать внимание. Поэтому талантливый человек всегда кажется толпе несколько ребенком. Ушинский справедливо считает такое удивление одним из сильнейших двигателей науки: часто нужно только удивиться тому, чему еще не удивлялись другие, чтобы сделать великое открытие. «Правда, — пишет Ушинский, —ученый уже не удивляется тому, чему еще дивится невежда, но зато он удивляется тому, чему невежда не может удивиться» (с. 437).
Выражение удивления. Мимическое выражение удивления состоит в следующем: брови высоко подняты, из-за чего на лбу появляются продольные морщины, а глаза расширяются и округляются. Приоткрытый рот принимает овальную форму.
Переживание, сопровождающее эмоцию удивления, носит позитивный характер. Изард (2000) считает, что в ситуации удивления люди, как правило, испытывают примерно такое же удовольствие, как и при сильном интересе. Однако приписывая удивлению переживание удовольствия, нельзя не учитывать, что Кант говорил и о недовольстве при удивлении, когда удивление задерживает развитие мысли. Да и Изард пишет: «...если Ребекка чаще испытывала неприятное удивление...» (с. 195), — соглашаясь, по сути, с тем, что удивление
13-
196 Раздел III. Психические состояния

Удивление
может переживаться и как негативная эмоция. Поэтому в обыденной речи можно услышать: «Ты меня неприятно удивил!»
Причины удивления. Еще Декарт писал, что удивление возникает при встрече человека с новым объектом. Но если это так, то эмоция удивления должна отождествляться или же быть хотя бы частью (переживанием) ориентировочной реакции или рефлекса «что такое?» по Павлову. С точки зрения Изарда, удивление порождается резким изменением стимуляции. Внешней причиной удивления, как он полагает, служит внезапное, неожиданное событие. Это ближе к истине, но тоже не совсем точно. Внезапный звук может не удивить, а испугать человека. Следовательно, нужна еще какая-то характеристика стимула, которая только одна и может привести к удивлению как психической реакции, а не только физиологической. Более точно сказано С. И. Ожеговым (1975): удивление — это впечатление от чего-нибудь неожиданного, странного, непонятного. Вот эта-то необычность стимула (оттого он и становится неожиданным, не отвечающим нашим ожиданиям, представлениям), а не просто новизна и внезапность, и является, очевидно, главной причиной появления удивления. В этой связи В. Чарлзуорт (Charlsworth, 1969) определяет удивление как ошибку ожидания.
Глава 8. Интеллектуальные (когнитивные) состояния 197
Но такое понимание удивления, замечает Изард, исключает возможность его появления раньше пяти-семимесячного возраста, так как новорожденный ребенок из-за недостаточного развития когнитивных функций еще не способен к формированию ожиданий и предположений.
Другая точка зрения высказана Т. Бауэром (Bower, 1974), который приводит данные, что реакция испуга или удивления (для него это одно и то же) наблюдается у младенцев уже по прошествии нескольких часов после рождения. Однако, чтобы согласиться с ним, нужно все-таки выяснить, что же наблюдалось у младенцев — испуг или удивление, поскольку очевидно, что это разные эмоциональные реакции.
Стадии возникновения удивления. И. А. Васильев (1974), связывающий удивление с формированием проблемы, выделяет три стадии возникновения и развития этой эмоции. Первая стадия — недоумение. Оно возникает при относительно малой уверенности в правильности прошлого опыта, когда некоторое явление не согласуется с этим опытом. Противоречие еще осознанно слабо, смутно, а прошлый опыт еще недостаточно проанализирован. Направленность недоумения четко не выражена, а его интенсивность незначительна.
Вторая стадия связана с «нормальным» удивлением. Она является следствием заострения противоречия, осознания несовместимости наблюдаемого явления с прошлым опытом.
Третья стадия — изумление. Оно возникает, когда человек был абсолютно уверен в правильности предыдущих результатов мыслительного процесса и прогнозировал результаты, противоположные возникшим. Изумление часто протекает как аффект с соответствующими выразительными движениями и вегетативными реакциями.
Васильев полагает, что с помощью удивления эмоционально окрашивается и выделяется нечто «новое», имеющее ценность для человека. Эмоция удивления презентирует сознанию еще не осознанное противоречие между старым и новым и на этой основе дает возможность человеку осознать необычность ситуации, заставляет внимательно ее проанализировать и, следовательно, ориентирует его в познании внешней действительности. В то же время данная эмоция является и тем механизмом, который побуждает и направляет мотивы мыслительной деятельности, дает толчок к выбору средств для преодоления обнаруженного противоречия.
198 Раздел III. Психические состояния
8.2. Интерес как состояние
Интерес как состояние можно назвать реакцией заинтересованности. Заинтересоваться — значит почувствовать {осознать) интерес к кому-или чему-нибудь (С. И. Ожегов).
Выготский (1984) отмечает, что в субъективистской психологии интересы отождествлялись то с умственной активностью и рассматривались как чисто интеллектуальное явление, то выводились из природы человеческой воли, то помещались в сферу эмоциональных переживаний и определялись как радость от происходящего без затруднений функционирования наших сил. Очевидно, что как состояние проявления интереса к выполняемой деятельности, ситуации в нем присутствует и то, и другое, и третье, так как человеку хочется знать (интеллектуальный компонент), для этого необходимо сконцентрировать на познаваемом внимание (волевой компонент), а удовлетворение потребности в знании доставляет человеку удовольствие (эмоциональный компонент).
Эмоции, испытываемые человеком в процессе выполнения интересующей его деятельности (процессуальные интересы), Б. И. Додо-нов называет чувством интереса. Это, как он пишет, чувство успешно удовлетворенной потребности в желанных переживаниях. При этом, полагает Додонов, в зависимости от конкретного характера деятельности интерес будет выражаться через разные эмоции, иметь разную эмоциональную структуру. В то же время он полагает, что для того, чтобы понять природу человеческих интересов, их сущность надо искать не в специфике «чувства интереса», а в чем-то совсем ином. В чем именно — он не раскрыл. Это может быть и потребность в новизне, и привлекательность неизвестного, загадочного, и желание испытывать удовлетворение от сделанного.
Значительное место отводит интересу Изард (2000). Он предполагает наличие некой внутренней эмоции интереса, обеспечивающей селективную мотивацию процессов внимания и восприятия и стимулирующей и упорядочивающей познавательную активность человека. Интерес рассматривается Изардом как позитивная эмоция, которая переживается человеком чаще всех остальных эмоций.
По мнению Чарлзуорта (Charlsworth, 1968) и Изарда, интерес, как и удивление, имеет врожденную природу. Однако Изард не отождествляет интерес с ориентировочным рефлексом (непроизвольным вниманием), хотя и указывает, что последний может запускать эмоцию
Глава 8. Интеллектуальные (когнитивные) состояния 199
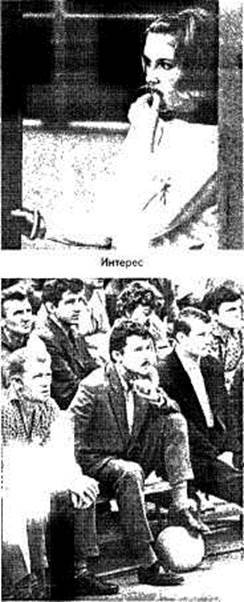
Внимание
200 Раздел III. Психические состояния

, ... - VV .*. Л. .
К. В. Лемох. Новое знакомство
интереса и способствовать ей. Однако затем ориентировочная реакция исчезает, а интерес остается. Автор подчеркивает, что интерес — нечто большее, чем внимание, и доказывает это следующим: на манекене с нарисованным лицом двухмесячный ребенок задерживает внимание дольше, чем на манекене без лица, а на живом человеческом лице — дольше, чем на манекене с лицом. Эмоция интереса отличается от ориентировочного рефлекса тем, что она может активироваться процессами воображения и памяти, которые не зависят от внешней стимуляции. Он указывает и на отличие интереса от удивления и изумления, хотя и не останавливается на дифференцирующих их признаках.
Мимическое выражение эмоции интереса, как показал Изард, чаще всего кратковременно и длится от 0,5 до 4-5 секунд, тогда как нейронная активность, вызванная интересом, и переживание его длятся дольше. Интерес может проявляться только одним мимическим движением в одной из областей лица или их совокупностью — приподнятыми или слегка сведенными бровями, перемещением взгляда по направлению к объекту, слегка приоткрытым ртом или поджатием губ.
Проявление эмоционального состояния интереса сопровождается сначала небольшой брадикардией (снижением частоты пульса), а за-
Глава 8. Интеллектуальные (когнитивные) состояния 201

I
Любопытство
тем некоторым повышением частоты сердечных сокращений. Состояние интереса, по Изарду, проявляется в таких переживаниях, как за-хваченность (увлеченность), зачарованность, любопытство.
Любопытство. Рассматривая интерес, отечественные психологи, как правило, сознательно или непреднамеренно ничего не говорят о таком психологическом явлении, как любопытство. Между тем, по Ожегову, любопытство — это стремление узнать, увидеть что-то новое, проявление интереса к чему-нибудь (я бы добавил — «здесь и сейчас»). В частности, любопытный факт — это интересный или возбуждающий интерес факт, содержащий какую-либо интригу. Отсюда заинтриговать — вызвать у человека определенное интеллектуальное состояние, возбудить интерес, любопытство чем-либо загадочным, неясным. Любопытству сродни понятие «любознательный», т. е. склонный к приобретению новых знаний.
Следует отметить, что, как писал Ларошфуко, есть две разновидности любопытства: своекорыстное — внушенное надеждой приобрести
202 Раздел III. Психические состояния
полезные сведения, и самолюбивое — вызванное желанием узнать то, что неизвестно другим.
Все сказанное выше свидетельствует о том, что нет никаких оснований исключать любопытство из рассмотрения вопроса об интересе. Очевидно, что любопытство является проявлением познавательного интереса, хотя в ряде случаев любопытство может быть мелочным и пустым (т. е. интерес проявляется ко всяким случайным или несущественным обстоятельствам, фактам и т. п.). Любопытство, по А. Г. Ковалеву (1970), можно рассматривать как проявление ситуативного интереса, как особое интеллектуально-потребностное состояние.
к
Раздел IV
Характеристика негативных
психофизиологических состояний, возникающих в процессе деятельности
Глава 9
Состояния, возникающие при монотонной деятельности и обстановке
9.1. Состояние монотонии (скуки)
Состояние монотонии, или — что то же — скуки, является по своим характеристикам противоположным состоянию напряжения. Она часто встречается на производстве (Виноградов, 1966; Золина, 1967; Фетискин, 19746, 1993; Фукин, 1982), в учебной деятельности (Фе-тискин, 1993), в учебно-музыкальной (Шурыгина, 1984) и спортивно-тренировочной (Фетискин, 1974; Фидаров, Болдин, 1975; Сопов, 1977), да и просто в обычной жизни (так называемая «монотония быта»). Вот как писатель Виктор Астафьев в своем произведении «Царь-рыба» описывает состояние промысловиков пушнины, отрезанных от мира пургой и находящихся в состоянии сенсорной депривации: «В зимней, одинокой и немой тундре даже удачный промысел не излечивает от покинутости и тоски. Случалось, опытные промысловики переставали выходить к ловушкам, заваливались на нары и, подавленные душевным гнетом, потеряв веру в то, что где-то в мире есть еще жизнь и люди, равнодушно и тупо мерзли в одиночестве, погружаясь в марь вязкого сна, дальше и дальше уплывая в беспредельную тишину, избавляющую от забот и тревог, а главное, от тоски, засасывающей человека болотной чарусой... <Они> безвольно погружались в молчаливость, расслаблялись от безделья, ленились отгребать снег от избушки, подметать пол и даже варить еду... нарушилась душевная связь людей, их не объединяло главное в жизни — работа. Они надоели, обрыдли друг другу, и недовольство, злость копились помимо их воли»1.
О сходном социально-психологическом состоянии мне рассказывали офицер атомной подводной лодки, испытавший его, когда корабль находился в многомесячном автономном плавании, а также
Роман-газета, 1977, № 5.
Глава 9. Состояния, возникающие при монотонной деятельности и обстановке 205
известный полярник, работавший на радио- и метеостанциях за полярным кругом.
В психологической литературе одно из первых упоминаний о состоянии монотонии встречается в работе Г. Мюнстерберга (Munster-berg, 1912). Изучением этого состояния интересуются физиологи, психологи, социологи. И это не случайно. Монотонность влияет на эффективность деятельности, настроение человека, на его развитие как личности. Канадский ученый В. Герон (Heron, 1957), изучавший влияние монотонной окружающей обстановки на психику и деятельность человека, пришел к выводу о необходимости постоянного изменения сенсорного окружения человека для его нормального существования. Даже животные инстинктивно избегают монотонной обстановки. Крыса, например, предпочитает использовать в лабиринте различные пути к пище, а не один и тот же; она стремится покинуть пространство, в котором провела много времени, и активно ищет новые или менее изученные участки. Это свидетельствует о том, что стремление к разнообразию впечатлений является важнейшей биологической потребностью.
Причины появления состояния монотонии
Все авторы, занимающиеся проблемой монотонии, единодушно признают, что это состояние является следствием однообразной деятельности (монотонности). Вопрос только в том, какую деятельность следует считать однообразной.
В литературе первой половины XX в. существует неоднозначность понимания терминов «монотонность» и «монотония». Многие авторы под монотонностью понимают возникающее при однообразной деятельности состояние и заменяют этим термином понятие «скука» (Maier, 1955; Bartenwerfer, 1957; Левитов, 1964). Другие (Bartley, Shute, 1947) называют монотонностью продолжительное и неприятное однообразие деятельности. В этом случае монотонность характеризует работу, а не состояние человека. Наконец, некоторые авторы характеризуют однообразие работы понятием «монотония» (Федори-шин, 1960). Я считаю обоснованным использование В. Г. Асеевым (1974) термина «монотонность» только для обозначения характера труда, окружающей человека обстановки, а для возникающего при однообразной обстановке состояния — термина «монотония».
Делались попытки развести понятия «скука» и «нудность» на том основании, что первое имеет более широкое значение, а второе харак-
206 Раздел IV. Характеристика негативных психофизиологических состояний
теризует только те психические состояния, которые возникают вследствие отрицательного влияния повторяющейся деятельности (Maier, 1955; Ryan, Smith, 1954). Однако при этом авторы допускают ту же ошибку, противопоставляя характеристику эмоционального состояния (скука) характеристике деятельности (нудность).
Точка зрения-25
Скука — психическое состояние, характеризующееся неспособностью человека устанавливать такие отношения с окружающим миром, другими людьми и самим собой, которые могли бы эмоционально захватить его и пробудить интерес к созидательной деятельности. Состояние скуки может возникать как в результате внешних ограничений, связанных с монотонной работой и изоляцией от людей, так и в силу внутренней опустошенности, пресыщенности жизнью и неспособности к эмоциональным переживаниям, вызывающим радость, восторг, желание к осуществлению активной деятельности. Скука становится неотъемлемой частью жизни многих людей, не испытывающих удовольствия ни от работы, ни от развлечений. Увеличение свободного времени ведет к тому, что многие не знают, что с ним делать и как занять себя. Не все из них обращаются за помощью к психоаналитику, но состояние скуки часто сопровождается такими болезненными проявлениями, что скучающие люди являются потенциальными пациентами. Не случайно некоторые психоаналитики стали обращать особое внимание на проблему скуки. Одним из первых, кто приступил к осмыслению данного феномена, был О. Фенихель, опубликовавший работу «О психологии скуки». Несколько десятилетий спустя к рассмотрению данной проблемы обратился Э. Фромм, считавший, что «человек — единственное животное, которое может скучать». Размышления о скуке нашли отражение в таких его работах, как «Революция надежды», «Анатомия человеческой деструктивности» и др. Исследуя феномен скуки в работе «Анатомия человеческой деструктивности», Э. Фромм выделил три категории лиц: не знающие скуки — способные продуктивно реагировать на стимулирующие раздражения; хронические скучающие — постоянно нуждающиеся в дополнительном стимулировании и в вечной смене раздражителей; больные — которых невозможно ввести в состояние возбуждения нормальным раздражителем. Для хронически скучающих и больных людей скука связана с неудовлетворением, испытываемым ими по отношению к жизни...
Осуществленное Э. Фроммом различие относится не только к типологии людей, но и к смысловому употреблению слова «скучный». Человек может изнывать от скуки в определенной ситуации, говоря, например, что ему скучно и неинтересно находиться в данной компании. Но человек может быть скучным сам по себе в силу структуры своего характера и тогда он является скучным как личность... «Многие люди готовы признать-
I
Глава 9. Состояния, возникающие при монотонной деятельности и обстановке 207
ся, что испытывают скуку (что им скучно); но вряд ли кто согласился бы, чтобы его звали скучным».
По мнению Э. Фромма, хроническая скука представляет собой одну из патологий современного общества. Большинство людей не являются тяжелобольными, но все они страдают в легкой форме недостатком продуктивности. Если такие люди не находят каких-либо способов стимулирования, то они постоянно скучают. Создается впечатление, что главной целью становится попытка «убежать от собственной скуки». Для достижения этой цели используются различные средства сиюминутного возбуждения, включая всевозможные развлечения, алкоголь, наркотики, секс. Однако все это не затрагивает творческие способности и психические возможности человека, поскольку на глубинном, бессознательном уровне он все равно пребывает в скуке.
Так, когда терапевт спросил одного из своих пациентов, имевшего большой успех у девушек, не спасает ли его от скуки секс, тот ответил. «Секс — тоже скука, но не в такой мере, как остальное».
С точки зрения Э. Фромма, следствием «некомпенсированной скуки» могут быть насилие и деструктивность. В пассивной форме они проявляются в том, что человеку нравится узнавать о преступлениях и катастрофах, смотреть по телевизору сцены кровавых убийств и жестоких драк. В активной форме удовольствие достигается путем садистского и деструктивного поведения. Мотивом некоторых убийств становится именно скука, потребность увидеть какие-то нестандартные ситуации и прекратить монотонность повседневной жизни.
Э. Фромм высказал убеждение, согласно которому «скука — одна из величайших мук». Ад представлялся ему тем местом, где царит вечная скука (Лейбин, 2001, с. 529-531).
Целесообразно, как это делают Левитов (1964) и Асеев (1974), выделить действительное (объективное) и кажущееся однообразие работы, ситуации.
Объективное однообразие (монотонность) связано с бедностью сенсорного воздействия на человека, с малой загруженностью его интеллектуальной сферы (чрезмерным дроблением рабочих операций, простотой автоматизированных действий в сочетании с их многократным повторением в одном и том же темпе, малой и средней интенсивностью нагрузки). Это относится как к интеллектуальной, так и к сенсорной и двигательной деятельности.
Субъективная (кажущаяся) монотонность может сопутствовать объективной монотонности, являясь ее отражением в сознании человека. При этом необходимо наличие двух условий, а именно: чтобы
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|