
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 10 страница
В глазах мутилось, я в изнеможении опустилась на землю, хотела забинтовать себе ногу и наложить жгут, но вспомнила про старшего сержанта. «Неужели Балатов погиб?».
Кусая до крови губы, подползла к нему. Он тихо стонал.
Перевязала ему раненую голову. Хотела заняться своей ногой, но услышала надрывный голос Ибрагимова:
— Товарищ командир, перевяжите... Болит очень...
Он лежал по другую сторону пушки. Зажав остаток бинта в руке, поползла к нему, но не хватило сил. Я потеряла сознание.
Очнулась от резкой боли. Ногу распирало. Санитар снимал с меня разрезанный сапог, залитый кровью. Уже вечерело. На машине рядом со мной лежали раненые бойцы моего взвода. Около нас стояли Аня и комбат.
— Как там наши? — спросила я Бородина.
— Атака гитлеровцев сорвалась, наши пошли вперед.
Шофер завел мотор.
— Стойте, генерал идет, — услышали мы взволнованный голос Ани.
— Ну что, Сычева, ранило? — спросил командир дивизии, подойдя к машине. — Э, да тут целый взвод. Молодцы, здорово дрались! По-гвардейски!
Лица бойцов просветлели.
— Всех награжу, — сказал командир дивизии на прощанье. — Смотрите, возвращайтесь в мою часть.
Глубокой ночью нас переправили на левый берег Днепра.
В медсанбате, осмотрев ногу, женщина-врач покачала головой:
— Девушка, вам придется отнимать ногу.
Эти слова поразили меня.
— Как отнимать?
— Да, видно, отвоевалась. Перебита малая берцовая кость, начинается гангрена.
— Не дам ни за что.
— Если не ампутировать — умрешь.
— Ну и пусть...
— Я позову главного врача.
Ко мне подошел майор. Он осмотрел рану и предложил:
— Пока можно сделать хорошую чистку.
Закатав рукава, женщина-врач начала делать чистку. Стиснув зубы, я сначала крепилась, считала неудобным кричать, но потом боль заслонила все. После укола стало легче. Кость вычистили и наложили гипс.
Нас с Балатовым отправили в госпиталь.
Недалеко от фронтовой линии на санитарный поезд налетели самолеты. Зажигательная бомба попала в третий от нас вагон. Раненые закричали: «Вагоны горят!»
Я подползла к двери. Девушка-санитарка вытаскивала раненых из горящего вагона. Отнесет за насыпь одного, потом возвратится за другим. Упала горящая доска и сбила ее с ног. Гимнастерка на спине задымилась, но девушка поднялась и, хромая, заторопилась к охваченному пламенем вагону. К ней опять потянулись десятки рук, молящих о спасении. Те, кто мог ходить, помогали вытаскивать из вагона тяжело раненных. Загорелся наш вагон. Чьи-то сильные руки схватили меня и понесли. Я повернула голову и увидела старшего сержанта Балатова. Одной рукой он держался за раненую голову, другой тащил меня от линии, стиснув от боли зубы и побледнев.
Вечером аварийная бригада расчистила путь и сцепила уцелевшие вагоны. Раненых потеснили, и нам пришлось лежать на полу. Мне было приятно, что среди других бойцов и офицеров около меня находится человек, с которым мы вместе воевали. Здесь Балатов не был моим подчиненным, мы были равны, как два боевых товарища.
Двадцать дней мы ехали до Ростова и многое пересказали друг другу. Я говорила о Грише, о том, как получила извещение о его гибели, о том, как мстила за него фашистам. Говорила, как свята для меня его память.
Из Ростова нас направили в Тбилиси, там распределили по госпиталям. Меня поместили в палату на двенадцать коек. Все лежавшие здесь девушки-фронтовички были медицинскими работниками.
Старшего сержанта Балатова положили в другой госпиталь. Я привыкла к этому веселому парню, между нами завязалась хорошая дружба. Почти каждый день я получала от него письма, в которых он сообщал о своем здоровье, описывал госпитальную жизнь. Когда Балатов стал выздоравливать, ему разрешили навещать меня. В эти дни я брала костыли, выходила из палаты во двор, и мы подолгу сидели с ним на скамеечке. Я очень дорожила этой дружбой. Видела, правда, что Ваня привязывается ко мне с каждым днем все сильнее, что дружеские чувства перерастают во что-то большее. Но я не могла ответить на его чувство, слишком ярко жил в моей памяти Гриша.
Балатов много рассказывал о себе, о своих родных, о небольшой деревушке, в которой он родился.
— Что там теперь с моими родными? — часто говорил он, вспоминая о доме. — Отец коммунист, был председателем колхоза, наверное ушел в партизаны, а мать с братишками, видно, в оккупации. Завтра меня выписывают, но заставляют идти на месяц в отпуск. Какой, Тамара, сейчас может быть отпуск? И куда я поеду? Буду ругаться с врачами.
— Ничего не поможет, Ваня, — сказала я. — Отпуск тебе придется взять, надо укрепить здоровье.
— Где же я проведу его? В нашей деревне фашисты.
— Поезжай, Ваня, к моим родным, они живут недалеко отсюда и будут тебе очень рады.
Он согласился.
— Когда мой отпуск кончится, ты тоже уже поправишься, и мы вместе поедем в часть, правда, Тамара? — он заглянул мне в глаза.
— Нет, теперь нам нельзя в одну часть.
— Почему?
— Потому, что теперь я для тебя — Тамара, и эта дружба будет мешать нам на фронте.
— Пожалуй, ты права. Ну, отгуляю, тогда будет видно. Пиши родным, поеду пока к твоим.
На следующий день я дала ему письмо к отцу, и он поехал в Сталинири. Вскоре я получила от Вани письмо.
«Очень хорошо меня встретили твои старики, — писал он. — Я не чувствую себя на чужбине, такой заботой меня окружили твои отец и мать. Обо мне хлопочет даже маленькая Лорочка. Каждое утро она приносит кружку молока к моей постели и говорит: «Дядя Ваня, пей молоко, выздоравливай». Мы часто ходим с твоей дочкой гулять в горы. Поправляйся, Тамара, и приезжай, отдохнем вместе».
Прочитав это письмо, я стала проситься у врача в отпуск, но мне не разрешили.
— У вас не заживает остемиэлит, — сказал врач-ординатор.
Я написала об этом домой.
Было солнечное весеннее утро, когда вошла палатная сестра и сказала:
— Сычева, наденьте халат и выйдите в коридор.
Я решила, что приехал Ваня, так как срок его отпуска кончался. Но в коридоре увидела не только его, но и маму с Лорочкой. Этот радостный день показался мне очень коротким. К вечеру мама и дочка уехали обратно.
Через несколько дней старший сержант Балатов был зачислен в авиационное училище. Придя ко мне в госпиталь проститься, он сказал:
— Тяжело расставаться, но я тоже хочу быть офицером, как и ты. Поеду учиться. Хочу стать летчиком.
— Желаю тебе счастья, Ваня.
После его отъезда я стала скучать, мне было тяжело в госпитальных стенах.
Наша палата всегда с нетерпением ждала сводок Совинформбюро. Репродуктор висел в коридоре, и к половине двенадцатого ночи все замирали. Мы открывали дверь и с волнением вслушивались в слова диктора. По сводкам я знала, что наша часть форсировала реку Прут и стремительно продвигается на запад.
Однажды к нам пришли шефы с завода и среди них была Юлия. Встреча была неожиданной и радостной.
Юлия рассказала, что их завод ежемесячно перевыполняет план.
— Сейчас я работаю начальником смены, — сообщила она.
— А я младший лейтенант, командир огневого взвода,— не упустила случая похвалиться я.
Юлия сказала мне, что ее отец тоже был ранен, но уже поправился и снова вернулся на фронт.
Несколько раз Юлия приходила с комсомольцами завода в госпиталь. Мы все любовались ею: столько бодрости и энергии было в этой девушке. Она организовала концерт художественной самодеятельности и выступила сама. Как она пела грузинские народные песни!
Прошло шесть месяцев со дня моего ранения. В госпитале я поправилась, окрепла, но рана не заживала. Настроение было отвратительное. Досадовала, что так мало воевала и так долго лежу в госпитале. Другие выписываются, а я никак не могу отсюда вырваться.
Однажды около меня положили новую соседку по койке. Электрическое освещение в палате тусклое, читать невозможно. Хотела уснуть, но около новенькой сидел парень из другой палаты. Веселый, он все время смеялся. Мы не любили, когда парни приходили к нам, а он околачивался второй день. У меня разболелась голова, и его смех и шутки раздражали.
— Товарищ! Нечего за девчатами сутками ухаживать. Вы нас стесняете, — сказала я, и девушки меня поддержали.
— Правильно, мы не разрешаем, можете разговаривать в коридоре.
Парень и соседка по койке еще громче рассмеялись.
— Вы меня не стесняйтесь, девушки, — сказал парень грубоватым тенорком.
Эти слова еще больше рассердили нас. Но он продолжал посмеиваться, показывая красивые зубы.
— Почему девушки из другой палаты не мешают вам, а я посидел с обеда — и уже помешал. — И он взял с моей тумбочки гребешок и начал расчесывать свой кудрявый чуб.
Я возмутилась:
— Ну-ка, марш отсюда!
— Что случилось? — вмешалась дежурная сестра, услышав крик в палате.
— Да вот видите, второй день сидит в нашей палате, мы стесняемся халаты снять, гоним его, а он смеется и не уходит.
Дежурная тоже рассмеялась.
— Да ведь это девушка — Зина Камышева, сестра Лиды Камышевой, — пояснила она, указывая на мою соседку.
Мы были поражены и долго хохотали, слушая рассказ Камышевых о том, что их принимают за брата и сестру.
Утром я разговорилась со своей соседкой. Лида Камышева оказалась моей землячкой, она жила в Крыму. Несколько месяцев воевала под Севастополем, участвовала в керченском десанте, была на Малой земле, но тяжелое ранение вывело ее из строя. Лида потеряла руку. О своем увечье она ничего не говорила, но много рассказывала об институте, в котором до войны училась. Она перешла на пятый курс мединститута и мечтала стать хирургом. Сестра ее, Зина, закончила летную школу. Вся семья Камышевых защищала Севастополь. Отец — командир-подводник, Зина — летчик, а Лида — врач, сначала на кораблях, а позже в морской пехоте.
— Ни разу не пришлось нам встретиться в Севастополе. Дом был разбит, а мать с двумя детьми эвакуирована, — рассказывала Лида. — Когда я попала в госпиталь, мне сказали: «У нас уже лежит Камышева, летчица». Через несколько минут мы встретились с сестрой. А где отец — так и не знаем.
Лида рассказывала о родном Севастополе, о замечательных людях города-героя, о их силе и мужестве. Камышеву часто навещали моряки из других госпиталей, ее однополчане.
— Лида — смелая девушка, — говорили они. — Прямо на передовой оказывала помощь раненым. Не один моряк обязан ей жизнью.
Меня удивляло, что Лида никогда не говорила о своем увечье, будто это ее нисколько не тревожило. Однажды я имела неосторожность спросить:
— Лида, что теперь будешь делать без руки?
Подняв брови, она посмотрела на меня.
— Как что буду делать?
Я смутилась, а она, заметив мое смущение, продолжила:
— Эх, Тамара, осталось бы сердце. Работу я себе найду, а в работе найду и счастье. Конечно, хирургом мне уже не быть, — грустно закончила она.
Я с Лидой очень подружилась. Присутствие этой девушки скрашивало скучные дни госпитальной жизни.
Ранней весной отец переслал мне письмо родителей мужа. Они были эвакуированы в глубь страны и теперь возвратились домой. Там их ждала большая радость — письмо от Гриши. Они сообщали его адрес: Киевская область, село Вороновка, Тамаре Максимовне Васько, для Жернева.
Гриша жив! Трудно передать, что испытала я при этом известии. Схватила письмо и, забыв о больной ноге, затанцевала по палате.
— Гриша, мой муж, жив! — кричала я.
«Но почему же у него адрес не полевой почты, а какой-то Тамары Максимовны. Наверно, он инвалид, иначе был бы на фронте».
Потребовала, чтобы меня немедленно выписали. Врачи отказались это сделать, так как рана еще не совсем зажила. Но после долгих уговоров и просьб, после того как я письменно подтвердила свой отказ продолжать лечение, меня выписали. Я получила новое обмундирование: гимнастерку, суконную синюю юбку и заказанные мною раньше хромовые сапоги. Сапог на раненую ногу натянула с трудом. Купила новые строевые артиллерийские погоны со звездочкой, на рукав пришила эмблему истребителя танков, а на грудь — три полоски ранений. Я знала, что мой муж не терпит ни малейшей небрежности в одежде, сам всегда щеголеват, и мне захотелось прифрантиться. Волосы у меня отросли, и я сделала мальчиковую прическу с чубом.
«Может быть, Гриша уже полковник, ведь товарищ его, который до войны тоже был лейтенантом, сейчас полковник». Я представляла себе, как вытянусь перед ним. «А может быть, он командовал партизанским отрядом?»
Все эти размышления не давали мне покоя ни днем, ни ночью. Я мечтала об одном — скорее встретиться с мужем. В дороге моя нога распухла и распирала голенище, рана гноилась. Приходилось на станциях делать перевязки. Я ехала на чем придется: то в воинском эшелоне, то в теплушке, то на платформе, то на дрезине.
«Какая же это Тамара Максимовна? Вдруг Гриша женился? Нет, не может быть», — успокаивала я себя.
«Может быть, Тамара Максимовна — хозяйка квартиры, и через нее Гриша хочет связаться с нами, а его адрес секретный, он работает в тылу врага».
Многое мне приходило в голову, но только не то, что было на самом деле.
Поезд остановился на маленькой разбитой станции ночью. В комнате дежурного ходики показывали три часа. До Вороновки было несколько километров, но куда пойдешь ночью? Мне не сиделось. Как только забрезжил рассвет, отправилась в деревню.
Местность вдоль дороги мне показалась знакомой. Вскоре завиднелись деревенские окраины.
Я вспомнила, что после форсирования Днепра наша батарея разбила в Вороновке мост. Мы освобождали эту деревню от оккупантов. Здесь я была ранена.
Недалеко от дороги тарахтел трактор, слышались веселые девичьи голоса. Я подошла.
— Здравствуйте, девчата!
— Здравствуйте. — Они остановили трактор. — С вечера работаем, уже две нормы выполнили. Можно и отдохнуть.
Не видя ни одного мужчины, я удивилась:
— А где же ваш тракторист?
— А вот Дуня, — ответили они хором.
Я увидела высокую стройную девушку в комбинезоне.
— Дуня у нас молодец. Когда ее в Германию хотели отправить, она убежала из Вороновки и жила в Киеве до тех пор, пока фашистов из нашей деревни не выгнали.
— Все уже расписали, — недовольно проговорила Дуня.
— А вы докторша, наверное? — присматриваясь ко мне, спросила девушка, стоявшая рядом с Дуней.
— Нет, я не врач. Я артиллеристка. Здесь воевала и была ранена.
— Здесь были ранены? — удивились девушки. — А чего вы сейчас сюда пришли?
— За мужем.
— Или у вас в армии не хватает женихов, что вы сюда приехали? У нас их нет совсем, — сказала Дуня.
— За мужем, а не за женихом.
— А ваш муж тут?
Я рассказала девушкам о письме и спросила, не знают ли они Тамару Максимовну Васько.
— Как же не знаем... Не Гришка ли ваш муж?
— Да, — ответила я.
— Он жил у них на квартире, а потом его забрали наши, как пришли. А Тамара мне сказала, что он женился на ней! — проговорила одна из девушек.
— А когда он жил на квартире? Он с частью останавливался?
— С какою там частью! Он два года жил тут в оккупации.
— Он калека?
— Да нет. Он нам говорил, что у него жена на фронте была, да погибла. Ему сказали, что вы погибли, здесь, на Украине, в сорок первом году.
— Что же он делал при немцах?
— Да что? Работал у них в строительной конторе.
— Неправда! — крикнула я в бешенстве, сама испугавшись своего голоса. — Не может этого быть!
— Что вы на нас кричите, разве мы виноваты, — обиженно сказала Дуня.
— Вы простите меня, девушки, — доведите до их хаты.
— Галя, беги, покажи Васькову хату.
«Не может быть, чтобы он работал у гитлеровцев, пока я воевала. Нет, это ошибка, не может быть, чтобы он бездействовал и спокойно смотрел, как эти бандиты убивают наших людей, топчут нашу землю. Он не такой», — думала я.
Еще издали Галя показала мне угловой дом под железной крышей.
Я поднялась по ступенькам крыльца и вошла в комнату. Хозяева собирались завтракать. При виде меня они насторожились.
— Тамара Максимовна Васько здесь живет?
— Да, — ответили мне.
Из другой комнаты вышла молодая женщина. Я ей представилась:
— Тамара Александровна Сычева.
Она смутилась.
— Я хочу поговорить с вами наедине.
Женщина пригласила меня в другую комнату.
— Григорий Жернев здесь живет? — тихо спросила я ее.
— Жил здесь на квартире, — поспешила подчеркнуть она, — а теперь уже три месяца, как его забрали в армию.
— Вы знаете его адрес?
— Нет, не знаю. Писем от него не получаю.
— Он здесь жил в оккупации?
— Да, он попал в окружение, был ранен, мы его приютили. Знаете, он о вас много рассказывал, но ему передали, что вы погибли. Он рассказывал, как вы его спасли, — торопливо говорила она.
«Не для того я его спасала», — подумалось мне.
Хозяева пригласили меня завтракать. Но я не села к столу. Сказала, что пойду в военкомат узнать, куда направили Гришу.
Меня начали уговаривать, чтобы я никуда не ходила, а легла бы отдохнуть после бессонной ночи.
Сдержанно поблагодарив, я взяла пилотку и вышла.
Прошла несколько дворов. Женщина у плетня поманила меня пальцем.
— Пойдите в ту хатку, там живут старик со старухой, они вам все расскажут.
Поблагодарив женщину, я направилась к домику.
— Ох, доченька, не Гришкина ли ты жена? — засуетилась старуха.
— Да была его жена.
— Моя родненькая, — чуть не плача, проговорила старуха. — Спасители вы наши, вызволили нас... Заходи в хату, заходи, — пригласила она, а сама побежала на огород, звать деда.
В комнате старики начали рассказывать, перебивая друг друга.
— В сорок первом году тут были большие бои, — начала старуха.
— В окружение наши тут попали, — добавил старик.
— Да ты мне не мешай, — рассердилась старуха, — не мешай... Вышла я на двор после боя...
— Еще был бой, когда ты пошла, я тебе сказал — не ходи, а ты пошла.
— Да, еще немцы стреляли, а я вышла на двор, думаю, может, для коровы сена принесу. Слышу, на огороде кто-то стонет. Прислушалась, — стонет, а кругом хаты горят, страх такой, я испугалась. Прибежала в хату, дух не переведу. «Ты что, — спросил дед,— сдурела?» — «Там на огороде кто-то стонет», — ответила я. «Пойдем, посмотрим», — сказал дед.
Подходим — лежит человек, наш офицер. Голова у него черная, как у нашего Мишки, да еще и курчавая, как у него. У нас же сын Мишка — офицер на фронте, письмо получили недавно, уже капитан.
Она медлит, а мне не терпится.
— Ну, дальше, — перебила я старуху.
— Голова у него вся в крови... Дед спрашивает, что делать, я говорю, надо забрать его в хату, это же наш офицер. Может, Мишка вот так же у кого-нибудь на огороде лежит и стонет. И мы с дедом забрали его в хату, а он без памяти. Положив его в хате, я деда послала за лекарем, такой хороший у нас лекарь есть. Пришел, сделал перевязку раненому, привел его в чувство. А мы подумали: как придут фашисты, они же убьют офицера.
— Знаете что, я заберу его в больницу, пускай лежит там, — сказал лекарь и ушел. А потом, когда затихла стрельба, приехала линейка и забрала его в больницу, она тут рядом. Скоро пришли фашисты. Что они тут делали!
— Ну, а Гриша?
— А он полгода лежал в больнице, его лекарь укрыл от фашистов. Потом мы его забрали, он как сын у нас жил, помогал деду. Так было с год, а потом к нам начала бегать Тамарка да звать его к себе. Когда он перешел к Тамарке, то пошел работать в строительную контору. Я же ему говорила: не ходи на работу, живи у нас, как сын нам будешь, деду помогай, пока наши не вернутся. А выздоровеешь совсем — пойдешь к партизанам. А он сказал: нет, буду у Тамары жить. Потом скоро пришли наши и забрали его в армию.
— А где он сейчас, его адрес вы знаете?
— Я не знаю, доченька. А Тамарка знает.
— Нет, она не знает.
— Да, как же так. Она вчера мне показывала телеграмму от него и хвалилась. Требуйте, у нее есть адрес.
Эти слова меня обрадовали. И в то же время я была возмущена, что Васько меня обманула. Я пошла к ней обратно. Вся семья сидела, видно, на совете.
— Хватит меня морочить, давайте сейчас же телеграмму... — едва переступив порог, сказала я.
Васько стала отказываться:
— Я ничего о нем не знаю.
— Ах, вы еще издеваетесь надо мной! — взбешенно крикнула я.
Мать и отец закричали:
— Дай телеграмму!
Дрожащими руками женщина достала из кармана телеграмму и подала мне. «Дорогая Тамарочка, поздравляю днем Первого мая. Сообщи, нет ли писем моих родителей. Целую крепко». Ниже был указан адрес: город Сталино, улица, номер дома.
Я положила телеграмму в планшет и молча вышла. По дороге снова подошла к девушкам.
— Вы что, не отдыхали? — спросила я их.
— Часа три поспали, и снова за работу. Наша бригада комсомольская, надо так работать, чтобы другим был пример. Вы же на войне неделями не спите. И мы в тылу боремся с фашистами, — ответила Дуня.
Девушки мне очень понравились, я почувствовала в их сердечности такое, что настраивало на откровенность. Поделилась с ними своей обидой. Я любила мужа и мстила за него, а он? Попал в окружение и остался у фашистов. Спасал свою жизнь, искал теплого места.
— А теперь, если останетесь живы, будете с ним жить? — спросила одна из девушек, и все посмотрели на меня, ожидая ответа.
— Не знаю, я еще не думала об этом.
— Да что тут думать, — возмущенно сказала Дуня, поправляя сбившуюся косынку, — тут и думать нечего. Если бы мой Мишка не пошел в днепровские леса и не бил бы гитлеровцев, а сидел бы у хаты да смотрел, как фашисты мучают народ, я бы его и знать не захотела. На что мне такой нужен... Что тут думать, — заключила она и, помолчав, продолжила: — Когда наши пришли, Мишка с партизанами пошел в армию и теперь уже два ордена имеет...
Мне стало стыдно, что я не смогла сразу ответить на этот вопрос, а Дуня так быстро решила его.
В тот же вечер я уехала на первой дрезине. В дороге думала об этих украинских девушках, о всех наших замечательных женщинах, которые все силы отдают для победы над врагом.
В восемь часов утра я приехала в Сталино. Направилась по адресу, указанному в телеграмме. Подошла к казарме, постаралась успокоить себя: думалось, раз Григория взяли в армию, значит он не сделал преступления перед родиной, а воевать еще успеет. Интересно, в каком он звании? Увидела во дворе старшего лейтенанта, спросила:
— Скажите, здесь находится лейтенант Жернев?
— Лейтенант в кавычках? Есть такой... А вы кто будете? — поинтересовался он, рассматривая мои погоны.
— Я его жена.
— Как жена? Он рассказывал, что его жена погибла.
— Как видите, жива.
Старший лейтенант обратился к стоявшему неподалеку бойцу:
— Бегите скажите Жерневу, жена приехала.
Боец опрометью бросился в казарму.
«Какой же Гриша теперь?» — думала я, стоя у столба. Перед войной он был стройный, с красивыми черными глазами, вьющимися волосами. На губах всегда играла улыбка. Он любил хорошо одеваться.
Из казармы выскочил солдат, остриженный, худой, в полинялых старых латаных брюках и грязной гимнастерке, в обмотках. Я в нем еле узнала мужа. «Сейчас наших бойцов так хорошо одевают, почему же он в таком виде?» — промелькнуло в голове.
Григорий остановился, посмотрел на меня, на старшего лейтенанта. Вижу, он ищет кого-то другого, меня не узнает. Старший лейтенант сказал:
— Жернев, жена приехала.
А он оглядывается по сторонам, вероятно, ожидал встретить Тамару Васько. Я не выдержала.
— Гриша!
Он, заикаясь, крикнул:
— Та-ма-ра! — и бросился ко мне. — Тамарочка, ты? Ты жива? Уже офицер? — удивленно произнес он и хотел поцеловать меня.
Но я отстранила его.
— А ты кто?
Он опустил голову.
— Ты знаешь, откуда я? Из Вороновки.
Гриша смутился и больше ни о чем не спрашивал.
Мы зашли в дом, нас оставили одних. Сели за стол.
— Гриша, почему ты в таком виде?
— Я в рабочий батальон попал, Тамара, — вздохнул он.
— Чем же ты занимался у гитлеровцев?
— Тамара, я ничего особенного не делал. Ты же знаешь: я строитель. Очень долго ходил без работы, а потом жить надо было, и я пошел в строительную контору. Меня послали на работу.
— На какую?
— Строить дороги и мосты.
Комната поплыла у меня перед глазами.
— Ты строил мосты для врага?
Я вспомнила задачу, которую мне поставил комбат: разбить мост около Вороновки. Вспомнила погибших там бойцов.
— По этим дорогам, что ты ремонтировал, фашисты возили снаряды. А мосты, которые ты строил, я разбивала, — как бы вслух думая, медленно проговорила я.
— Да, по-разному мы жили.
— Ты жил для себя, спасал свою шкуру и стал у оккупантов рабом. Твои старики, прожившие всю жизнь безвыездно в родной хате, и те бросили ее и эвакуировались. А ты, офицер, покорился врагу, попросил у него кусок хлеба. Пошел бы к людям огороды копать, связался бы с партизанами, с подпольем, писал бы листовки для нашего народа. Я за тебя мстила, думая, что ты честно погиб, лучше бы так и было.
— Я был вынужден работать, иначе меня отправили бы в Германию. Я работал так, что больше вредил фашистам на стройке. А связаться с партизанами не мог, потому что я не местный, мне не верили. Ничего не мог сделать. За каждого убитого немца гитлеровцы сжигали село.
— Это не оправдание для воина. Тебя ничего не держало в селе. Мог бы уйти в лес, там нашел бы партизан, или уехать в город и связаться с подпольем.
Наш разговор прервал связной.
Товарищ гвардии младший лейтенант, разрешите обратиться?
— Обратитесь.
— Вас вызывает командир батальона, полковник.
— Сейчас приду.
— Разрешите идти?
— Идите.
Пришла к командиру батальона, доложила.
Седой полковник испытующе посмотрел на меня, пригласил сесть.
— Ваши документы.
Я подала ему документы, историю болезни и направление на фронт.
— Вы жена моего бойца Жернева?
— Да.
— Видно, повоевали.
— Да, немного.
— Как это могло случиться, что ваш муж разжалован?
— Не знаю, товарищ полковник. Работали, учились вместе. Вину отношу за счет его мягкого характера, — старалась я найти хоть какое-нибудь оправдание Жерневу, но слова мои звучали неубедительно.
— Разжалование в рабочий батальон — очень тяжелое наказание для офицера, — сказал полковник. — На-днях мы едем на фронт, Жернева пошлем рядовым, пусть в боях заслужит звание офицера.
Я поблагодарила полковника и ушла.
Не о такой встрече с мужем мечтала я. Бесследно исчезла радость, которая овладела мною, когда я узнала, что Григорий жив. Я почувствовала, что нет больше и любви. В уме все время вертелись простые слова, сказанные трактористкой Дуней.
Зашла проститься с мужем. Он по-прежнему сидел у стола, глаза его были красны. Передала ему разговор с полковником. Он обрадовался возможности попасть на передовую.
Мы пошли на станцию.
— Ты совсем стала седая, Тамара, тебе рано седеть.
— Пережил бы ты то, что я пережила, тоже поседел бы. Ты только умел пользоваться благами родины. А родину надо уметь защищать!
— Я еще заслужу доверие родины. Кровью смою свою вину...
В тот вечер, холодно простившись с мужем, я уехала на 2-й Украинский фронт.
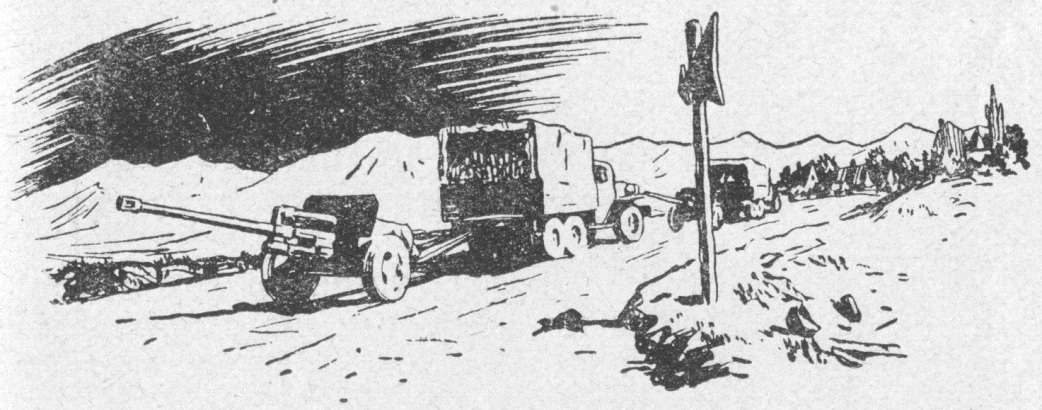
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|