
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Annotation 17 страница
Если в такой стране, как Дания, ты дожил до тридцати семи лет, периодически обходясь без лекарств, не совершив самоубийства, не полностью растеряв идеалы своего нежного детства, значит, ты кое-что понял о том, как надо встречать жизненные невзгоды. В семидесятые годы в Туле при помощи оборудования, которое помещалось в метеорологических зондах, мы проводили исследование переохлажденных капель. Эти капли в течение короткого времени существуют в облаках на большой высоте. Вокруг них холод, но совершенный покой. В неподвижном «кармане» их температура падает до 40 градусов. Они должны были бы превратиться в лед, но они не хотят, они парят в полном покое и равновесии. Именно так я пытаюсь встретить невзгоды. «Кронос» еще не затих. Чувствуется невидимая жизнь и движение. Но долго ждать нельзя. Я могла бы пройти через машинное отделение и твиндек. Если бы это не было связано с множеством клаустрофобических воспоминаний. Уж если они придут за мной, мне хотелось бы их видеть. Ют ярко освещен. Я делаю глубокий вдох и выхожу на сцену. Краем глаза я вижу, как мимо меня проплывают тали и ограждение вокруг мачты. Я оказываюсь у ютовой надстройки и открываю ключом дверь. Войдя, я стою некоторое время у окна и смотрю на палубу. Это владения Верлена. Даже сейчас, когда здесь нет ни души, чувствуется его присутствие. Я запираю за собой дверь. Моим оружием все время были те детали, о которых никто не знает. Моя личность, мои намерения, ключ-проводник Яккельсена. Они не могут знать, что он у меня есть. Они должны думать, что мое проникновение через ют в прошлый раз было случайностью, результатом их забывчивости. Они боялись, что я что-то обнаружила. Но про ключ они ничего не могут знать. В первом помещении я освещаю фонариком плотно упакованные и закрепленные банки со свинцовым суриком, грунтовкой, корабельным лаком, шпаклевкой, специальным растворителем, ящики с респираторами, эпоксидной смолой, кистями и валиками. Все аккуратно сложено и чисто. Заслуга Верлена. Следующая дверь — это задняя дверь туалета. Дверь напротив ведет в душевую с двумя кабинами. Следующая — в слесарную мастерскую. Где Хансен полирует мелом свои ножи. Последняя каюта — это электромастерская. В лабиринте шкафов, полок и ящиков можно было бы спрятать небольшого слона, и у меня бы ушел час на его поиски. У меня нет часа. Так что я закрываю дверь и иду вниз. Теперь дверь, ведущая в твиндек, заперта. И закрыта на засов. Кто-то хотел быть абсолютно уверенным в том, что никто не сможет здесь войти. Если я зажигаю фонарик, то лишь на мгновение. Это наверняка излишняя предосторожность — ведь я стою в совершенно темном помещении без окон. Но моя нервная система большего не выдерживает. Я останавливаюсь, чтобы прислушаться. Мне надо сделать над собой усилие, чтобы не впасть в панику. Мне никогда особенно не нравилась темнота. Я никогда не могла понять привычку датчан бродить по ночам. Прогуливаться по вечерам в кромешной тьме. Слушать соловьев в лесу. Обязательно выходить смотреть на звезды. Устраивать соревнования по ночному ориентированию. К темноте надо относиться с уважением. Ночь — это то время, когда Вселенная бурлит злом и опасностью. И можно называть это суеверием. Можно называть это боязнью темноты. Но делать вид, что ночь — это то же самое, что и день, только без света, глупо. Ночь существует для того, чтобы собираться вместе под крышей дома. Если только ты волею случая не одинок и не вынужден делать что-то иное. В темноте звуки различаешь лучше, чем предметы. Звук воды из-под винта где-то под моими ногами. Приглушенный шум попутного потока. Гул двигателя. Вентиляция. Вращение гребного вала в подшипниках. Маленький электрический компрессор, местонахождение которого почти невозможно установить. Как, находясь в квартире, невозможно определить, у кого из соседей работает холодильник. Здесь тоже есть холодильник. Я нахожу его не по звуку. Я нахожу его, потому что благодаря темноте я могу четко представить свой чертеж судна. Я измеряю коридор шагами. Но уже заранее знаю результат. Просто из-за волнения я раньше этого не замечала. Коридор на два метра короче, чем он должен быть. Где-то в конце его, за стеной, должна быть, по словам Яккельсена, гидравлическая система рулевого управления. Но она не может занимать два метра. Я освещаю стену. Она покрыта той же фанерой, что и остальные стены, — вот почему я раньше ничего не заметила. Но фанеру эту прибили относительно недавно. Откуда-то из-за нее доносится приглушенное гудение, похожее на звук работающего холодильника. Фанера плотно приколочена. Это не тщательно сделанный тайник. Его наскоро соорудили за неимением лучшего. Но одной мне бы не удалось снять фанеру. Даже если бы у меня и были необходимые инструменты. Я открываю ближайшую дверь. Вдоль стены стоят черные ящики. На них написано: «Grimlot Music Instruments Flight Cases»[66]. Я открываю первый из них. Он четырехугольный, и по виду в нем может поместиться динамик среднего размера. На гарантийном свидетельстве, лежащем под голубыми, блестящими баллонами акваланга из эмалированной стали, написано: «Self-contained Underwater Breathing Apparatus»[67]. Они обтянуты резиновой сеткой, чтобы защитить краску от ударов. Я открываю другой ящик, меньше размером. В нем нечто, похожее на вентили, которые навинчивают на акваланг. Яркие, блестящие. Уложенные в вырезанную по их форме пенорезину. Дыхательный аппарат. Но такого типа, которого я никогда не видела. Который крепится прямо на баллоны, вместо того чтобы прикрепляться к мундштуку. В следующем ящике манометры и ручные компасы. В большом чемодане с ручкой лежат очки, три пары ласт, ножи из нержавеющей стали в резиновых ножнах и два надувных жилета, на которые прикрепляются баллоны. В большом мешке два черных резиновых костюма с капюшонами и молниями у кистей рук и на лодыжках — это костюмы для подводного плавания из неопрена. Толщиной по меньшей мере пятнадцать миллиметров. Под ними лежат два теплых костюма «Посейдон». Под ними перчатки, носки, два утепленных костюма, страховочные тросы и шесть различного вида фонариков на батарейках, два из которых прикреплены к шлему. В помещении стоит также ящик, в котором с виду может поместиться электроконтрабас, но он немного длиннее и глубже. Ящик стоит у переборки. В нем лежит Яккельсен. Ящик оказался недостаточно большим для него, поэтому они прижали его голову к правому плечу и согнули ноги, так что он оказался на коленях. Глаза его открыты. Моя куртка по-прежнему у него на плечах. Я трогаю его лицо. Он все еще влажный и теплый. Температура тела крупного животного падает на несколько градусов в час, если оно лежит летом на открытом воздухе, после того как его пристрелили. Можно предположить, что для человека эти цифры не сильно отличаются. Яккельсен приближается к комнатной температуре. Я сую руку в его нагрудный карман. Шприц исчез. Но там есть что-то другое. Мне надо было догадаться об этом раньше — металл сам по себе не звенит. Он звенит, ударяясь о другой металл. Очень осторожно, держа пальцы в его кармане, я нащупываю маленький треугольник. Он вырастает из его грудной клетки. Трупное окоченение распространяется от жевательных мышц вниз. Так же как и нервный спазм. Верхняя половина его тела застыла. Я не могу перевернуть его и, просунув руку в ящик, проникаю под куртку за его спиной. Под лопаткой торчит кусок металла, всего лишь несколько сантиметров длиной, плоский, не толще пилочки для ногтей. Или клинка из ножовочного полотна. Лезвие вошло между ребрами, и оттуда было направлено вверх наискосок. Я думаю, оно прошло через сердце. Потом рукоятку сняли, а лезвие осталось. Чтобы не было кровотечения. У другого человека лезвие бы не вышло спереди. Но ведь Яккельсен очень стройный. Должно быть, это произошло как раз перед тем, как я подошла к нему. Возможно, когда я шла через площадь.
В Гренландии у меня никогда не портились зубы, теперь же у меня двенадцать пломб. Каждый год добавляется новая. Я не хочу, чтобы мне делали обезболивание. Я разработала стратегию, с которой я встречаю боль. Я делаю вдох животом и, прямо перед тем как бор проникает через эмаль в зуб, думаю о том, что сейчас со мной делают нечто, что я должна принять. Тем самым я становлюсь заинтересованным, а не просто поглощенным болью наблюдателем. Я была в ландстинге, когда партия «Сиумут» выдвинула предложение о том, чтобы запланированный уход американских и датских вооруженных сил из Гренландии сопровождался созданием гренландской армии. Но так они ее, конечно же, не называли. «Децентрализованная береговая служба», говорили они, укомплектованная для начала теми гренландцами, которые последние три года служили сержантами в военно-морском флоте. И под командованием лучших офицеров, которые должны обучаться в Дании. Я думала: не может быть, они так не сделают. Предложение не прошло. «Мы находим результаты голосования неожиданными, — говорил Юлиус Хёг, внешнеполитический представитель партии «Сиумут», — принимая во внимание то, что комиссия безопасности ландстинга рекомендовала создать береговую службу и создала подготовительную рабочую группу, состоявшую из представителей датского военно-морского флота, гренландской полиции, патруля «Сириус», Ледовой службы и других специалистов». Других специалистов. Самое важное всегда говорится под конец. Как бы мимоходом. В дополнении к контракту. На полях. Сотрудниками службы безопасности на «Гринлэнд Стар» были гренландцы. Только сейчас я вспоминаю это, теперь, когда мы уже давно отплыли от платформы. То, что стало обыденным, мы не замечаем. Стало обыденным видеть вооруженных гренландцев в форме. Война стала для нас обыденным делом. И для меня. Все, что у меня осталось, — это моя способность дистанцироваться. Все, что происходит, происходит со мной. Боль, которую я чувствую, это моя боль. Но она не поглощает меня полностью. Какая-то частичка меня остается наблюдателем. Я забираюсь в кухонный лифт. Со вчерашнего дня делать это легче не стало. Ведь не становишься моложе.
На сей раз можно радоваться тому, что отсутствует блокировка. Опасная для жизни система позволяет мне самой, нажав на кнопку, отправить себя наверх. Страх при подъеме в шахте тот же, что и в прошлый раз. Та же тишина в конце пути. Пустая кухня. Через верхнее окно проникает свет луны. Направляясь к двери, я на мгновение представляю себя со стороны. Одетая в черное, но бледная, словно белый клоун. В коридоре слышны те же звуки. Двигатель, туалеты, дыхание женщины. Как будто время стояло на месте. Голубой лунный свет, проникающий в салон, создает ощущение прохлады, как будто на кожу попала жидкость. Из-за покачивания судна на волнах по стенам движутся, словно живые тени, квадраты окон. Сначала я направляюсь к книгам. Гренландская лоция, картографический атлас Гренландии Геодезического института, морская карта Дэвисова пролива, уменьшенная в четыре раза и изданная в одной книге. «Динамика снега и ледяных масс» Колбека о движении льда. «Метеориты» Бухвальда в трех томах. Номера журналов «Мир природы» и «Варв». «Обзор медицинской микробиологии» Яветса и Мельника. «Паразитология. Справочник» Ринтека Мадсена. «Записки о тропической медицине» Дайона Р. Белла. Я кладу две последние книги на пол и перелистываю их правой рукой, держа фонарик в левой. В разделе Dracunculus так много всего подчеркнуто ярким желтым цветом, что кажется, сама бумага стала другого цвета. Я ставлю книги назад. В коридоре я долго прислушиваюсь у каждой двери. И все же дверь Тёрка я нахожу совершенно случайно. Я открываю ее на три миллиметра. Из иллюминатора на кровать падает лунный свет. В каюте холодно. И все же он откинул одеяло. Верхняя часть его тела как будто из голубоватого мрамора. Он крепко спит. Я захожу внутрь и закрываю за собой дверь. Нашу жизнь осложняет необходимость выбора. Тот, за кого выбор сделан, не испытывает сложностей. Все получается само собой. Он работал за столом. Ручки положены на место, как и все, что от качки может скатиться на пол, должно быть положено на место. Но бумаги остались на столе. Стопка бумаг не настолько большая, чтобы я не могла ее унести. Минуту я стою, глядя на него. Как и много раз прежде, с самого детства, удивляюсь абсолютной беззащитности человека во сне. Я могла бы наклониться над ним. Могла бы поцеловать его. Могла бы услышать биение его сердца. Могла бы перерезать ему горло. Неожиданно я понимаю, что в жизни мне часто случалось не спать, в то время как все остальные спят. Я часто бодрствовала поздно вечером и рано утром. Я не стремилась к этому. Но так уж получилось. Я уношу пачку бумаг с собой в салон. Времени на то, чтобы отнести их к себе в каюту, нет. Некоторое время я сижу, не зажигая свет. В комнате появляется что-то торжественное. Кажется, что лунный свет создал вокруг всех предметов сине-серую стеклянную оболочку. Найти ключ к самому себе и своему будущему — мечта каждого. Религиозным обучением в воскресной школе в Кваанааке занимался проповедник из миссии Моравских братьев — замкнутый и жестокий бельгийский математик, который не знал ни слова на диалекте Туле. Преподавание велось на ужасающей смеси английского, западногренландского и датского. Мы боялись его, но одновременно он вызывал наше любопытство. Нас научили уважать ту глубину, которая может скрываться в безумии. Каждое воскресенье он неизменно возвращался к двум темам: недавно обнаруженным поблизости от города Наг Хаммади рукописям, содержащим призыв познать самого себя, и мысли о том, что наши дни сочтены и что, следовательно, во Вселенной существует божественная арифметика. Всем нам было от пяти до девяти лет. Мы не понимали ни одного слова. И все же позже я вспоминала отдельные вещи. Особенно размышляла над тем, что мне хотелось бы увидеть космические расчеты для моей жизни. Иногда мне кажется, что время этого пришло. Вот и сейчас. Как будто эта лежащая передо мной пачка бумаг может сказать что-то решающее о моем будущем. Предки моей матери удивились бы тому, что ключ ко Вселенной для одного из их потомков оказался письменным. Сверху лежит копия отчета Криолитового общества «Дания» об экспедиции на Гела Альта в 1991 году. Последние шесть страниц — не копия. Это — оригинальные, не очень четкие и технически несовершенные фотографии глетчера Баррен, сделанные с воздуха. Глетчер выглядит так, как, по слухам, и должен выглядеть. Сухой, холодный, белый, истертый, продуваемый ветрами и покинутый даже птицами. Потом идут два десятка исписанных страниц, на которых цифры и маленькие карандашные рисунки, непонятные для меня. Двенадцать фотографий — это копии рентгеновских снимков. Возможно, тех же людей, чьи снимки я когда-то видела на экране в приемной Морица. Но может быть, и чьи угодно. Есть еще снимки. Они, может быть, тоже рентгеновские. Но сюжет их — не человеческие тела. На фотографии видны регулярные черные и серые полосы, прямые, словно проведенные по линейке. Последние страницы пронумерованы от первой до пятидесятой и образуют единое целое. Это отчет. Текст скуп и краток, многие рисунки тушью похожи на наброски, подсчеты во многих местах вставлены от руки, там, где не хватало обычных знаков пишущей машинки. Это описание опыта транспортировки по льду предметов, имеющих большую массу. С рисунками рабочего процесса и краткими наглядными расчетами механических условий. Обзор, посвященный использованию тяжелых саней во время экспедиций на Северный полюс. На нескольких рисунках показано, как тащили суда по льду, чтобы избежать сжатия льдами. Над отдельными разделами короткие заголовки: «Ахнигито», «Дог», «Савик 1», «Агпалилик». В них говорится о транспортировке самых больших известных осколков метеорита с мыса Йорк, о сложном спасении корабля Пири и о плавании на шхуне «Кайт», о данных Кнуда Расмуссена, о легендарной перевозке Бухвальдом тридцатитонного «Ахнигито» в 1965 году. В этом последнем разделе есть фотокопии собственных фотографий Бухвальда. До этого я их видела много раз — они сопровождали любую статью на эту тему в течение последних двадцати лет. И все же я смотрю на них как в первый раз. Покатые настилы из железнодорожных шпал. Лебедки. Грубо сваренные сани из железнодорожных рельсов. Фотокопии сделали контрасты еще более четкими и смыли детали. И тем не менее все становится ясно. В кормовом трюме «Кронос» везет копию оборудования Бухвальда. Камень, который тот перевез в Данию, весил 30 тонн 880 килограммов. В последнем разделе говорится о датско-американо-советских планах по созданию буровой платформы на льду. В списке литературы приводится отчет с острова Байлот о допустимых нагрузках на лед. Мое имя в списке авторов. В самом низу — шесть цветных фотографий. Они сняты со вспышкой в какой-то пещере со сталактитами. Каждый студент, изучающий геологию, видел подобные фотографии. Соляные копи в Австрии, голубые пещеры на Сардинии, лавовые пещеры на Канарских островах. Но эти фотографии выглядят иначе. Свет от вспышки отбрасывается назад к объективу ослепительными отражениями. Как будто это фотография тысячи маленьких взрывов. Это снято в ледяной пещере. Все те ледяные пещеры, которые я видела, существовали очень недолго, пока не закрывался разлом глетчера или трещина или пока они не наполнялись подземными талыми водами. Эта пещера не похожа на те, что я видела раньше. Повсюду с потолка свисают длинные сверкающие сталактиты — колоссальная система сосулек, которая должна была образовываться долгое время. В центре пещеры находится нечто похожее на озеро. В озере что-то лежит. Это может быть что угодно. По фотографии даже нельзя предположить что. Составить себе представление о размерах пещеры можно благодаря сидящему на переднем плане человеку. Он сидит на одном из тех холмиков, которые создали на дне пещеры капающая вода и холод. Он торжествующе смеется в объектив. На этой фотографии он одет в пуховые штаны. Но все еще в камиках. Это отец Исайи. Когда я поднимаю пачку, на столе остается последний листок, потому что он тоньше фотографий. Это листок писчей бумаги с набросками письма. Всего лишь несколько строчек, написанных карандашом и перечеркнутых в нескольких местах. Потом листок положили в самый низ. Как будто писали дневник. Или завещание. А потом постеснялись. Решили: нельзя, чтобы это лежало на виду, не стоит доверять всем свои тайны. Но все же хотелось, чтобы листок был поблизости. Может быть, потому, что надо будет работать с ним дальше. Я читаю его. Потом складываю и кладу в карман. В горле у меня пересохло. Руки дрожат. Что мне необходимо сейчас — так это без всяких проблем уйти со сцены. Я уже протянула руку, чтобы открыть дверь в каюту Тёрка, когда за ней раздается щелчок и в коридор падает полоска света. Я отступаю назад. Дверь начинает открываться. Она открывается в мою сторону. Благодаря этому я успеваю найти дверь справа от меня, открыть ее и войти в помещение. Я не решаюсь закрыть дверь, а лишь прикрываю ее. Здесь темно. Плитки под ногами говорят о том, что это ванная. В коридоре щелкает выключатель, и загорается свет. Я отступаю назад, за занавеску, в душевую кабину. Дверь открывается. Звуков нет, но пара рук мелькает в длинной щели, которую не закрывает занавеска. Это руки Тёрка. Его лицо показывается в зеркале. Оно такое сонное, что он даже себя самого не видит. Он наклоняет голову, открывает кран и пьет. Потом выпрямляется, поворачивается и уходит. Движения его механические, словно у лунатика. В ту секунду, когда дверь его каюты закрывается, я вылетаю в коридор. Через мгновение он обнаружит, что бумаг на месте нет. Я хочу выбраться с этого этажа, пока не начались поиски. Свет гаснет. Скрипит его кровать. Он вернулся к своему сну в голубом лунном свете. Такая возможность, такая блестящая удача дается лишь раз в жизни. Я готова танцевать по пути к выходу. Впереди меня в темноте коридора раздается низкий и властный голос женщины. Я поворачиваю обратно. Передо мной раздается смех мужчины, проходящего мимо полоски света, которая падает из открытой двери салона. Он голый. У него эрекция. Они меня не заметили. Я оказалась между ними. Сделав шаг назад, я оказываюсь в ванной, опять в нише. Загорается свет. Они входят в дверь. Он подходит к раковине. Ждет, пока эрекция пройдет. Потом он встает на цыпочки и мочится в раковину. Это Сайденфаден. Автор того отчета о транспортировке по морскому льду предметов, имеющих большую массу, отчета, который я только что листала. Отчета, в котором он ссылается на одну статью, автором которой являюсь я. И теперь мы находимся так близко друг от друга. Мы живем в мире, в котором все тесно взаимосвязано. Женщина стоит за его спиной. Лицо ее сосредоточенно. На мгновение мне кажется, что она увидела меня в зеркале. Потом она поднимает руки над головой. В руках у нее ремень с пряжкой. Ударяет она так точно, что только пряжка бьет по телу, оставляя длинную белую полосу на одной его ягодице. Полоса сначала белая, потом ярко-красная. Он хватается за раковину, выгибает спину, выставляя назад нижнюю часть тела. Она снова бьет, пряжка ударяет по другой ягодице. Я вспоминаю Ромео и Джульетту. Европа богата традициями нежных свиданий. Потом свет гаснет. Дверь закрывается. Они ушли. Я выхожу в коридор. Мои колени дрожат. Я не знаю, что мне делать с бумагами. Делаю два шага в сторону каюты Тёрка. Отказываюсь от этого, делаю шаг назад. Принимаю решение оставить их в салоне. Другого выхода нет. Я чувствую себя запертой на сортировочной станции. Передо мной в темноте открывается дверь. На сей раз совершенно неожиданно, свет не зажигается, и только благодаря тому, что я уже знаю помещение, я успеваю шагнуть в ванную и встать в душевую кабину. На этот раз свет не загорается. Но дверь открывают, а потом запирают. У меня наготове отвертка. Это они пришли за мной. Бумаги я держу за спиной. Их я отброшу, когда нанесу удар. Снизу вверх, в сторону брюшной полости. А потом я побегу. Занавеска отодвигается. Я готовлюсь оторваться от стены. Включают воду. Холодную воду. Потом горячую. Потом регулируют температуру. Душ был направлен на стену. В первые же три секунды я промокаю до нитки. Душ поворачивают от стены. Он встает под струю. Я нахожусь в десяти сантиметрах от него. Кроме журчания воды, нет никаких других звуков. И нет света. Но чтобы узнать механика на этом расстоянии, свет мне и не нужен. В «Белом сечении» он никогда не зажигал свет, поднимаясь по лестнице. Он до самого последнего момента не нажимал на кнопку выключателя в подвале. Он любит покой и одиночество в темноте. Его рука легко касается меня, когда он ищет подставку для мыла. Он находит ее, отходит немного в сторону, намыливается, кладет мыло на место, массирует кожу. Снова тянется за мылом. Пальцы его задевают мою руку и исчезают. Потом медленно возвращаются. Ощупывают руку. Как минимум, должно было раздаться восклицание. Вполне уместен крик. Он не издает ни звука. Его пальцы нащупывают отвертку, осторожно вынимают ее из моей руки, проводят по руке до локтя. Вода выключается. Занавеска отодвигается, он выходит из кабины. Через мгновение загорается свет. Он обернул вокруг бедер большое оранжевое полотенце. Лицо его непроницаемо. Все было сделано спокойно, без суеты, тихо. Он видит меня. И узнает. Его самообладание разрушено. Он не двигается и едва ли меняется в лице. Он парализован. Теперь мне ясно — он не знал, что я нахожусь на судне. Он смотрит на мои мокрые волосы, прилипшее к ногам платье, промокшие бумаги, которые я теперь держу перед собой. Хлюпающие резиновые тапочки, отвертку в своей руке. Он ничего не понимает. Потом он протягивает мне полотенце. Неловким и смущенным движением. Не думая, что тем самым открывает свое тело. Взяв полотенце, я протягиваю ему бумаги. Он держит их внизу перед собой, не сводя с меня глаз, пока я вытираю волосы.
Мы сидим на кровати в его каюте. Вплотную друг к другу, но между нами пропасть. Мы шепчемся, хотя этого и не требуется. — Ты понимаешь, что происходит? — спрашиваю я. — В ос-сновном. — Ты можешь мне объяснить? Он качает головой. Мы пришли примерно к тому же, с чего начинали. Мы опять погрязли в недомолвках. Я чувствую непреодолимое желание прижаться к нему и попросить его усыпить меня, чтобы проснуться только тогда, когда все будет позади. Я никогда не знала его. Еще несколько часов назад я думала, что мы вместе пережили отдельные мгновения близости. Когда я увидела, как он пересекает посадочную площадку на «Гринлэнд Стар», я осознала, что мы всегда были чужими друг другу. Пока ты молод, ты думаешь, что секс — это кульминация близости. Потом обнаруживаешь, что это едва ли начало ее. — Я хочу тебе кое-что показать. Я оставляю бумаги у него на столе. Он протягивает мне футболку, трусы, утепленные брюки, шерстяные носки и свитер. Мы одеваемся, повернувшись спиной друг к другу, словно чужие. Мне приходится закатать его брюки до колен, а рукава свитера до локтей. Я прошу также шерстяную шапочку, и он протягивает ее мне. Из одного из ящиков стола он достает плоскую темную бутылку и кладет ее во внутренний карман. Сняв с кровати шерстяное одеяло, я складываю его. И мы уходим.
Он открывает ящик. На нас печально смотрит Яккельсен. Нос его стал голубоватым, острым, как будто он отморожен. — Кто это? — Бернард Яккельсен. Младший брат Лукаса. Я подхожу к Яккельсену, расстегиваю рубашку, открывая стальной треугольник. Механик не двигается. Я выключаю фонарик. Мы некоторое время тихо стоим в темноте. Потом идем наверх. Я запираю за нами дверь. Когда мы выходим на палубу, он останавливается. — Кто? — Верлен, — говорю я. — Боцман. Снаружи на переборке приварены ступеньки. Я забираюсь первой. Он медленно поднимается за мной. Мы оказываемся на маленькой полупалубе, погруженной в темноту. На двух деревянных мостках стоит моторная лодка, за ней — большая резиновая лодка. Мы садимся между ними. Отсюда нам хорошо виден ют, мы же находимся в тени. — Это случилось на «Гринлэнд Стар». Когда ты приехал. Он мне не верит. — Верлен мог бы сбросить его в воду там. Но он боялся, что тело на следующий день будет плавать у платформы. Или что его затянет винтом. Я вспоминаю о своей матери. То, что на севере попадает в воду, на поверхность больше не всплывает. Но Верлен этого не знает. Механик по-прежнему молчит. — Яккельсен следил за Верленом на причале. Его заметили. Самое надежное было освободить для него место в ящиках. Забрать его на борт. Подождать, пока мы не отойдем от платформы. И потом сбросить за борт. Я пытаюсь скрыть свое отчаяние и говорить совершенно спокойным голосом. Он должен мне поверить. — Мы сейчас уже далеко в море. Каждая минута, пока он в трюме, это риск для них. Они скоро придут. Им придется вынести его на палубу. Другого способа выбросить его за борт нет. Поэтому мы здесь и сидим. Мне хотелось, чтобы ты сам их увидел. В темноте раздается что-то вроде вздоха. Это пробка вылезла из бутылки. Он протягивает ее мне, и я пью. Это темный, сладкий, густой ром. Я накрываю нас шерстяным одеялом. Мороз, наверное, градусов десять. И все же внутри меня обжигающий жар. Алкоголь расширяет капилляры, на поверхности кожи возникает легкое болезненное ощущение. Это та боль, которой всеми силами надо стараться избежать, если не хочешь замерзнуть насмерть. Я снимаю шерстяную шапку, чтобы почувствовать лбом прохладу. — Тёрк бы никогда этого не допустил. Я протягиваю ему листок. Он оглядывается на темные окна мостика и, спрятавшись за корпус моторной лодки, читает письмо в свете моего фонарика. — Это лежало в бумагах Тёрка, — говорю я. Мы снова пьем. Луна светит так ярко, что можно различать цвета. Зеленая палуба, синие утепленные брюки, золото с красным на этикетке бутылки. Словно в солнечном свете. Этот свет ложится ощутимым теплом на палубу. Я целую его. Температура уже не имеет никакого значения. В какой-то момент я стою над ним на коленях. И уже больше нет наших тел, есть только жаркие точки в ночи. Мы сидим прислонившись друг к другу. Он закрывает нас одеялом. Мне не холодно. Мы пьем из бутылки. Насыщенный и горячий вкус. Ты из полиции, Смилла? Нет, отвечаю я. Из другой конторы? Нет, отвечаю я. Ты все время знала? Нет, отвечаю я. А сейчас знаешь? Есть кое-какие догадки, говорю я. Мы снова пьем, и он обнимает меня. Палуба под одеялом, должно быть, холодная, но мы этого не замечаем. Никто не идет. На «Кроносе» мертвая тишина. Как будто судно отклонилось от своего курса, как будто оно теперь уносит куда-то нас двоих, только нас двоих. Через какое-то время мы допиваем бутылку. Я встаю, потому что знаю, что что-то изменилось. Не может ли быть других люков в корпусе? — спрашиваю я. — Других способов избавиться от тела? — Почему ты говоришь о смерти? — спрашивает он. Что мне ему ответить? — Как выведен якорь? — спрашивает он. Мы спускаемся в твиндек. В ящике теперь лежат спасательные жилеты. Яккельсена нет. Мы идем по лестнице, через туннель, машинное отделение, туннель, по винтовой лестнице, и он открывает две задвижки и дверь размером метр на метр. Якорная цепь туго натянута посреди помещения. Наверху, на потолке, она уходит в трубу, через которую виден лунный свет и очертания брашпиля. Внизу она исчезает в клюз величиной с крышку канализации. Якорь подтянут под самый клюз. Места из-за него немного. Он смотрит на отверстие. — Нельзя пропихнуть здесь взрослого человека. Я трогаю стальную цепь. Мы оба знаем, что именно через это отверстие сегодня ночью нырнул Яккельсен. — Он был очень стройным, — говорю я. 3
Капитан Лукас не брит, волосы его всклокочены, и похоже, что он спал не раздеваясь. — Что вы знаете об электричестве, Ясперсен? Мы одни на мостике. Половина седьмого утра. Остается полтора часа до начала его вахты. Желтоватая кожа его лица блестит от пота. — Я могу заменить перегоревшую лампочку, — говорю я. — Но обычно при этом обжигаю пальцы. — Вчера, когда мы стояли у причала, отключилось электричество на «Кроносе». И на части портовых сооружений. В руке у него листок бумаги. Рука и бумага дрожат. — На судах вся проводка проходит через распределительные щиты. Всякое подключение к сети осуществляется через предохранитель. Вы знаете, что это значит? Это значит, что на судне чертовски трудно устроить электрическую аварию. Если только ты не такой умный, что пойдешь прямо к главному кабелю. Вчера вечером кто-то пошел к главному кабелю. В те очень редкие мгновения, когда Кютсов бывает трезв, у него случаются минуты просветления. Он нашел причину аварии. Это штопальная игла. Вчера кто-то воткнул штопальную иглу в силовой кабель. Очевидно, при помощи пассатижей с изолированными ручками. А затем отломал игольное ушко. Особенно это последнее было хитро придумано. Ведь изоляция стягивается над иголкой. Место потом невозможно обнаружить. Если только ты, как Кютсов, не знаешь несколько хитростей с магнитом и индикатором полярности, и вообще, у тебя нет чутья на то, что надо искать. Я вспоминаю, как возбужден был Яккельсен. С какой интонацией он говорил. Я все устрою, Смилла. Завтра все изменится. Я начинаю преклоняться перед его изобретательностью. — Похоже, что во время этого затемнения один из матросов — Бернард Яккельсен — нарушил запрет и покинул «Кронос». Сегодня утром мы получили от него эту телеграмму. Это заявление об уходе. Он протягивает мне бумагу. Это текст, напечатанный на телетайпе и отправленный с телеграфа «Гринлэнд Стар». Для заявления об уходе он довольно краток. «Капитану Сигмунду Лукасу. Настоящим я с сего момента прерываю свою службу на борту „Кроноса“ по личным причинам. Идите вы все к черту. Б. Яккельсен» Я поднимаю на него глаза. — Меня мучает, — говорит он, — меня мучает подозрение, что вы тоже находились на берегу во время аварии. Его лицо искажается гримасой. Куда-то пропал офицер, куда-то пропал весь его сарказм. Осталось лишь беспокойство, переходящее в отчаяние. — Расскажите мне, знаете ли вы что-нибудь о нем. Передо мной все то, о чем Яккельсен мне не рассказывал. Огромная забота, желание защитить, спасти, дать брату возможность плавать без взысканий, быть вдали от дурного общества в городах. Любой ценой. Даже если для этого надо брать его с собой в такое плавание. На мгновение у меня возникает искушение рассказать ему все. В эту минуту в его муках я узнаю себя. Все наши иррациональные, слепые и тщетные попытки защитить другого человека от чего-то неизвестного, от того, что все равно произойдет, что бы мы ни пытались предпринять. Но я гоню от себя эту слабость. Сейчас я ничем не могу помочь Лукасу, Яккельсену же никто больше ничем не может помочь. — Я была на причале. И все. Он зажигает новую сигарету. Одна пепельница уже полна до краев. — Я звонил на телеграф. Но ситуация совершенно невозможная. Строго запрещено оставлять кого-нибудь на платформе. К тому же все осложняется их системой. Пишешь телеграмму и отдаешь ее в окошечко. Потом ее относят в комнату для сортировки почты. Оттуда ее забирает третий человек и несет на телеграф. Я говорил с четвертым. Они даже не знают, сам он ее принес или позвонил по телефону. Что-либо узнать невозможно. Он берет меня за локоть: — Вы совсем не представляете себе, зачем ему надо было на платформу? Я качаю головой. Он машет телеграммой: — В этом весь он. В глазах у него слезы. Именно так Яккельсен бы и написал. Кратко, высокомерно, таинственно и все же с использованием канцелярских штампов. Но это писал не Яккельсен. Этот текст был на том листке бумаги, который я сегодня ночью взяла в каюте Тёрка. Он молча смотрит на море, погрузившись в первые мучительные размышления, которые с этого момента будут все больше и больше поглощать его. Он забыл, что я здесь. В эту минуту срабатывает пожарная сигнализация.
В кают-компании шестнадцать человек. Все находящиеся на борту, за исключением Сонне и Марии, которые сейчас на мостике. Строго говоря, сейчас день, но снаружи темно. Ветер усилился, и температура поднялась — сочетание, благодаря которому дождь, словно ветки, хлещет по стеклам. Время от времени, как удары кувалды, обрушиваются на борт судна волны. Механик стоит прислонившись к переборке, рядом с Урсом. Верлен сидит немного в стороне, Хансен и Морис — среди остальных. В компании они никогда не бросаются в глаза. Осторожность, о которой заботится Верлен. Лукас сидит в конце стола. Прошел час, с тех пор как я видела его на мостике. Он неузнаваем. На нем свежевыглаженная рубашка и начищенные до блеска кожаные ботинки. Он свежевыбрит, и волосы его приглажены водой. Он бодр и немногословен. У самой двери стоит Тёрк. Перед ним сидят Сайденфаден и Катя Клаусен. Проходит какое-то время, прежде чем я могу заставить себя посмотреть на них. Они не обращают на меня никакого внимания. Лукас представляет механика. Он сообщает, что по-прежнему наблюдаются нарушения в работе пожарной сигнализации. Утренняя тревога была ложной. Он очень коротко сообщает, что Яккельсен сбежал. Все это он говорит по-английски и использует слово deserted[68]. Я смотрю на Верлена. Он прислонился к стене. Он внимательно, изучающе смотрит мне прямо в глаза. Я не могу отвести взгляд. Кто-то другой, а не я смотрит моими глазами — дьявол. Он обещает Верлену возмездие. Лукас сообщает, что мы приближаемся к пункту назначения. Более он ничего не говорит. We are approaching our terminal destination[69]. Через день-два мы будем на месте. Сойти на берег будет нельзя. По своей неопределенности сообщение является абсурдным. Во времена спутниковой навигации определить время, когда на горизонте покажется земля, можно с точностью до нескольких минут. Никто никак не реагирует. Все они знают, что с этим плаванием что-то не в порядке. К тому же они привыкли к жизни на борту больших танкеров. Большинству из них случалось плавать по семь месяцев без захода в порт. Лукас смотрит на Тёрка. Это собрание было устроено ради Тёрка. По его просьбе. Возможно, для того, чтобы он смог посмотреть на всех нас, собранных в одном месте. Смог «прочитать» нас. Пока Лукас говорил, Тёрк переводил взгляд с одного лица на другое и на мгновение останавливался на каждом. Теперь он поворачивается и уходит. Сайденфаден и Клаусен выходят следом за ним. Лукас покидает помещение. Уходит Верлен. Механик ненадолго задерживается, чтобы поговорить с Урсом, который на ломаном английском языке пытается что-то рассказать о тех круассанах, которые мы только что ели. Я слышу, что важен пар. И для опары, и при выпечке. Фернанда выходит, стараясь на меня не смотреть. Уходит механик. Он так ни разу и не взглянул на меня. Я увижу его вечером. Но до этого момента мы не можем существовать друг для друга. Я думаю о том, что мне нужно сделать до этого момента. И это не восхитительные планы на будущее. Это скучная, лишенная всякой фантазии стратегия выживания.
Я иду по коридору. Мне надо поговорить с Лукасом. Я ставлю ногу на ступеньку, когда вижу, как навстречу мне спускается Хансен. Я отступаю на открытый участок верхней палубы. Только здесь становится понятно, какая ужасная сегодня погода. Холодный, около нуля градусов, дождь идет плотной стеной. Порывы ветра хлещут мокрыми струями по лицу. На воде видны белые полоски, там, где ветер, сорвав гребешки волн, тянет за собой пену. За мной открывается дверь. Не оборачиваясь, я иду к выходу на ют. Дверь впереди меня распахивается, и появляется Верлен. Теперь этот короткий, закрытый навесом участок палубы кажется совсем не таким, как раньше. Раньше мешали постоянно горящие лампы, две двери, выходящие сюда окна жилых кают. Теперь я понимаю, что это одно из самых изолированных мест на судне. Сверху оно не просматривается, войти сюда можно только с двух сторон. А те окна, которые находятся за моей спиной, — это окна каюты Яккельсена и моей. Передо мной только фальшборт. А за ним двенадцать метров до поверхности моря. Хансен приближается ко мне, а Верлен стоит на месте. Я вешу пятьдесят килограммов. Меня быстро поднимут, а потом — вода. Что там говорил Лагерманн? Сначала задерживаешь дыхание, пока тебе не начинает казаться, что сейчас лопнут легкие. Это и есть самое болезненное. Потом делаешь сильный, глубокий вдох и выдох. Затем наступает покой. Это единственное место на судне, где они могут все проделать, не боясь, что их увидят с мостика. Они, должно быть, ждали такой возможности. Я подхожу к фальшборту и наклоняюсь над ним. Хансен приближается. Наши движения неторопливы и осторожны. Открытое пространство справа от меня нарушается надводным бортом, который спускается до самых перил. С наружной стороны борта в стальную обшивку вставлен ряд прямоугольных железных скоб, исчезающих в темноте. Я сажусь верхом на перила. Хансен и Верлен останавливаются. Как и любой остановился бы перед человеком, который сам собирается спрыгнуть вниз. Но я не прыгаю. Я хватаюсь за скобы и, подтянувшись, оказываюсь снаружи. Хансен не успевает понять, что происходит. Но Верлен бросается к фальшборту и хватает меня снизу за ноги. В борт «Кроноса» ударяет сильная волна. Корпус дрожит, и судно накреняется вправо. Он вцепился в мою ногу. Но движение судна прижимает его к перилам, грозя выбросить за борт. Ему приходится отпустить меня. Мои ноги скользят по соленым и мокрым скобам. Судно откатывается назад — и я повисаю на руках. Где-то подо мной светится белая ватерлиния. Закрыв глаза, я карабкаюсь наверх. Когда мне кажется, что прошла вечность, я их открываю. Где-то подо мной, подняв голову и глядя на меня, стоит Хансен. Я поднялась всего на несколько метров вверх. Я нахожусь па уровне окон прогулочной палубы. Слева от меня за синими занавесками свет. Я барабаню ладонью по стеклу. Когда я уже теряю надежду и опять начинаю ползти наверх, занавески осторожно раздвигаются. На меня смотрит Кютсов. Я колотила в окно рабочей каюты старшего механика. Приставив ладони к стеклу, чтобы было лучше видно, он прижимается к окну. Нос его расплывается матово-зеленым пятном. Наши лица находятся в нескольких сантиметрах друг от друга. — Помогите, — кричу я, — помогите же, черт возьми! Он смотрит на меня. Потом задвигает занавески. Я карабкаюсь выше. Ступеньки заканчиваются, и я падаю на шлюпочную палубу рядом со шлюпбалками спасательной шлюпки левого борта. Дверь находится справа от меня. Она заперта. К платформе напротив мостика ведет по трубе наружная лестница, вроде той, по которой я только что поднялась. В других обстоятельствах были бы все основания восхищаться предусмотрительностью Верлена. Наверху на лестнице, в нескольких метрах надо мной, стоит Морис — все еще с перевязанной рукой. Он там, чтобы убедиться, что на расположенных выше палубах нет никаких свидетелей. Я бегу к трапу, ведущему вниз. Но с нижнего этажа мне навстречу поднимается Верлен. Я поворачиваю назад. У меня мелькает мысль, что, может быть, я смогу спустить на воду спасательную шлюпку. Ведь у нее должен быть какой-то быстро срабатывающий механизм, позволяющий сбросить ее вниз. Наверное, я смогу спрыгнуть за ней в воду. Но, оказавшись перед лебедками для спуска, я отказываюсь от этой идеи. Систему карабинов и талей понять невозможно. Я срываю брезент со шлюпки. В поисках того, что можно было бы использовать для защиты. Багра, сигнальной ракеты. Чехол шлюпки — из тяжелого зеленого нейлона, который крепится к бортам при помощи резинки. Когда я поднимаю чехол, ветер вырывает его у меня из рук, и он перелетает за борт, повиснув на кольце в форштевне шлюпки. Верлен уже на палубе, позади него — Хансен. Ухватившись за зеленый нейлон, я перешагиваю через борт корабля. «Кронос» накреняется, меня приподнимает, и я, сжав ногами брезент, съезжаю вниз. Я спускаюсь до самого конца, и мои ноги болтаются в пустоте. И тут я падаю — они перерезали веревки, на которых держался чехол. Я выставляю руки и подмышками повисаю на поручнях. Колени стукаются о борт судна. Но я все-таки вишу. Ни боли, ни тела не чувствую, дыхание парализовано. Потом я головой вперед сползаю на верхнюю палубу. На мгновение возникает абсурдное воспоминание о первой в моей жизни игре в морских разбойников, вскоре после того, как я приехала в Данию. О том, что не было привычки к игре, из которой быстро исключались слабые, а затем, по естественно возникавшей иерархии, и все другие. О стремлении остаться в живых, когда все остальные тебя ловят. Дверь на лестницу открывается, и появляется Хансен. Двигаясь по направлению к юту, я оказываюсь рядом с трапом, ведущим наверх. На высоте моего роста на ступенях появляется пара синих ботинок. Просунув руки под ступеньки, я сталкиваю эти ноги вперед. Поскольку это продолжает их собственное движение, то не требуется очень много сил. Ноги описывают в воздухе короткую кривую, и голова Верлена стукается о лестницу на уровне моих плеч. Потом он пролетает последние метры по трапу и ударяется о палубу, никак не задержав своего падения. Я бегу вверх по трапу. На шлюпочной палубе я держусь левого борта и оттуда карабкаюсь наверх. Морис, должно быть, услышал меня. Пока я поднимаюсь наверх, он подходит к лестнице. За ним распахивается дверь, ведущая на мостик, и появляется Кютсов. Он в халате и босиком. Пока они с Морисом разглядывают друг друга, я прохожу мимо них на мостик. Я нащупываю в кармане фонарик. Луч света освещает лицо Сонне. У штурвала стоит Мария. — Открой мне медицинскую каюту, — говорю я. — Со мной произошел несчастный случай. Он идет впереди. Напротив штурманской рубки он, остановившись, оборачивается ко мне. Я оглядываю себя. Вместо ткани на коленях спортивных брюк две кровавые дырки. Обе ладони разодраны. — Я упала, — говорю я. Он открывает медицинскую каюту. Старается не смотреть на меня. Когда я сажусь и кожа на коленях натягивается, я едва не теряю сознание. Возникает вереница мелких, полных боли воспоминаний. Первые лестницы в интернате и падение на неровной ледяной поверхности: проблеск света, полная беспомощность, тепло, острая боль, холод и тяжелая пульсация. — Ты можешь продезинфицировать здесь? Он смотрит в сторону. — Я не выношу вида крови. Я дезинфицирую сама. Руки дрожат, жидкость льется по ранам. Я накладываю стерильные компрессы. Обматываю бинтом. — Кетоган. — Это запрещено правилами. Я поднимаю на него взгляд. Он находит бутылочку. — И амфетамин. В любой судовой аптечке и в любой экспедиции есть лекарства, стимулирующие деятельность центральной нервной системы и быстро снимающие чувство усталости. Он протягивает мне его. Я разламываю пять таблеток над бумажным стаканчиком с водой. Получается очень горько. Трудно сделать что-нибудь с руками. Он находит белые, плотно натягивающиеся хлопчатобумажные перчатки, из тех, что используют аллергики. Когда я выхожу из дверей, он пытается бодро улыбнуться: — Ну что, лучше? Он настоящий датчанин. Страх и железная воля к тому, чтобы вытеснить из сознания происходящее вокруг него. Несгибаемый оптимизм.
Дождь не уменьшается. Он словно водяные нити, протянутые наискосок над окнами мостика, которые теперь отливают серым в слабом дневном свете. — Где Лукас? — В своей каюте. С человеком, который не спал двое суток, бессмысленно говорить. — Он выходит на вахту через час, — говорит Сонне. — В «вороньем гнезде». Он хочет сам увидеть лед. Экран одного из радаров настроен на радиус пятьдесят морских миль. Недалеко от края на нем штрихами изображен зеленоватый континент. Начало полярного льда. — Скажи ему, что я поднимусь к нему, — говорю я.
Палуба «Кроноса» пуста. Она больше не похожа на часть судна. Слабый дневной свет отбрасывает глубокие тени, и это уже не просто тени. В любой темноте таится ад. В моем детстве такая атмосфера сопровождала любую смерть. Где-то начинали кричать женщины, и мы понимали, что кто-то умер, и сознание этого меняло все вокруг. И даже если это был май месяц в Сиорапалуке, когда струится, проникая повсюду, сине-зеленый свет, делающий людей безумными от весны, даже если это был такой свет, он все равно превращался в холодный отблеск неожиданно переместившегося на землю царства мертвых. Лестница ведет наверх по передней стороне мачты. Наблюдательная «бочка», «воронье гнездо», — это плоская алюминиевая коробка с окнами впереди и по бокам. Обязательная для каждого судна, плавающего во льдах. До верха двадцать метров. На моем рисунке «Кроноса» это не кажется большим расстоянием. Но карабкаться по этому пути жутко. Судно ударяется о волны, накреняется набок, все движения от центра вращения корпуса усиливаются по мере того, как я поднимаюсь выше, и удлиняется радиус поворота. Ступеньки приводят к платформе, над которой крепятся блоки грузовой стрелы. Оттуда попадаешь на меньшую платформу, а оттуда через маленькую дверцу — в металлическую будку. Здесь едва можно стоять во весь рост. В темноте я вижу контуры старого телеграфного аппарата, креномер, лаг, большой компас, румпель и устройство для переговоров с мостиком. Когда мы войдем в полосу льда, именно отсюда Лукас будет управлять судном — только здесь будет достаточный обзор. У задней стены — сиденье. Когда я вхожу, он отодвигается, освобождая мне место, я вижу его как сгусток темноты. Я расскажу ему о Яккельсене. На любом судне у капитана есть какое-нибудь оружие. И у него еще остался его авторитет. Ведь можно, наверное, как-то обуздать Верлена и повернуть назад. Мы могли бы дойти до Сисимиута за семь часов. Я опускаюсь на сиденье, он кладет ноги на телеграф. Это не Лукас, это Тёрк. — Лед, — говорит он. — Мы идем ко льду. Он едва виден, словно бело-серый просвет на горизонте. Небо низкое и темное, словно угольный дым, с отдельными светлыми прорехами. Маленькую будочку, в которой мы сидим, бросает из стороны в сторону, меня отбрасывает к нему и потом опять к стене. Он неподвижен. Сапоги лежат на телеграфе, рука — на сиденье, и кажется, будто он приклеен к нему. — Ты была на «Гринлэнд Стар». Ты была в носовой части судна, когда первый раз сработала пожарная сигнализация. Кютсов несколько раз видел тебя по ночам. Почему? — Я привыкла свободно перемещаться на судах. Мне не видно его лица, лишь очертания. — На каких судах? Ты отдала капитану только паспорт. Я посылал факс в Морское управление. На твое имя никогда не выдавалась служебная книжка. На мгновение возникает огромное желание сдаться. — Я плавала на небольших судах. Если это не торговый флот, то никогда не спрашивают твои документы. — Ты узнала о том, что есть эта работа, и связалась с Лукасом. Это не вопрос, поэтому я не отвечаю. Он изучает меня. Ему, наверное, видно не лучше, чем мне. — Об этом плавании не было никакого объявления. Его держали в тайне. Ты не связывалась с Лукасом. Ты заставила Ландера, владельца казино, организовать встречу. Он говорит понизив голос, заинтересованно. — Ты была у Андреаса Лихта и Винга. Ты что-то разыскиваешь. Кажется, что лед медленно движется нам навстречу. — На кого ты работаешь? Именно мысль о том, что он все время знал, кто я такая, невыносима. С самого детства, кажется, я не чувствовала себя настолько во власти другого человека. Он не рассказал механику, что я буду на борту судна. Он хотел увидеть нашу встречу, чтобы понять, что есть между нами. Именно за этим он прежде всего и наблюдал, когда нас собрали в кают-компании. Неизвестно, к каким выводам он пришел. — Верлен считает, что ты из полиции. Когда-то я и сам склонялся к такому же мнению. Я осмотрел твою квартиру в Копенгагене. Твою каюту здесь, на судне. Кажется, что ты действуешь совсем одна. Без какой-либо организации. Но, может быть, какая-нибудь фирма? Частный клиент? На минуту я чуть было не отключаюсь в ожидании сна, потери сознания и забвения. Но повторение вопроса выводит меня из транса. Ему нужен ответ. Это опять допрос. Он не может знать наверняка, кто я. С кем я связана. Что я знаю. Пока это так, я остаюсь в живых. — Ребенок из моего подъезда упал с крыши. У его матери я нашла адрес Винга. Она получала пенсию от Криолитового общества за своего мужа. Это привело меня к архивам общества. К той информации, которая там была об экспедициях на Гела Альта. Все остальное происходит из этого. — Кто тебе помогал? Все это время он говорил настойчиво и все же не заинтересованно. Как будто мы беседуем о наших общих знакомых, о взаимоотношениях, которые, строго говоря, нас не касаются. Я никогда не верила в то, что люди могут быть холодны. Неестественны, возможно, но не холодны. Суть жизни — тепло. Даже ненависть — это тепло, только с обратным знаком. Теперь я понимаю, что ошибалась. От сидящего рядом со мной человека, словно физически ощутимая реальность, исходит мощный холодный поток энергии. Я пытаюсь представить себе его ребенком, пытаюсь уцепиться за что-нибудь человеческое, что-нибудь понятное: недоедающий мальчик без отца, живущий в хибаре в Брёнсхойе. Измученный, тощий, как цыпленок, одинокий. Мне приходится отказаться от этой попытки — ничего не получается, картинка рассыпается и исчезает. Сидящий рядом со мной человек — цельная натура, но одновременно он мягкий, гибкий —это человек, который поднялся над своим прошлым, так что не осталось и следов его. — Кто тебе помогал? Этот последний вопрос все определяет. Самое важное — это не то, что я сама знаю. Самое важное — с кем я поделилась этим знанием. Чтобы он мог понять, что его ожидает. Может быть, в этом стремлении все спланировать, сделать свой мир предсказуемым, стремлении, идущем от бесконечной незащищенности в детстве, и заключается его человечность. Я пытаюсь говорить совершенно бесстрастно: — Мне всегда удавалось обходиться без посторонней помощи. Он некоторое время молчит. — Для чего ты это делаешь? — Я хочу понять, почему он умер. Когда стоишь на краю пропасти с завязанными глазами, может вдруг появиться удивительная уверенность в себе. Я знаю, что сказала то, что надо было сказать. Он задумывается над моим ответом. — Ты знаешь, что мне надо на Гела Альта? В этом «мне» проявление огромной искренности. Нет больше судна, экипажа, меня самой, его коллег. Вся эта сложная машина движется только ради него одного. В его вопросе нет никакого высокомерия. Просто так все и есть на самом деле. Так или иначе, все мы находимся здесь потому, что он хотел этого и смог это осуществить. Я балансирую на лезвии ножа. Он знает, что я солгала. Что я не сама по себе оказалась здесь. Уже одно то, что я смогла попасть на борт судна, говорит об этом. Но он по-прежнему не знает, кто сейчас сидит рядом с ним — отдельный человек или организация. Именно в его сомнениях заключается для меня надежда. Я вспоминаю лица возвращавшихся домой охотников — чем более унылый у них был вид, тем больше лежало на санях. Я вспоминаю, как моя мать после рыбной ловли изображала ложную скромность, определение которой дал Мориц во время одного из своих приступов ярости — обязательно нужно преуменьшить все на двадцать процентов, а еще лучше — на сорок. — Мы должны что-то оттуда забрать. Нечто настолько тяжелое, что требуется судно такого размера, как «Кронос». Нет никакой возможности узнать, что творится у него внутри. Из темноты ко мне обращено лишь настойчивое внимание, регистрирующее и оценивающее. И снова я представляю приближающегося ко мне белого медведя: бесстрастную оценку хищником своего желания, способности добычи защищаться, всей ситуации. — Зачем, — слышу я свой голос, — нужно было мне звонить? — Я кое-что понял, позвонив. Ни одна нормальная женщина, ни один нормальный человек не поднял бы трубку.
Мы одновременно выходим на платформу, покрытую теперь тонким слоем льда. Когда волна ударяет о борт, чувствуются усилия двигателя, по мере того как увеличивается нагрузка на винт. Я пропускаю его вперед. Обычно то впечатление, которое производит человек, слабеет, когда он оказывается под открытым небом. Но с ним этого не происходит. Его обаяние поглощает пространство вокруг нас и серый, водянистый свет. Никогда прежде я так не боялась ни одного человека. Стоя на платформе, я вдруг понимаю, что это он был с Исайей на крыше. Что он видел, как тот прыгнул. Осознание этого приходит словно видение, еще без деталей, но с абсолютной уверенностью. В этот момент я чувствую — через время и пространство — страх Исайи, в это мгновение я нахожусь рядом с ним на крыше. Положив руки на перила, он смотрит мне в глаза: — Отойди, пожалуйста, на несколько шагов. Мы прекрасно понимаем друг друга, полностью и без лишних слов. Он представил себе такую возможность: он спускается на несколько ступенек по лестнице, а я, нагнав его, отрываю его руки и ударяю в лицо, так что он с двадцатиметровой высоты падает на палубу, которая отсюда кажется такой маленькой, что нет никакой уверенности в том, что в нее можно попасть. Я отступаю назад к самому ограждению. Я ему почти благодарна за то, что он принял эту меру предосторожности. Искушение, возможно, было бы слишком велико для меня.
Дважды случалось, что я, уехав в Гренландию, по полгода не видела своего отражения в зеркале. По пути домой я старательно избегала зеркал в самолетах и аэропортах. Стоя потом перед зеркалом в своей квартире, я очень ясно видела физическое выражение хода времени: первые седые волосы, паутинку морщин, более глубокие и отчетливые тени выступающих костей. Никакая другая мысль не была для меня более успокоительной, чем сознание того, что я умру. В эти минуты прозрения — а себя можно увидеть таким, какой ты есть, только если смотришь на себя как на чужого человека, — все отчаяние, вся веселость, вся депрессия исчезают и сменяются спокойствием. Для меня смерть вовсе не была пугающей, она не была состоянием или событием, которое придет и поразит меня. Она была скорее сосредоточенностью на текущем моменте, поддержкой, союзником, помогающим мыслями быть в настоящем. Летними ночами бывало, что Исайя засыпал у меня на диване. Я не помню, чем я занималась, должно быть, сидела, глядя на него. Коснувшись его шеи, я чувствовала, что ему слишком жарко. Тогда, осторожно расстегнув его рубашку, я раскрывала ее на груди, вставала, открывала окно на набережную — и мы оказывались в другом месте. Мы были в Иите, в летней палатке — через брезент проникает свет, похожий на свет полной луны. Но это ткань делает свет голубым, потому что когда я откидываю ее, на Исайю падают розоватые лучи полуночного солнца. Он не просыпается — он не спал целые сутки, мы не могли заснуть при этом нескончаемом свете, и теперь он свалился без сил. Может быть, он мой ребенок, так я это чувствую, и я смотрю на его грудь и на его шею, а смуглая, без единого изъяна кожа движется от его дыхания, и я чувствую его учащенный пульс. Тогда я подходила к зеркалу и, сняв блузку, смотрела на свою собственную грудь и на свою шею, осознавая, что когда-нибудь всего этого не будет, даже того, что я чувствую к нему, когда-нибудь не будет. Но к тому времени он все еще будет существовать, а после него — его дети или другие дети, колесо детей, цепь, спираль, поднимающаяся в бесконечность. Когда я вот так чувствовала конец и продолжение всего, я бывала очень счастлива. По-своему я и сейчас счастлива. Я сняла с себя одежду и встала перед зеркалом. Если кого-нибудь интересует смерть, он мог бы с большой пользой посмотреть на меня. Я сняла бинты. На коленях содрана кожа. На животе — широкий желто-синий кровоподтек, в том месте, куда Яккельсен ударил меня свайкой. На обеих ладонях — кровоточащие, незаживающие раны. На затылке шишка величиной с чаячье яйцо, в одном месте лопнула и слезла кожа. И к тому же я еще из скромности не сняла свои белые носки, так что не видно вспухшей лодыжки, и не говорю о всевозможных синяках и коже на голове, которая периодически все еще болит от ожога. Я похудела. Превратилась из худой в тощую. Спать удавалось слишком мало — глаза ввалились. И все же я улыбаюсь этой чужой женщине в зеркале. Счастье и несчастье в жизни не подчиняются элементарным законам математики, не подчиняются нормальному распределению. На борту «Кроноса» находится один из немногих людей на земле, из-за которых стоит оставаться в живых.
Он звонит ровно в 17 часов. Впервые я испытываю нежность к переговорному устройству. — С-смилла, в медицинской каюте через пятнадцать минут. У него с телефонами так же, как и у меня. Он едва успевает сказать то, что собирался, как уже стремится отойти от аппарата. — Фойл, — говорю я. Я никогда раньше не произносила его фамилию. На языке чувствуется сладость. — Спасибо за вчерашний день. Он не отвечает. Устройство щелкает, лампочка гаснет.
Я надеваю синюю рабочую одежду. Делаю я это не случайно. Ничего не бывает случайным, когда я одеваюсь. Конечно же, я могла бы одеться красиво. Даже сейчас я могла бы одеться красиво. Но синяя одежда — это форма на «Кроносе», символ того, что сейчас мы встречаемся в других условиях, что мы противопоставлены всему миру иначе, чем когда-либо раньше. Я долго стою у двери, прислушиваясь, прежде чем выхожу в коридор. Я не могу представить себе, что может существовать что-либо похожее на христианский ад. Но того, что существует древнее гренландское царство мертвых, я вовсе не исключаю. Если посмотреть на те неприятности, которые встречаешь на своем пути, пока живешь, трудно поверить, что все это прекратится только потому, что ты умер. Если в царстве мертвых будут тайные свидания с возлюбленным, то их прелюдия будет наверняка такой же, как вот эта. Я двигаюсь от одной дверной ниши к другой. «Кронос» для меня теперь уже не просто судно, это скорее поле риска. Я пытаюсь заранее просчитать, где этот риск может превратиться в опасность. Когда кто-то выходит из спортивной каюты, я захожу в туалет и жду там, пока не захлопнется дверь за тем, кто вышел. Через дверную щель мне видно, как мимо проходит Мария. Быстро, не глядя по сторонам. Не только мне известно, что «Кронос» представляет собой гибельный мир. Я никого не встречаю, поднимаясь по лестнице. Дверь на мостик закрыта, в штурманской рубке темно. Перед медицинской каютой я останавливаюсь. Я поправляю одежду, без косметики я чувствую свое лицо голым. В каюте темно, занавески задернуты. Закрыв за собой дверь, я встаю к ней спиной. Я ощущаю свои губы. Мне хочется, чтобы он вышел из темноты и поцеловал меня. Тонкий, прохладный цветочный запах доносится до меня. Я жду. Свет загорается не на потолке, а над койкой. Нечто вроде операционной лампы создает на черной кожаной обивке желтые круги света, погружая оставшуюся часть каюты в полумрак. На стуле, положив сапоги на койку, сидит Тёрк. У стены, в полутьме, стоит Верлен. На краю койки, покачивая ногами, сидит Катя Клаусен. Других людей в каюте нет. Я вижу себя со стороны. Может быть, потому, что слишком больно оставаться внутри себя. Мне наплевать на эту троицу, мне наплевать на саму себя. Это с механиком я говорила мгновение назад. Это он позвал меня сюда. Предел, для всех нас есть предел. Есть предел нашей настойчивости, предел тому, сколько раз можно просить милостей у жизни. Тому, сколько ее отказов можно вытерпеть. — Вынимай все из карманов. Это Верлен. У меня впервые появляется возможность увидеть разделение труда между ними. Я предполагаю, что Верлен отвечает за физическое насилие. Я выхожу на свет и кладу свой фонарик и ключи на койку. Непонятно, зачем здесь женщина. И в то же мгновение я получаю объяснение этому. Верлен кивает ей, и она подходит ко мне. Мужчины отворачиваются, пока она обыскивает меня. Она гораздо выше меня ростом, но довольно ловкая. Она начинает с того, что, встав на колени, ощупывает лодыжки, а потом поднимается вверх. Она находит отвертку и футляр для иголок Яккельсена. В конце концов она снимает с меня мой ремень. Тёрк не смотрит на то, что она нашла. Но Верлен взвешивает это на ладони. Как это произойдет? Успею ли я увидеть это? Тёрк встает: — Ты официально находишься под арестом. Он не смотрит на меня. Мы оба знаем, что любая ссылка на формальности — это часть той же самой иллюзии, что и наша взаимная вежливость. Это последнее, что осталось между нами недосказанным. Он стоит опустив глаза. Потом медленно качает головой, и по его лицу пробегает что-то похожее на удивление. — Ты замечательно блефуешь, — говорит он. — Я бы предпочел сидеть в «вороньем гнезде» и слушать твою ложь, чем разгуливать среди всех этих скучных истин. Минуту все они стоят неподвижно. Потом уходят. Дверь закрывает Верлен. Он останавливается в дверном проеме. У него усталый вид. Есть что-то искреннее в его молчании. Оно говорит мне, что это не камера, а все это не арест. Это начало конца, который наступит очень скоро. ЛЁД
1
В воскресной школе нас учили, что солнце — это Господь наш Иисус Христос, в интернате мы услышали, что это непрерывный термоядерный взрыв. Для меня оно всегда будет Небесным Клоуном. В моем первом сознательном воспоминании о солнце я, сощурив глаза, смотрю прямо на него, хорошо понимая, что это нельзя, и думаю, что оно одновременно и угрожает, и смеется, как лицо клоуна, когда он мажет его кровью и золой, и берет в зубы палочку, и, незнакомый, вселяющий ужас и радостный, идет навстречу нам, детям. Теперь, прямо перед тем как солнечный диск коснется горизонта, где он на мгновение спасается от черной пелены облаков, отбрасывая огненный свет на лед и на судно, он повторяет стратегию клоуна — склоняясь как можно ниже, спасается от тьмы. Опасная сила уничижения. «Кронос» движется по направлению ко льду. Я вижу его на некотором расстоянии, неясно из-за десятимиллиметрового непробиваемого стекла, покрытого снаружи кристаллизованными крупинками соли. Это ничего не меняет, я чувствую этот лед так, как будто ногами стою на нем.
Это плотный полярный лед, и сначала все вокруг серое. Узкий канал, который пробивает «Кронос», похож на поток лавы. Льдины, большинство из которых длиной с судно, похожи на слегка приподнятые, разрушенные морозом обломки скал. Это абсолютно безжизненный мир. Потом солнце скрывается за облаками, и они вспыхивают, как бензин. Ледяной панцирь образовался в прошлом году в Ледовитом океане. Оттуда он спустился между Шпицбергеном и восточным побережьем Гренландии, обогнул мыс Фарвель и прошел вверх вдоль западного побережья. Он создан в красоте. В один октябрьский день температура за четыре часа падает до минус 30 градусов по Цельсию и море становится гладким, как зеркало. Оно готовится воссоздать чудо творения. Облака и море сливаются в завесу серого, тяжелого шелка. Вода становится вязкой и чуть розоватой, словно ликер из диких ягод. Синий туман морозного дыма отрывается от поверхности воды и плывет над водным зеркалом. И вода отвердевает. Холод извлекает из темноты моря сад роз, белый ковер ледяных цветов, созданных солеными, замерзшими водяными каплями. Они могут прожить четыре часа, могут прожить двое суток. В это время кристаллы льда строятся вокруг числа шесть. В разные стороны от шестиугольников, словно в пчелиных сотах из застывшей воды, протягиваются шесть рук к новым ячейкам, которые снова — сфотографированные через цветной фильтр и сильно увеличенные — растворяются в новых шестигранниках. Потом образуется ледяная крошка, ледяное сало, блинчатый лед, пластинки которого смерзаются в льдины. Лед выделяет солевой раствор, морская вода замерзает снизу. Лед ломается, поверхностное сжатие, осадки и новый мороз делают его поверхность неровной. И в один прекрасный день лед начинает дрейфовать. Вдали находится hiku — неподвижный лед, континент замерзшего моря, вдоль которого мы плывем. Вокруг «Кроноса», в том фьорде, который создали не до конца понятные и описанные местные особенности течения, повсюду hikuaq и puktaaq — льдины. Опаснее всего синие и черные куски пресноводного льда — тяжелые и глубоко сидящие, которые из-за того, что они прозрачны, приобретают цвет окружающей их воды. Лучше виден белый глетчерный лед и сероватый морской лед, окрашенные воздушными включениями. Поверхность льдин — это пустынный пейзаж, состоящий из ivuniq — скопления льда, нагнанного течением и возникшего в результате столкновения льдин, maniilaq — глыб льда и apuhiniq — снега, превращенного ветром в прочные баррикады. Тем же ветром созданы на льду agiuppiniq — снежные полосы, вдоль которых едешь на санях, когда на лед опускается туман. Пока что погода, лед и море позволяют «Кроносу» двигаться вперед. Лукас сейчас сидит в своем «вороньем гнезде», проводя судно по каналам, ищет killaq — полыньи, направляет нос корабля на молодой лед, толщина которого менее тридцати сантиметров, и раскалывает его весом судна. Он движется вперед. Потому что здесь такое течение. Потому что «Кронос» так сконструирован. Потому что у него есть опыт. Но это все только до поры до времени. Специально оборудованное для плавания во льдах судно Шеклтона «Эндьюранс» было раздавлено паковым льдом в море Уэдделла, «Титаник» потерпел крушение. «Ханс Хедтофт» тоже. И «Протей», когда он пытался спасти экспедицию лейтенанта Гриливо во время Второго международного полярного года. Несть числа потерям в полярном судоходстве. Сопротивление льда слишком сильно, чтобы стоило стремиться к его покорению. Вот и сейчас я вижу, как в результате столкновения разбились края льдин и возникли двадцатиметровые нагромождения, под которыми лед уходит под воду на глубину тридцать метров. Мороз усиливается. Сейчас, в это мгновение, я чувствую, как море пытается сомкнуться вокруг нас, и лишь случайное, временное соединение разных факторов — воды, ветра и течения — позволяет нам плыть дальше. В ста милях к северу паковый лед стоит стеной, через которую ничто не сможет пробиться. К востоку высятся прочно замерзшие айсберги, отколовшиеся от ледника Якобсхаун. За один год с него сползло тысяча айсбергов, сто сорок миллионов тонн льда, вставшего между нами и землей, как застывшая цепь гор, на расстоянии семьдесят пять морских миль от берега. В любой момент времени на четвертой части Мирового океана есть плавающий лед, пояс дрейфующего льда в Антарктиде составляет двадцать миллионов квадратных километров, вокруг Гренландии и Канады — от восьми до десяти миллионов. И все же они хотят покорить лед. Они хотят плавать по нему, строить на нем нефтяные платформы и таскать столообразные айсберги от Южного полюса до Сахары, чтобы орошать почву в пустынях. Есть проекты, в которых меня совершенно не интересуют предварительные вычисления. Пустая трата времени — пытаться рассчитать неосуществимое. Можно попытаться жить со льдом. Нельзя жить против него или пытаться переделать его и жить вместо него. В чем-то лед такой понятный — вся его история запечатлена на поверхности. Торосы, глыбы, тающий и снова замерзающий лед. Мозаичная смесь льда различных возрастов, большие куски sikussaq — старого льда, созданного в защищенных фьордах, со временем оторвавшегося и выдавленного в море. Теперь из тех облаков, за которые нырнуло солнце, в последних солнечных лучах опускается на землю тонкая пелена qanik — медленно падающего снега. Между белой поверхностью и моим сердцем протянута нить. Словно это продолжение солевого дерева внутри льда.
Очнувшись, я понимаю, что спала. Должно быть, сейчас ночь. «Кронос» все еще плывет. Судя по движениям судна, Лукас продолжает пробиваться сквозь молодой лед. Я осматриваю ящики в шкафчике с лекарствами. Они заперты. Я оборачиваю локоть свитером и выдавливаю стекло дверцы. На полках лежат ножницы, зажимы, пинцеты, отоскоп, бутылочка спирта, йод, хирургические иглы в стерильной упаковке. Я нахожу два одноразовых пластмассовых скальпеля и рулончик лейкопластыря. Соединяю две тоненькие узкие пластмассовые ручки и обматываю их пластырем. Теперь они приобретают некоторую прочность. Не было слышно никаких шагов, дверь просто открывается. Входит механик с подносом. Он кажется более усталым и более ссутулившимся, чем в последний раз, когда я его видела. Его взгляд останавливается на разбитом стекле. Я прижимаю скальпели к бедру. Ладони у меня покрываются потом. Он смотрит на мою руку, и я откладываю скальпели на кровать. Он ставит поднос на стол. — У-урс очень старался. Я чувствую, что меня стошнит, если я посмотрю на еду. Он подходит к двери и закрывает ее. Я отодвигаюсь. Самообладание держится на волоске. Самое страшное — это не гнев. Самое страшное — это желание, скрывающееся за гневом. Можно смириться с чистым чувством без всяких примесей. Но меня всерьез пугает таящаяся в глубине души потребность прижаться к нему. — Ты с-сама бывала в экспедициях, Смилла. Ты з-знаешь, что наступает момент, когда от тебя ничего не з-зависит, когда ты не можешь остановиться. Я думаю, что в каком-то смысле я его совсем не знаю, что я никогда не была с ним вместе в постели. С другой стороны, есть какая-то холодная, благородная последовательность в том, что он ни о чем не жалеет. Как только представится возможность, я вышвырну его из своей жизни. Но сейчас он — мой единственный, хрупкий, нереальный шанс. — Мне надо тебе кое-что показать, — говорю я. И рассказываю, что именно. Он неестественно улыбается: — Это невозможно, Смилла. Я открываю дверь, чтобы он ушел. До этого момента мы говорили шепотом, теперь я уже не думаю об осторожности. — Исайя, — говорю я. — В чем-то это и твоя вина. Теперь оказывается, что и ты стоял на крыше за его спиной. Он хватает меня за плечи и переносит назад на кровать. — От-ткуда т-ты можешь з-знать, Смилла? Он еще сильнее заикается. На его лице написан страх. Наверное, теперь на борту «Кроноса» нет ни одного человека, который бы не боялся. — Ты не с-сбежишь? И в-вернешься со мной назад? Я готова рассмеяться. — Куда я денусь, Фойл? Он не улыбается. — Ландер сказал, что видел, как ты ходишь по воде. Я снимаю носки. Между пальцами и передней частью стопы приклеен кусочек пластыря. С его помощью держится ключ Яккельсена.
Нам никто не попадается на пути. Ют не освещен. Когда я открываю ключом дверь, мы оба чувствуем, что стоим в нескольких метрах от той платформы, где менее чем 24 часа назад ждали, чтобы увидеть последнее путешествие Яккельсена. Сознание этого не имеет никакого особенного значения. Любовь проистекает оттого, что есть резервы, она проходит, когда живешь на уровне инстинктов, когда остаются только простые потребности в еде, сне и самосохранении. Я зажигаю свет на нижнем этаже. Море света по сравнению с лучом фонарика. Может быть, это неосторожно. Но ни на что другое нет времени. Самое позднее через несколько часов мы будем на месте. Тогда будет включен свет на палубе, тогда все эти пустынные помещения наполнятся людьми. Мы останавливаемся перед стеной в конце коридора. Я рискую всем только потому, что мне что-то показалось странным. Мне показалось странным, что стена, согласно моим подсчетам, выдается на пять футов перед гидравлической системой управления. Что где-то за этой стеной есть что-то вроде генератора. Я смотрю на механика. И совершенно не понимаю, почему он все-таки пошел со мной. Может быть, он сам этого не понимает. Может быть, все из-за того, что невероятное способно притягивать. Я показываю на дверь слесарной мастерской. — Там есть молоток. Кажется, он меня не слышит. Он берется за рейку, прибитую по краю стены, и отдирает ее. Разглядывает дырки от гвоздей: дерево свежее. Он засовывает пальцы в щель между доской и переборкой и тянет на себя. Она не поддается. С каждой стороны примерно по пятнадцать гвоздей. Потом он сильно дергает, и стена оказывается у него в руках. Это кусок фанеры толщиной в десять миллиметров и площадью шесть квадратных метров. В его руках он похож на дверцу шкафа. За ней стоит холодильник. Высотой два метра, шириной метр, сделанный из нержавеющей стали и напоминающий мне магазинчики, где продавали мороженое в шестидесятых годах в Копенгагене, когда я впервые увидела, что люди тратят энергию, чтобы сохранять холод. Чтобы он не сместился от качки, его за ножку прикрепили металлической скобой к тому, что, очевидно, раньше являлось задней стеной коридора. На дверце холодильника висит цилиндрический замок. Он приносит отвертку. Отвинчивает скобу. Потом берется за холодильник, который кажется неподъемным. Напрягаясь изо всех сил, он вытягивает холодильник на полметра вперед. Есть что-то выверенное в его движениях, сознание того, что напрягаться изо всех сил надо только в течение доли секунды. Он делает еще три рывка, и холодильник оказывается развернутым задней стороной к нам. В перочинном ноже у него есть крестообразная отвертка. В задней стенке примерно пятьдесят винтов. Он вставляет отвертку в шлиц и, придерживая винт указательным пальцем левой руки, вращает ее влево не толчками, а равномерно. Винты вылезают из отверстий сами собой. У него уходит не больше десяти минут на то, чтобы вынуть их все. Он аккуратно собирает их в карман и снимает заднюю крышку вместе с проводами, ребрами охлаждения, компрессором и испарителем. Даже в этих обстоятельствах то, что мы видим, представляется моему сознанию одновременно и банальным, и необычным. Мы смотрим на холодильник сзади. Он заполнен рисом. Сверху донизу аккуратными стопками сложены прямоугольные коробочки. Он берет коробку, открывает ее и достает пакетик. Я успеваю подумать, что мне все равно особенно нечего терять. Потом я вижу, как напрягается его лицо. Я снова смотрю на пакетик. Он матовый, но все же можно рассмотреть содержимое. Это не рис. Это вакуумная упаковка из какого-то плотного и желтоватого, словно белый шоколад, материала. Он открывает нож и разрезает пакетик. С тихим звуком тот засасывает в себя воздух. Потом на его ладонь высыпается комковатый темный порошок, как будто в песок, которым измеряют время в песочных часах, вылили жидкое масло. Он наугад выбирает несколько коробок, открывает и, заглянув в них, аккуратно укладывает на место. Привинтив заднюю крышку, он заталкивает холодильник на место. Я не помогаю ему, я больше не могу прикасаться к нему. Он привинчивает металлическую скобу, ставит стенку, приносит молоток и аккуратно прибивает ее на место. Все это он делает рассеянно и напряженно. Только потом мы смотрим друг на друга. — Майам, — говорю я, — промежуточный между очищенным опием и героином продукт. Содержащий масла, поэтому его надо хранить в холодильнике. Его разработал Тёрк. Мне рассказывал об этом Раун. Это часть сделки между Тёрком и Верленом. Кусочек пирога для Верлена. На обратном пути мы должны зайти в порт. Может быть, в Хольстейнсборг, может быть, в Нуук. Может быть, у него есть связи на «Гринлэнд Стар». Еще каких-нибудь десять лет назад они привозили сюда контрабандой спиртное и сигареты. Это время уже прошло. Это уже стало «добрым старым временем». Теперь в Нууке много кокаина. Теперь гренландская верхушка живет как европейцы. Тут прекрасный рынок сбыта. В глазах у него мечтательное, далекое выражение. Я должна добраться до него. — Яккельсен, должно быть, обнаружил это. Он, должно быть, понял это. И случайно выдал себя. Он, наверное, принял дозу и переоценил свои возможности. Стал нажимать на них. Это заставило их принять меры. Тёрк устроил все с телеграммой. Он был вынужден это сделать. Но они с Верленом ненавидят друг друга. Они — из двух разных миров. Они вместе только потому, что могут быть полезны друг другу. Он наклоняется ко мне и берет меня за плечи. — Смилла, — шепчет он, — когда я был маленьким, у меня был такой заводной танк на гусеницах. Если перед ним ставили какой-нибудь предмет, он мог карабкаться вверх по нему, потому что у него была низкая передача. Если предмет нависал над ним, то он, поворачивая, двигался вдоль него и находил другой способ перебраться на другую сторону. Его нельзя было остановить. Ты — такая машина, Смилла. Тебя надо было держать подальше от всего этого, но ты все время вмешивалась. Ты должна была остаться в Копенгагене, но неожиданно оказываешься на борту. Потом они сажают тебя под замок, это моя идея — так безопаснее всего для тебя. Дверь запирают, хватит о Смилле, и вот пожалуйста — ты уже выбралась. Ты все время неожиданно возникаешь. Ты такая машина, Смилла, ты вроде такой детской чашки-непроливашки, которая все время поднимается. В его голосе борются несоединимые чувства. — Когда я была маленькой, — говорю я, — мой отец подарил мне плюшевого медвежонка. До этого у нас были только те куклы, которых мы сами делали. Он продержался неделю. Сначала он испачкался, потом у него вылезла шерсть, а потом он порвался, и то, чем он был набит, высыпалось, а кроме этого, у него внутри ничего не было. Ты — такой медвежонок, Фойл.
Мы сидим рядом на кровати в его каюте. На столе стоит одна из плоских бутылок, но пьет только он один. Он сидит согнувшись, опустив ладони между коленями. — Это метеорит, — говорит он, — нечто вроде камня. Тёрк говорит, что он старый. Он застрял подо льдом в чем-то вроде седловины скалы. Я вспоминаю фотографии среди бумаг Тёрка. Мне надо было еще тогда сообразить. То, что напоминало рентгеновские снимки, — Видманштеттова структура. Есть в любом школьном учебнике. Иллюстрация сочетания никеля и железа в метеоритах. — Зачем? — Тот, кто находит что-нибудь интересное в Гренландии, должен сообщить об этом в Государственный музей в Нууке. Оттуда они позвонили бы в Минералогический музей и Институт металлургии в Копенгагене. Находка была бы зарегистрирована как нечто, представляющее национальный интерес, и была бы реквизирована. Он наклоняется вперед: — Тёрк говорит, что он весит пятьдесят тонн. Это самый большой метеорит в мире. У них с собой в девяносто первом году были кислород и ацетилен. Они отрезали несколько кусочков. Тёрк говорит, что в нем алмазы. И вещества, которых нет на земле. Если бы не эта сложная ситуация, мне бы, наверное, показалось, что в нем есть что-то трогательное, что-то мальчишеское. Воодушевление ребенка при мысли о загадочном веществе, алмазы, золото под воротами радуги. — А Исайя? — Он был в девяносто первом году. Со с-своим отцом. Так, конечно, и должно было быть. — Он убежал с судна в Нууке. Им пришлось оставить его там. Лойен нашел его и отправил домой. — А ты, Фойл, — говорю я. — Что тебе от него было нужно? Когда он понимает, что я имею в виду, лицо его становится замкнутым и очень суровым. В эти минуты, когда все равно уже слишком поздно, я проникаю в потаенные уголки его души. — Конечно, я его не трогал. Там, на крыше. Я любил его, как н-никого… Он заикается и не может закончить предложение. Ждет, пока успокоится. — Тёрк знал, что он что-то взял. П-пленку. Глетчер переместился. Они искали две недели и не могли его найти. Н-наконец Тёрк нанял вертолет и полетел в Туле. Чтобы найти тех эскимосов, которые участвовали в экспедиции шестьдесят шестого года. Он нашел их. Но они н-не хотели ехать с ним. Так что он попросил их описать маршрут. Эту пленку взял Барон. Ее ты и нашла. — А «Белое сечение», как ты туда попал? Я знаю ответ заранее. — Винг, — говорю я. — Это Винг. Он поселил тебя там, чтобы ты приглядывал за Исайей и Юлианой. Он качает головой. — Наоборот, конечно же, — говорю я, — ты был там раньше. Винг переселил туда Исайю и Юлиану, чтобы они были поблизости от тебя. Может быть, чтобы выяснить, что они знают и помнят. Именно поэтому ходатайство Юлианы о том, чтобы ее переселили этажом ниже, не было удовлетворено. Они должны были быть поблизости от тебя. — Меня нанял Сайденфаден. О двух других я раньше и не слышал. Пока ты не добралась до них. Я нырял для Сайденфадена. Он инженер по транспорту. А тогда он торговал антиквариатом. Я доставал ему идолов со дна озера Лиайя, в Бирме, до введения там чрезвычайного положения. Я вспоминаю чай, который он заваривал мне, его тропический вкус. — Потом я случайно встретил его в Копенгагене. Я был безработным. Негде было ж-жить. Он предложил мне приглядывать за Бароном. Нет человека, которому не становится легче на душе, когда приходится рассказывать правду. Механик — не прирожденный лжец. — А Тёрк? Взгляд его становится отсутствующим. — Человек, который всегда добивается своей цели. — Что он знает о нас? Он знает, что мы сейчас здесь сидим? Он качает головой. — А ты, Фойл, кто ты такой? В его глазах пустота. Это вопрос, на который он никогда в жизни не пытался дать ответ. — Человек, который хочет немного заработать. — Надеюсь, что ты хорошо заработаешь, — говорю я. — Ведь эти деньги должны компенсировать смерть двух детей. Губы его сжимаются. — Дай мне глоток, — говорю я. Бутылка пуста. Он достает из ящика еще одну. Я успеваю заметить там круглую синюю пластмассовую банку и что-то прямоугольное, обернутое в желтую тряпку. Спиртное пьется быстро. — Лойен, Винг, Андреас Лихт? — Они б-были отстранены с самого начала. Они с-слишком старые для этого. Это должна была быть наша экспедиция. За этими стереотипными формулировками мне слышится голос Тёрка. Есть что-то привлекательное в невинности. Но лишь пока ее не соблазнили. Потом она представляет собой жалкое зрелище. — Так что, когда я стала причинять слишком много неудобств, вы договорились, что ты будешь следить и за мной? Он качает головой: — Я ничего не знал обо всем этом, не знал о Тёрке или Кате. То, что удалось узнать нам с тобой, было неожиданным для меня. Теперь я вижу его таким, каков он есть. Это зрелище не приносит разочарования. Просто все сложнее, чем я раньше думала. Всякое увлечение упрощает. Как и математика. Видеть его ясно — это значит быть объективной, оставить иллюзию о герое и вернуться обратно к действительности. А может быть, я просто опьянела от первых глотков. Вот что получается, когда пьешь так редко. Пьянеешь, как только первые молекулы впитываются слизистой оболочкой рта. Он встает и подходит к иллюминатору. Я наклоняюсь вперед. Одной рукой я беру бутылку, другой вытягиваю ящик и ощупываю тряпку. Она обмотана вокруг рифленого металлического предмета цилиндрической формы. Я смотрю на механика. Вижу его тяжесть, его медлительность, его энергию, его жадность и его простодушие. Его потребность в руководстве, опасность, которую он собой представляет. Я вижу его заботу, его тепло, его терпение, его страстность. И я вижу, что он по-прежнему мой единственный шанс. Потом я закрываю глаза и отметаю все лишнее в сторону — нашу ложь друг другу, вопросы, на которые не получены ответы, обоснованные и болезненные подозрения. Прошлое — это роскошь, которой мы более не можем себе позволить. — Фойл, — говорю я, — ты будешь нырять у этого камня? Он кивнул. Я не слышала, чтобы он что-то сказал. Но он кивнул. Этот его ответ на минуту заслоняет собой все другое. — Почему? — слышу я свой вопрос. — Он лежит в талых водах. Он почти целиком в воде. Он должен быть близко от поверхности льда. Сайденфаден думает, что не трудно будет спуститься к нему. Либо через туннель с талыми водами, либо по трещинам в шахте, которая находится чуть выше седловины. Сложно будет его поднять. Сайденфаден считает, что нам надо расширить туннель, который идет от озера, и вытащить камень через него. Расширять его надо при помощи взрывчатки. Вся эта работа будет проходить под водой. Я сажусь рядом с ним. — Вода, — говорю я, — замерзает при температуре около нуля градусов. Как Тёрк объяснил тебе то, что вокруг камня — вода? — Дело разве не в давлении льда? — Да, дело может быть в давлении льда. Чем глубже опускаешься в ледник, тем теплее становится. Из-за давления ледяных масс над тобой. Температура материкового льда минус двадцать три градуса на глубине пятьсот метров. Еще на пятьсот метров глубже она минус десять градусов. Поскольку температура таяния зависит от давления, то действительно при температурах ниже нуля встречается вода. Возможно, при минус один и шесть или один и семь десятых градуса. Бывают теплые ледники, в Альпах или в Скалистых горах, где на глубине тридцать метров или ниже встречаются талые воды. Он кивает. — Так Тёрк это и объяснял. — Но Гела Альта находится не в Альпах. Это так называемый холодный глетчер. И он очень маленький. В настоящий момент температура его поверхности будет минус десять. И температура у основания — примерно такая же. Зависящая от давления температура таяния будет примерно ноль градусов. На этом глетчере не может образоваться ни капли талой воды. Глядя на меня, он пьет. То, что я сказала, нисколько не нарушило его равновесия. Возможно, он не понял. Возможно, Тёрк вызывает у людей доверие, которое заслоняет от них весь окружающий мир. А может быть, это совершенно обычная вещь — лед непонятен тому, кто не вырос с ним. Я пытаюсь использовать другую тактику. — Они рассказали тебе, как его нашли? — Его нашли гренландцы. В доисторические времена. О нем говорится в их легендах. Именно поэтому они брали с собой Андреаса Фине. Тогда метеорит, может быть, еще лежал на льду. — Когда метеор входит в атмосферу, — говорю я, — на расстоянии примерно сто пятьдесят километров от поверхности Земли, он испытывает воздействие ударной волны, как будто он ударился о бетонную стену. Наружный слой оплавляется. Мне попадались такие черные полоски метеоритной пыли на полярном льду. Но при этом снижается скорость метеора и падает его температура. Если он достигает поверхности Земли, не разбившись на кусочки, то обычно имеет среднюю температуру Земли — примерно пять градусов. Так что он не вплавляется в лед. Но и не остается на поверхности. Сила притяжения медленно и неотступно тянет его вниз. На поверхности льда никогда не встречали метеоритов заметного размера. И никогда не встретят. Сила притяжения увлечет их вниз. Они будут поглощены и со временем вынесены в море. А если они попадут в подводную трещину, то будут раздавлены. Глетчеру не свойственна деликатность. Он представляет собой помесь гигантского рубанка с камнедробилкой. Он не окружает всякие геологические безделушки волшебными пещерами. Он затягивает их вниз, перемалывает в порошок и высыпает его в Атлантический океан. — Тогда вокруг него могут быть горячие ключи. — На Гела Альта не обнаружено никакой вулканической активности. — Я видел ф-фотографии. Он лежит в воде. — Да, — говорю я. — Я тоже видела фотографии. Если все это не надувательство, то он находится в воде. Я очень надеюсь, что это надувательство. — Почему? Я думаю, сможет ли он понять это. Но другого выхода нет — придется попробовать сказать правду. То, что я считаю правдой. — Я точно не знаю, но похоже, что тепло исходит от камня. Что он излучает энергию. Может быть, своего рода радиоактивность. Но возможен и другой вариант. — Какой? Я вижу по нему, что и для него эти мысли не новы. Он тоже понимал, что не все здесь в порядке. Но он вытеснял эти мысли из своего сознания. Он — датчанин. Всегда лучше удобное замалчивание, чем удручающая правда. — Передний трюм «Кроноса» переоборудован. Он может быть стерилизован. Он оснащен устройством подачи кислорода и атмосферного воздуха. Он сделан так, как будто они собираются перевозить крупное животное. Мне пришла в голову мысль, что Тёрк, может быть, считает, будто камень, который вы должны поднять, живой.
В бутылке больше ничего не осталось. — Ты это хорошо придумал с пожарной сигнализацией. Он устало улыбается: — Только так можно было положить бумаги на место и не привлечь внимания к тому, что они мокрые. Мы сидим на разных концах кровати. «Кронос» движется все медленнее и медленнее. В моем теле тихо разгорается яростная схватка между двумя видами отравления: кристально ясной нереальностью амфетамина и зыбким наслаждением алкоголем. — Когда Юлиана рассказала тебе, что Лойен регулярно обследовал Исайю, я впервые подумала, что речь идет о какой-то болезни. Но только когда я увидела рентгеновские снимки, я окончательно убедилась в этом. Снимки после экспедиции шестьдесят шестого года. Их раздобыл Лагерманн из больницы Королевы Ингрид в Нууке. Смерть наступила не от взрыва. В их организм проник какой-то паразит. Возможно, своего рода червь. Но размером больше, чем какой-либо из известных. И двигающийся быстрее. Они умерли в несколько дней. Возможно, в несколько часов. Лойена интересовало, не заражен ли Исайя. Он качает головой. Он не хочет верить в это. Он ведь ищет сокровище. Алмазы. — Именно поэтому сначала всем этим занимался Лойен. Он ученый. Деньги — это второстепенное. Речь шла о Нобелевской премии. С того дня в сороковые годы, когда он это обнаружил, он предвидел научную сенсацию. — Почему они мне этого не рассказали? Все мы живем, слепо доверяя тем, кто принимает решения. Слепо доверяя науке. Ведь мир безграничен, а любая информация неопределенна. Мы признаем, что Земной шар круглый, что ядра атома держатся вместе, словно капли, что пространство изгибается, что необходимо вмешиваться в генетический материал. Не потому, что мы знаем, что это правильно, а потому, что мы верим тем, кто нам это говорит. Все мы — прозелиты науки. И в отличие от последователей других религий мы более уже не можем перешагнуть расстояние, отделяющее нас от наших проповедников. Сложности возникают, когда натыкаешься на прямую ложь и эта ложь имеет непосредственное отношение к твоей жизни. Состояние механика сродни панике ребенка, впервые поймавшего своих родителей на лжи, которую он всегда за ними подозревал. — Отец Исайи нырял, — говорю я. — Остальные, очевидно, тоже. Большинство паразитов проходит ряд стадий развития в воде. Тебе предстоит нырять. И тебе предстоит заставлять других это делать. Ты — последний человек, которому следует знать правду. От волнения он вскакивает на ноги. — Ты должен помочь мне позвонить, — говорю я. Когда мы встаем, я нащупываю в ящике металлический предмет, завернутый в тряпку, и плоскую, круглую коробку.
Радиорубка находится за мостиком, напротив офицерской кают-компании. Мы проходим туда, никем не замеченные. Перед дверью я останавливаюсь. Он качает головой: — Там никого нет. По требованиям ИМО[70] здесь два раза в час должен кто-нибудь быть, но у нас на борту нет радиста. Поэтому они настроили коротковолновый приемник на 2, 182 килогерца, международную частоту бедствия, и подключили к сигнализации, которая сработает, если будет подан сигнал бедствия. Ключ Яккельсена не подходит к этой двери. Мне хочется закричать. — Я должна попасть туда, — говорю я. Он пожимает плечами. — Ты в долгу перед нами обоими, — говорю я. Еще мгновение он колеблется. Потом осторожно берется за ручку и нажимает на дверь. Не слышно треска дерева, слышно лишь, как язычок, царапая стальную рамку, выдавливает ее внутрь. Помещение очень маленькое, тесно заставленное. Маленький УКВ-приемник, двухдиапазонный передатчик размером с холодильник, ящик, каких я раньше не видела, с вмонтированным телеграфным ключом, стол, стулья, телетайп, телефакс, кофеварка, сахар и пластмассовые стаканчики. На стене часы, стекло которых оклеено бумажными треугольниками разных цветов, радиотелефон, календарь, сертификат технического освидетельствования, лицензия, выданная Сонне на то, что он может работать радиооператором. На столе привинчен магнитофон, лежат разные руководства, открытый журнал радиосвязи. Я пишу номер на листке бумаги. — Это Раун, — говорю я. Он замирает. Я беру его за руку и думаю о том, что последний раз в жизни касаюсь его. Он садится в кресло и преображается. Движения у него такие же, как на своей кухне, — быстрые, точные и уверенные. Он стучит по циферблату часов. — Треугольники обозначают установленные во всем мире промежутки времени, когда частоты должны быть свободны для сигналов бедствия. Если мы нарушим это правило, сработает сигнализация. На коротких волнах это с тридцати до тридцати трех минут каждого часа и с начала каждого часа до трех минут следующего. У нас есть три минуты. Он дает мне трубку, сам берет наушник. Я сажусь рядом с ним. — Это бессмысленно в такую погоду и на таком расстоянии от берега, — говорит он. Сначала я понимаю, что он делает, хотя и не могла бы это проделать сама. Он устанавливает максимальную выходную мощность в 200 ватт. При такой мощности искажения могут забить собственное сообщение, но пасмурная погода и расстояние от берега не оставляют выбора. Слышен лишь скрип в пустой комнате, потом пробивается голос. — This is Sisimiut. What can we do for you? [71] Он выбирает для передачи несущую частоту. В передатчике аналоговое отсчетное устройство и автоматическая подстройка частоты. Теперь он все время будет настраиваться на несущую частоту, а разговор будет идти на боковой полосе. Самый точный способ и, может быть, единственно возможный в такую ночь, как эта. Прямо перед тем, как его соединяют, приемник ловит канадскую станцию, которая передает классическую музыку в коротковолновом диапазоне. На мгновение я погружаюсь в детские воспоминания. Это Виктор Халкенвад поет «Песни Гурре». Потом мы слышим Сисимиут. Механик не просит, чтобы ему дали «Люнгбю Радио», он просит соединить его с Рейкьявиком. Когда его соединяют, он просит дать ему Торсхаун. — Что ты делаешь? — спрашиваю я. Он прикрывает рукой микрофон: — На всех крупных станциях есть автоматический пеленгатор, который включается, когда раздается звонок. Они заносят счета за разговоры на имя того судна, которое называешь. Гарантией для них является то, что они могут определить местонахождение судна. То есть можно всегда отнести разговор к каким-то координатам. Я ставлю преграду. С каждой новой станцией все труднее определить, откуда звонят. После четвертого пункта это невозможно. Ему дают «Люнгбю Радио», и он говорит, что звонит со славного судна «Кэнди-2», и называет номер Рауна. Он смотрит мне в глаза. Мы оба знаем, что, если я потребую сделать иначе, потребую прямого звонка, при котором Раун сможет определить местоположение «Кроноса», он отключит все. Я не спорю. Я и так уже долго на него давила. А нам еще кое-что предстоит. Он требует, чтобы ему дали линию безопасности — линию без прослушивания. Далеко-далеко, в другой части вселенной, звонит телефон. Гудки тихие и неуверенные. — Какая сейчас погода, Смилла? Я пытаюсь вспомнить ночь и погоду. — Облака из кристалликов льда. — Это самое плохое. Короткие волны распространяются в соответствии с искривлением атмосферы. Когда идет снег и пасмурно, отражение может помешать сигналу. Телефон звонит монотонно, безжизненно. Я сдаюсь. Отчаяние — это чувство, которое проистекает из желудка. И тут трубку поднимают. — Да? Голос очень близко, совершенно отчетливый, но очень сонный. В Дании должно быть около пяти утра. Я хорошо представляю ее себе. Такой, какой она была на фотографиях в бумажнике Рауна. Седая, в шерстяном костюме. — Могу я поговорить с Рауном? Когда она кладет трубку, слышно, как поблизости плачет ребенок. Он, должно быть, спит в их спальне. Может быть, в кровати между ними. — Раун слушает. — Это я, — говорю я. — Поговорим в другой раз. Голос его очень хорошо слышен, поэтому отказ кажется таким определенным. Я не знаю, что случилось. К тому же я зашла слишком далеко, чтобы размышлять на эту тему. — Слишком поздно, — говорю я. — Я хочу поговорить о том, что происходит на крышах. В Сингапуре и в Кристиансхауне. Он не отвечает. Но трубку не вешает. Невозможно представить себе его в частной жизни. В чем он спит? Как он выглядит сейчас, в кровати, рядом со своим внуком? — Давайте представим себе, что сейчас вечер, — говорю я. — Мальчик сам возвращается домой из детского сада. Он единственный ребенок, за которым не приходят каждый день. Он идет так, как обычно ходят дети, неровно, подпрыгивая, разглядывая что-то под ногами. Обращая внимание только на то, что поблизости. Как ходят и ваши внуки, Раун. Я так отчетливо слышу его дыхание, как будто он находится рядом с нами в комнате. Механик снял один наушник с уха, чтобы одновременно следить за разговором и слушать, не идет ли кто-нибудь по коридору. — Поэтому он не замечает мужчину, пока тот не оказывается прямо рядом с ним. Тот ждал в машине. На стоянку не выходит ни одного окна. Там почти совсем темно. Середина декабря. Мужчина хватает его. Не за руку, а за одежду. За клапан непромокаемых штанишек, который не может оторваться и где не остается следов. Но он просчитался. Мальчик сразу же узнал его. Они вместе провели несколько недель. Но не потому он запомнил его. Он помнит его в один из последних дней. Тот день, когда он видел, как умер его отец. Может быть, он видел, как мужчина заставлял водолазов опять лезть в воду после того, как один из них погиб. В тот момент, когда они еще не поняли, в чем дело. Или, может быть, само переживание смерти соединилось в воспоминании мальчика с этим человеком. Во всяком случае, он видит перед собой не человека. Он видит угрозу. Так, как дети чувствуют угрозу. Всем своим существом. И сначала он замирает. Все дети замирают. — Это всего лишь предположения, — говорит Раун. Слышно теперь хуже. На мгновение я чуть не теряю связь. — И ребенок, который сейчас рядом с вами, — говорю я. — Он бы тоже замер. Вот тут человек и просчитался. Стоящий перед ним мальчик кажется таким маленьким. Он наклоняется к нему. Мальчик словно кукла. Мужчина хочет приподнять его и посадить на сиденье. На минуту он его выпускает. Это его ошибка. Он не предусмотрел энергии мальчика. Неожиданно тот бросается бежать. Земля покрыта плотно утоптанным снегом. Поэтому мужчина не может догнать его. У него, в отличие от мальчика, нет привычки бегать по снегу. Теперь они полны внимания, и тот, кто рядом со мной, и тот, кто находится далеко, на бесконечно огромном расстоянии. И дело не в том, что они слушают меня. Просто нас связывает страх, страх, испытываемый тем ребенком, который есть внутри у всех нас. — Мальчик бежит вдоль стены дома. Мужчина выбегает на дорогу и перерезает ему путь. Мальчик бежит вдоль пакгаузов. Мужчина преследует его, скользя, чуть не падая. Но уже взяв себя в руки. Ведь отсюда никуда не убежать. Мальчик оборачивается назад. Мужчина абсолютно спокоен. Мальчик снова оглядывается. Он перестал думать. Но внутри у него работает моторчик, он будет работать, пока не растратятся все силы. Именно этот моторчик мужчина и не предусмотрел. Неожиданно мальчик взбегает на леса. Мужчина — за ним. Мальчик знает, кто именно преследует его. Это сам страх. Он знает, что его ждет смерть. Это ощущение сильнее, чем страх высоты. Он добирается до крыши. И бежит по ней вперед. Мужчина останавливается. Может быть, он с самого начала этого и хотел, может быть, идея пришла ему в голову только сейчас, может быть, только сейчас он осознал свои собственные намерения. Понял, что есть возможность устранить угрозу. Избежать того, чтобы мальчик когда-либо рассказал, что он видел в пещере на леднике где-то в проливе Дэвиса. — Это всего лишь предположения. Он говорит шепотом. — Мужчина идет к мальчику. Видит, как он бежит вдоль края, чтобы найти место, где можно спуститься вниз. Дети не могут увидеть все сразу — мальчик, очевидно, не вполне понимает, где он находится, он видит лишь на несколько метров вперед. У края снега мужчина останавливается — он не хочет оставлять следы. Ему бы хотелось обойтись без этого. Связь пропадает. Механик поворачивает ручки. Связь восстанавливается. — Мужчина ждет. В этом ожидании таится огромная уверенность в себе. Как будто он знает, что одного его присутствия достаточно. Его силуэт на фоне неба. Как и в Сингапуре. Ведь это было там, Раун? Или он ее столкнул, потому что она была старше и лучше владела собой, чем мальчик, потому что он мог подойти к ней вплотную, потому что не было снега, на котором остались бы следы? Слышится такой отчетливый звук, что мне кажется, он исходит от механика. Но тот молчит. И снова звук, звук, выражающий боль, — это Раун. Я говорю с ним очень тихо. — Посмотрите на ребенка, Раун, на ребенка рядом с вами, это — ребенок на крыше, Тёрк преследует его, это его силуэт, он мог бы остановить мальчика, но он этого не делает, он гонит его вперед, как и тогда женщину на крыше. Кто она была? Что она сделала? Он исчезает и снова появляется где-то далеко. — Мне надо это знать! Ее фамилия была Раун! Механик закрывает мне рот рукой. Ладонь его холодна как лед. Я, должно быть, кричала. — …была… — Голос его пропадает. Я хватаю аппарат и трясу его. Механик оттаскивает меня от него. В этот момент снова появляется голос Рауна, отчетливый, ясный, без всяких эмоций: — Моя дочь. Он сбросил ее. Вы удовлетворены, фрекен Смилла? — Фотография, — говорю я. — Она фотографировала Тёрка? Она работала в полиции? Он ничего не отвечает. Одновременно его голос теряется в туннеле шума и совсем пропадает. Связь прервана. Механик выключает верхний свет. В свете аппаратуры на приборной доске его лицо кажется белым и напряженным. Он медленно снимает наушники и вешает их на место. Я вся в поту, как после забега. — Но ведь свидетельские показания ребенка не имели бы силы на суде? — Для присяжных это имело бы значение, — говорю я. Он не продолжает свою мысль, да это и не нужно. Мы думаем об одном и том же. В глазах Исайи могло быть нечто — понимание, несвойственное его возрасту, понимание вне всякого возраста, глубокое проникновение в мир взрослых. Тёрк увидел этот взгляд. Есть и иные обвинения кроме тех, что предъявляются в суде. — Что делать с дверью? Он кладет руку на стальную рамку и, осторожно согнув ее, приводит в прежнее положение.
Он провожает меня назад по наружной лестнице. В медицинской каюте он на минуту задерживается. Я отворачиваюсь от него. Телесная боль так незаметна и незначительна по сравнению с душевной. Он смотрит на свои руки, растопырив пальцы. — Когда мы закончим, — говорит он, — я его убью. Ничто не могло бы заставить меня провести ночь — даже такую короткую и безотрадную, как та, что ждет меня сейчас, — на больничной койке. Я снимаю постельное белье, вытаскиваю валики из кресел и ложусь прямо у двери. Если кто-нибудь захочет войти, он сначала должен будет отодвинуть меня. Никто не захотел войти. Сначала мне удается погрузиться на несколько часов в глубокий сон, потом слышится скрежетание корпуса и топот многих ног за дверью и на палубе. Еще мне кажется, что прогрохотал якорь, может быть, это «Кронос» стал на якорь у края льда. Я слишком устала, чтобы подниматься. Где-то поблизости, в темноте, находится Гела Альта. 2
Сон иногда бывает хуже, чем бессонница. Проспав эти два часа, я встаю в большем напряжении, чувствую себя более разбитой физически, чем если бы не ложилась вовсе. За окнами темно. Я составляю в уме список. Кого, спрашиваю я себя, я могла бы привлечь на свою сторону? Все эти размышления возникают не потому, что у меня появилась надежда. Скорее, это потому, что сознание не остановить. Пока ты жив, оно само по себе будет продолжать искать пути выживания. Как будто внутри тебя сидит другой человек, более наивный, но и более настойчивый, нежели ты сам. Я оставляю эти мысли. Списочный состав «Кроноса» можно разделить на тех, кто уже настроен против меня, и тех, кто будет против меня, когда дойдет до дела. Механик не в счет. О нем я пытаюсь не думать. Когда приносят завтрак, я лежу на койке. Кто-то нащупывает выключатель, но я прошу не включать свет. Поставив поднос у дверей, он выходит. Это был Морис. В темноте он не мог заметить, что стекло разбито. Я заставляю себя немного поесть. Кто-то садится снаружи у двери. Иногда мне слышно, как стул касается двери. Проходит какое-то время, и включаются вспомогательный двигатель и генераторы. Минут через десять что-то сгружают с юта. Мне не видно, что именно. Окна медицинской каюты выходят на левый борт. Начинается день. Кажется, что рассвет не несет с собой света, а сам по себе является некой субстанцией, которая, дымясь, проплывает мимо окон. Острова отсюда не видно. Но чувствуется присутствие льда. «Кронос» пришвартовался кормой. Кромка льда находится метрах в семидесяти пяти. Мне видно, что один из швартовочных тросов ведет к ледовому якорю, заведенному за груду смерзшихся льдин. К кромке льда причалила моторная лодка, ее разгружают. Нет никакого желания высматривать, кто там стоит или что выгружают. Потом, похоже, все уходят, оставив лодку пришвартованной к кромке. Я чувствую, что прошла весь путь до конца. Ни от одного человека нельзя требовать, чтобы он прошел больше, чем весь путь. Внутри тех валиков, которые служили мне подушкой, спрятан ключ Яккельсена. Еще там лежит синяя пластмассовая коробка. И тряпка, в которую завернут металлический предмет. Я ожидала, что он сразу же обнаружит пропажу, но он не пришел. Это револьвер. «Баллестер Молина Инунангитсок». Сделанный в Нууке по аргентинской лицензии. В нем очевидно несоответствие между назначением и дизайном. Удивительно, что зло может принимать такую простую форму. Существованию винтовок можно найти оправдание — они используются для охоты. Иногда в снежных просторах может для самообороны понадобиться крупнокалиберный револьвер с длинным стволом. Потому что и мускусный бык, и белый медведь могут обойти охотника и напасть сзади. Так быстро, что не останется времени на то, чтобы вскинуть винтовку. Но этому тупорылому оружию нет никакого оправдания. У патронов плоские свинцовые головки. Коробка заполнена доверху. Я вставляю их в барабан. В нем помещается шесть штук. Я устанавливаю барабан на место. Засунув палец в рот, я вызываю приступ кашля. Ударяю по тем осколкам, которые еще остались в дверце шкафчика. Они со звоном падают на пол. Дверь распахивается, и входит Морис. Опираясь о кровать, я двумя руками держу револьвер. — На колени, — говорю я. Он начинает двигаться по направлению ко мне. Я опускаю ствол к его ногам и нажимаю на спусковой крючок. Ничего не происходит. Я забыла снять с предохранителя. Он наносит удар снизу здоровой левой рукой. Удар приходится мне в грудь и отбрасывает меня к шкафу. Осколки разбитого стекла вонзаются мне в спину с характерной для порезов очень острыми предметами холодной болью. Я падаю на колени. Он бьет меня ногой в лицо, разбивает мне нос, и на минуту я теряю сознание. Когда я прихожу в себя, одна его нога находится у моей головы — он, наверное, стоит прямо надо мной. Из кармана для инструментов в рабочих брюках я вытаскиваю обмотанные пластырем скальпели. Немного подтянувшись вперед, я вонзаю скальпель в его лодыжку. С легким щелчком лопается ахиллесово сухожилие. Выдергивая скальпель, я вижу, что в глубине разреза желтеет кость. Я откатываюсь в сторону. Он пытается шагнуть за мной, но падает вперед. Только вскочив на ноги, я замечаю, что в руке я все еще сжимаю револьвер. Он стоит на одном колене и не торопясь нащупывает что-то под своей штормовкой. Я подхожу и ударяю его коротким стволом прямо по зубам. Он отлетает назад к шкафу. Я больше не решаюсь к нему приблизиться и выхожу из каюты. Ключ все еще вставлен в замок. Я запираю за собой дверь. Коридор пуст. Но за дверью кают-компании слышны какие-то звуки. Я приоткрываю дверь на сантиметр. Урс накрывает на стол. Я захожу внутрь. Он ставит на стол хлебницу. Он не сразу замечает меня. Я отвинчиваю крышку с термоса. Наливаю кофе в чашку, кладу сахар, размешиваю, пью. Кофе почти обжигающий, вкус жареных зерен в сочетании со вкусом сахара вызывает тошноту. — Сколько мы пробудем здесь, Урс? Он таращится на мое лицо. Своего носа я не чувствую. Чувствую только, как по нему разливается тепло. — Вы под арестом, Frä ulein Smilla. — Мне разрешили гулять. Он мне не верит. Он надеется, что я уйду. Никто не любит законченных неудачников. — Drei Tage[72]. Завтра еду надо доставить на берег. Тогда мы все будем работать im Schnee[73]. То есть тащить камень по настилу из шпал. Значит, он должен быть где-то близко от берега. — Кто на берегу? — Тёрк, Верлен, der neue Passagier. Mit Flaschen[74]. Сначала я его не понимаю. Он рисует руками в воздухе — кислородные баллоны. Я уже выхожу из дверей, когда он догоняет меня. Ситуация повторяется — мы когда-то уже так стояли. — Frä ulein Smilla. Он, который никогда не решался приблизиться ко мне, настойчиво берет меня за руку. — Sie mussen schlafen. Sie brauchen medizinische[75] помощь. Я выдергиваю руку. Мне не удалось его напугать. В результате я вызвала его сострадание.
На море существует правило, согласно которому двери запирают, только когда покидают помещение. Чтобы облегчить проведение спасательных операций в случае пожара. Лукас спит, не заперев дверь. Спит он крепко. Закрыв за собой дверь, я сажусь в ногах его кровати. Он открывает глаза. Сначала они затуманены сном, потом загораются от удивления. — Я временно сама себя выписала, — говорю я. Он пытается схватить меня. Он оказывается более проворным, чем можно было ожидать, если принимать во внимание то, что он лежал на спине и только что проснулся. Я вынимаю револьвер. Это его не останавливает. Я подвожу ствол к его лицу и снимаю с предохранителя. — Мне нечего терять, — говорю я. Он остывает. — Идите назад. Под арестом вы в безопасности. — Да, — говорю я. — Если Морис стоит под дверями, это действительно внушает спокойствие. Наденьте куртку. Мы идем на палубу. Он медлит. Потом тянется за своим пальто. — Тёрк прав. Вы больны. Может быть, он прав. Во всяком случае, от остального мира меня теперь отделяет панцирь бесчувственности. Оболочка, в которой умерли нервы. У раковины я промываю нос. Делать это неудобно, потому что в другой руке я должна держать оружие и все время наблюдать за Лукасом. Крови не так много, как я думала. Раны на лице всегда кажутся больше, чем они есть на самом деле. Он идет впереди. Когда мы проходим мимо лестницы, ведущей на верхнюю палубу, навстречу нам спускается Сонне. Я встаю вплотную к Лукасу. Сонне останавливается. Лукас делает движение рукой, чтобы он шел дальше. Тот медлит, но срабатывает морская выучка, годы, проведенные во флоте, и вся его внутренняя дисциплина. Он отходит в сторону. Мы выходим на палубу. Подходим к борту. Я встаю на расстоянии нескольких метров от него. Это значит, что нам надо говорить громко, чтобы было слышно друг друга. Но при этом ему сложнее дотянуться до меня. После всех этих дней в море остров мне кажется мрачно, болезненно прекрасным. Он такой узкий и высокий, что поднимается из замерзшего моря, словно башня. Только в нескольких местах проглядывают скалы, в основном же он покрыт льдом. Из чашеобразной вершины, словно из холодного полярного рога изобилия, через край по крутым склонам стекает лед. По направлению к «Кроносу» в море спускается коса — глетчер Баррен. Если бы мы смотрели на остров с другой стороны, мы бы наблюдали вертикальные скалистые стены со следами лавин и движения льда. Ветер дует со стороны острова, северный ветер — avangnaq. Он вызывает в памяти другое слово, и сначала есть только звуковая оболочка слова, как будто его произнес кто-то другой внутри меня. Pirhirhuq — снежная буря. Я качаю головой. Мы не в Туле, здесь другие погодные условия, мои измученные нервы рождают галлюцинации. — Куда вы пойдете потом? Он показывает на палубу, на открытое море. На моторную лодку рядом с краем льда. — Feel free[76], фрекен Смилла. Теперь, когда исчезла его вежливость, я понимаю, что у него ее никогда и не было. Это была вежливость Тёрка. И порядки на борту были установлены Тёрком. Лукас же был не более чем орудием. Он идет в противоположную от меня сторону. Он тоже неудачник. Ему тоже больше нечего терять. Я кладу тяжелый металлический предмет в карман. До этого в медицинской каюте я могла бы застрелить Мориса. Могла бы. Или, может быть, я сознательно не сняла револьвер с предохранителя. — Яккельсен, — говорю я вслед ему. — Верлен убил его, а Тёрк послал телеграмму. Он возвращается. Встает рядом со мной и смотрит на остров. Так он и стоит, не меняя выражения лица, пока я говорю. Во время нашего разговора силуэты нескольких больших птиц отрываются в вышине от крутого ледяного склона — странствующие альбатросы. Он их не замечает. Я рассказываю ему все с самого начала. Я не знаю, сколько это продолжается. Когда я заканчиваю, ветра уже нет. К тому же кажется, что изменилось освещение. При этом невозможно точно сказать, как именно. Иногда я поглядываю на дверь. Никого нет. Лукас курил сигарету за сигаретой. Как будто считал своим долгом каждый раз добросовестно прикуривать, затягиваться и выпускать дым. Он выпрямляется и улыбается мне. — Им надо было послушать меня, — говорит он. — Я им предложил сделать вам укол. Пятнадцать миллиграмм диазепама. Я сказал им, что иначе вы убежите. Тёрк стал возражать. Он снова улыбается. Теперь за улыбкой скрывается безумие. — Как будто он хотел, чтобы вы пришли к нему. Оставил резиновую лодку. Может быть, он хочет, чтобы вы сошли на берег. Он машет мне рукой. — Пора приниматься за работу, — говорит он. Я прислоняюсь к перилам. Где-то там, в низкой пелене тумана, где лед спускается к морю, сейчас находится Тёрк. Внизу подо мной виден белый венчик — окурки Лукаса. Они не качаются, не меняют положения по отношению друг к другу. Они лежат без всякого движения. Вода, на которой они плавают, все еще черна. Но она уже больше не блестит. Она покрыта матовой пленкой. Море вокруг «Кроноса» начинает замерзать. Небесный свод надо мной начинает поглощать облака. Вокруг ни ветерка. За последние полчаса температура упала по меньшей мере на десять градусов.
Похоже, что в моей каюте ничего не тронуто. Я достаю пару коротких резиновых сапог. Кладу в полиэтиленовый пакет свои камики. В зеркале я вижу, что мой нос не особенно вспух. Но выглядит он кривым, смещенным в одну сторону. Сейчас он готовится нырять. Я помню пар на фотографии. Температура воды, наверное, десять или двенадцать градусов. Он всего лишь человек. Это не так уж много. Я знаю это по собственному опыту. И все же человек всегда пытается бороться за жизнь. Я надеваю утепленные брюки. Два тонких свитера, пуховик. Из ящика достаю наручный компас, плоскую фляжку. Беру шерстяное одеяло. Наверное, я очень давно готовилась к этому моменту.
Все трое сидят, поэтому я их не заметила, пока не поднялась на палубу. Из резиновой лодки выпущен воздух, она превратилась в серый резиновый коврик с желтым рисунком, распластанный на юте. Женщина сидит на корточках. Она показывает мне нож. — Вот чем я выпустила из нее воздух, — говорит она. Она протягивает его назад прислонившемуся к шлюпбалке Хансену. Встав, она направляется ко мне. Я стою спиной к трапу. Сайденфаден нерешительно идет за ней. — Катя, — говорит он. Все они без верхней одежды. — Он хотел, чтобы ты сошла на берег, — говорит она. Сайденфаден кладет руку ей на плечо. Она оборачивается и ударяет его. Уголок его рта подергивается. Лицо его похоже на маску. — Я люблю его, — говорит она. Это ни к кому конкретно не обращено. Она подходит ближе. — Хансен обнаружил Мориса, — говорит она, как бы объясняя. И потом — без всякого перехода: — Ты хочешь его? Мне случалось и раньше сталкиваться с тем, как ревность и безумие, сливаясь, искажают действительность. — Нет, — говорю я. Я делаю шаг назад и упираюсь во что-то неподатливое. За мной стоит Урс. Он все еще в переднике. Поверх наброшена большая шуба. В руке — батон. Наверное, только что из печи, на холоде он окружен ореолом плотного пара. Женщина не обращает на Урса никакого внимания. Когда она протягивает ко мне руку, он прикладывает батон к ее горлу. Упав на резиновую лодку, она не пытается встать. Ожог на ее шее проявляется словно фотопленка, повторяя надрезы на батоне. — Что я должен делать? — спрашивает он. Я протягиваю ему револьвер механика: — Можешь дать мне немного времени? Он задумчиво смотрит на Хансена. — Leicht[77], — говорит он.
Бон все еще не убран. Как только я вижу лед, я понимаю, что пришла слишком рано. Он еще слишком прозрачный, чтобы по нему можно было идти. На палубе стоит стул. Я сажусь ждать. Кладу ноги на ящик с тросом. Здесь когда-то сидел Яккельсен. И Хансен. На судне все время натыкаешься на свои собственные следы. Как и в жизни. Идет снег. Большие снежинки — qanik, как снежинки над могилой Исайи. Лед еще такой теплый, что снежинки тают, касаясь его. Когда я вот так долго смотрю на снег, начинает казаться, что он не падает, а вырастает из моря и поднимается к небу, чтобы лечь на верхушку скалистой башни напротив меня. Сначала — шестиугольные, только что возникшие снежинки. Через 48 часов — разломанные, с расплывшимися контурами. На десятый день это будут зернистые кристаллы. Через два месяца снег уплотнится. Спустя два года он будет находиться в промежуточном состоянии между снегом и фирном. После трех лет — это neve. Через четыре года он превращается в большой блок ледникового кристалла. Более трех лет он не просуществует на Гела Альта. К тому времени глетчер столкнет его в море. Откуда он однажды сдвинется и поплывет, чтобы растаять, раствориться и быть принятым океаном. Откуда он снова в один прекрасный день поднимется в виде нового снега. Лед становится сероватым. Я ступаю на него. Он не слишком прочный. Нет более ничего прочного. Насколько это возможно, я стараюсь держаться в тени фальшборта. Скоро лед становится настолько тонким, что мне приходится отойти в сторону. Они и так не должны меня заметить. Начинает темнеть. Свет исчезает, так по-настоящему и не появившись. Последние десять метров мне приходится ползти на животе. Я кладу одеяло на лед и толчками продвигаюсь вперед. Моторная лодка привязана к кромке льда. Она пустая. До берега триста метров. Здесь образовалась своего рода лестница, где нижняя часть ледника несколько раз оттаивала и снова замерзала. Меня преследует запах земли. После всего этого проведенного в море времени начинает казаться, что остров пахнет словно сад. Я соскребаю слой снега. Сантиметров сорок. Под ним — остатки мхов, увядшая полярная ива. Когда они выбрались сюда, здесь лежал тонкий слой свежевыпавшего снега — их следы хорошо видны. У них были сани. Механик тащил одни, Тёрк с Верленом — другие. Они поднялись по склону, чтобы не оказаться под крутыми проходами, по которым лед сползает в море. Здесь глубина рыхлого снега полметра. Они по очереди протаптывали дорогу. Я переобуваюсь в камики. Смотрю под ноги, сосредоточившись только на том, чтобы идти. Как будто я снова ребенок. Мы куда-то направляемся, не помню куда, позади долгая дорога, может быть несколько sinik, я начинаю спотыкаться, я более уже не владею своими ногами, они идут сами по себе, с трудом, как будто каждый шаг — это неимоверно сложная задача. Где-то внутри растет желание сдаться, сесть и заснуть. Тут моя мать оказывается позади меня. Она все понимает, она уже какое-то время наблюдает за мной. Она, обычно такая молчаливая, говорит, она хлопает меня по голове — полугрубость, полуласка. Какой это ветер, Смилла? Это kanangnaq. Это не так, Смилла, ты спишь. Нет, не сплю, он слабый и влажный, наверное, вскрылся лед. Ты не должна так говорить со своей матерью, Смилла. Невежливости ты научилась от qallunaaq. Так мы и говорим, и я снова не сплю, я знаю, что нам надо идти вперед, я уже давно стала слишком тяжелой, чтобы она могла меня нести. Мне исполнилось тридцать семь. Пятьдесят лет назад для жителя Туле это была целая человеческая жизнь. Но я не стала взрослой. Я так и не привыкла идти в одиночестве. Где-то в глубине души я надеюсь, что кто-нибудь подойдет сзади и подтолкнет меня. Моя мать. Мориц. Какая-то сила извне. Я чуть не падаю. Я стою перед ледником. Здесь они делали передышку. Прикрепляли к ботинкам «кошки». Вблизи от ледника начинаешь понимать, почему он так называется. Ветер отшлифовал его поверхность, превратив ее в плотное, гладкое покрытие без неровностей, словно это белая керамическая глазурь. Прямо передо мной она кончается обрывом глубиной около пятидесяти метров — поверхность нарушена ледопадом. Образовалась система серых, белых и серо-синих лестниц. Издали кажется, что они правильной формы, если подойти поближе, то оказывается, что они образуют лабиринт. Неизвестно, как они нашли дорогу. И их нигде не видно. Поэтому я иду дальше. Следы видны хуже. Но все же их можно разглядеть. На горизонтальных ступеньках остался лежать снег, по которому видно, что они здесь были. В какой-то момент, когда я перестаю ориентироваться и начинаю ходить кругами, я замечаю на некотором расстоянии желтый след мочи. Начинаются галлюцинации, в голове возникают обрывки разговоров. Я что-то говорю Исайе. Он отвечает. Механик тоже с нами. — Смилла. Я прошла мимо него на расстоянии метра, не заметив. Это Тёрк. Он ждал меня. Он так нежно позвал меня. Как тогда по телефону, в последнюю ночь в моей квартире. Он один. Без саней и без багажа. Сидя здесь, он представляет собой живописное зрелище. Желтые сапоги. Красная куртка, отбрасывающая красные блики на лежащий вокруг него снег. Бирюзовая повязка на светлых волосах. — Я знал, что ты придешь. Но я не знал как. Я видел, как ты шла по воде. Как будто мы всю жизнь были друзьями, но вынуждены были скрывать это от окружающего мира. — По льду. — А до этого ты проходила через закрытые двери. — У меня был ключ. Он качает головой: — С людьми, у которых есть внутренние резервы, всегда происходят настоящие события. Это похоже на случайности. Но они возникают из необходимости. Катя и Ральф хотели остановить тебя еще в Копенгагене. Но я увидел в этом для нас дополнительные возможности. Ты укажешь нам на то, что мы упустили. Что упустили Винг и Лойен. Что всегда упускают. Он протягивает мне страховочные ремни. Я надеваю их и застегиваю спереди. — А «Северное сияние», — говорю я, — пожар на нем? — Лихт позвонил Кате, когда получил пленку. Он пытался вытянуть из нее деньги. Нам надо было что-то предпринять. В том, что тут оказалась замешана ты, была моя ошибка. Я предоставил это Морису и Верлену. А Верлен испытывает примитивную ненависть к женщинам. Он протягивает мне конец веревки. Я делаю узел-восьмерку. Он дает мне короткий ледоруб. Он идет впереди. В руках у него длинная, тонкая палка. С ее помощью он проверяет поверхность на предмет трещин. Отойдя на расстояние пятнадцати метров, он начинает говорить. Блестящие стены вокруг создают резкую и вместе с тем интимную акустику, как будто мы с ним вдвоем находимся в одной ванне. — Я, конечно же, прочитал то, что ты написала. Такая тяга ко льду наводит на размышления. Он вбивает ледоруб в снег, оборачивает вокруг него веревку и осторожно выбирает ее, пока я поднимаюсь к нему. Когда я оказываюсь рядом с ним, он начинает говорить снова: — Что бы сказали специалисты об этом глетчере? Мы оглядываемся по сторонам в надвигающейся тьме. На этот вопрос трудно ответить. — Специалисты не знают, что и сказать. Если бы он имел площадь в десять раз больше, он мог бы быть классифицирован как очень маленький ледяной купол. Если бы он находился ниже, они сказали бы, что это боту-глетчер. Если бы течение и ветер здесь были немного другими, то выветривание, эрозия за один месяц так бы его уменьшили, что специалисты сказали бы, что никакого глетчера вовсе нет, а есть лишь остров, на котором лежит немного снега. Его нельзя классифицировать. Я снова оказываюсь рядом с ним, он протягивает мне веревку, я остаюсь на месте, он поднимается. Обычно его движения быстры и методичны, но лед придает им некую неуверенность, как и бывает со всеми европейцами. Он походит на слепого, привыкшего к своей слепоте, прекрасно умеющего пользоваться палкой, но все же слепого. — Меня всегда занимало, насколько ограничены возможности науки что-либо объяснить. Возьмем, к примеру, мою собственную область — биологию, опирающуюся на зоологическую и ботаническую системы классификации, которые развалились. Как наука она более не имеет фундамента. Что ты думаешь о переменах? Он задает этот вопрос без всякого перехода. Я следую за ним, он вытягивает двойную веревку наверх. Мы связаны пуповиной, словно мать и ребенок. — Считается, что они вносят разнообразие, — говорю я. Он протягивает мне свой термос. Я делаю глоток. Горячий чай с лимоном. Он наклоняется. На снегу лежат несколько темных зерен — раскрошенных камней. — Четыре и шесть десятых на десять в девятой степени. Четыре и шесть десятых миллиарда лет. Тогда Солнечная система начала приобретать современный вид. Проблема геологической истории Земли состоит в том, что ее невозможно изучать. Не осталось никаких следов. Потому что с тех пор, со дней Творения, камни вроде этих преобразовывались несчетное число раз. То же самое можно сказать про лед вокруг нас, воздух, воду. Их происхождение нельзя больше проследить. На Земле нет веществ, которые сохранили бы свою первичную форму. Именно поэтому метеориты представляют интерес. Они попадают к нам извне, они не подвергались тем преобразованиям, которые Лавлок описал в своей теории о Гее. Они по своей природе уходят корнями ко времени образования Солнечной системы. Да и состоят они, как правило, из первых элементов Вселенной. Железа, никеля, силикатов. Ты читаешь художественную литературу? Я качаю головой. — Напрасно. Писатели раньше ученых видят, в каком направлении мы движемся. То, что мы находим в природе, уже более не является ответом на вопрос, что в ней имеется. Все определяется тем, что мы в состоянии понять. Как у Жюля Верна «В погоне за метеором» — о метеоре, который оказывается самой большой ценностью в мире. В мечтах Уэллса о других жизненных формах. У Пайпера в «Уллере». Жизнь на основе неорганических веществ, тела, созданные из силикатов. Мы выходим на плоское, отшлифованное ветром плато. Перед нами открывается ровный ряд трещин. Мы, должно быть, дошли до зоны абляция, того места, где нижние слои глетчера перемещаются к его поверхности. Здесь скалы разделяют ледяной поток. Я не заметила их снизу, потому что они из светлого камня. Они светятся в спускающейся тьме. Там, где от подножия начинается спуск к трещине, снег притоптан. Здесь они делали передышку. Отсюда он вернулся за мной. Я спрашиваю себя, откуда он знал, что я приду. Мы садимся. Лед образует большое, чашеобразное углубление, словно это открытая раковина моллюска. Он отвинчивает крышку термоса и продолжает говорить, как будто разговор и не прерывался, может быть, он действительно не прерывался внутри него, может быть, он никогда и не прекращается. — Она красива, эта теория о Гее. Важно, чтобы теории были красивы. Но она, конечно, неверна. Лавлок показывает, что Земной шар и его экосистема представляют собой сложную машину. Гея по сути не отличается от робота. Он разделяет ошибку всей остальной биологической науки. У него нет объяснения начала всего. Объяснения первой формы жизни, ее возникновения, того, что предшествует цианобактериям. Жизнь на основе неорганических веществ могла бы быть первой такой ступенькой. Я делаю осторожные движения, чтобы сохранить тепло и проверить его внимание. — Лойен приехал сюда в тридцатые годы. С немецкой экспедицией. Они хотели подготовить аэродром на узком равнинном участке в северной части острова. Они привезли с собой эскимосов из Туле. Им не удалось уговорить поехать с ними западных эскимосов из-за дурной славы острова. Лойен начал поиски так же, как и Кнуд Расмуссен, когда тот искал свои метеориты. Он всерьез отнесся к эскимосским легендам. И нашел его. В шестьдесят шестом году он вернулся сюда. Он, и Винг, и Андреас Лихт. Но они знали слишком мало, чтобы решить технические проблемы. Они сделали стационарный спуск к камню. После этого экспедиция была прервана. В девяносто первом они вернулись. Тогда мы уже были с ними. Но тогда нам тоже пришлось вернуться домой. Его лицо почти исчезает в темноте, лишь голос остается неизменным. Я пытаюсь понять, зачем он все это говорит. Почему он по-прежнему лжет, даже сейчас, в ситуации, которую он полностью контролирует. — А те куски, которые были отпилены? Его молчание служит объяснением. Понять это — в какой-то степени облегчение. Ему по-прежнему непонятно, как много я знаю и одна ли я. Будет ли кто-нибудь ждать его на острове, или в море, или дома, если он когда-нибудь вернется домой. По-прежнему еще некоторое время, пока я не все сказала, я буду ему нужна. Одновременно с этим становится ясно и другое. То, что имеет решающее значение, но не очень понятно. Раз он ждет, раз ему приходится ждать, то это значит, что механик не рассказал ему всего, не рассказал ему, что я одна. — Мы исследовали их. Не нашли ничего необычного. Они состояли из смеси железа, никеля, оливина, магния и силикатов. Я знаю, что это должно быть правдой. — Значит, он не живой? В темноте я вижу его улыбку. — Наблюдается тепло. Совершенно точно, что он выделяет тепло. Иначе его унесло бы льдом. Лед вокруг него тает с той интенсивностью, которая соответствует движению глетчера. — Радиоактивность? — Мы измеряли, но никакой радиоактивности не обнаружили. — А погибшие? — спрашиваю я. — Рентгеновские снимки? Светлые полосы во внутренних органах? Он на какое-то время замолкает. — Ты не могла бы рассказать мне, откуда тебе это известно? — спрашивает он. Я ничего не отвечаю. — Я так и знал, — говорит он. — Тебе и мне, нам с тобой могло бы быть хорошо вместе. Когда я позвонил тебе в ту ночь — это было импульсивное решение, я всегда полагаюсь на свою интуицию, я знал, что ты возьмешь трубку, я чувствовал тебя, я мог бы сказать: «Приходи к нам». Ты бы пришла? — Нет, — говорю я.
Туннель начинается у подножия утеса. Это простая конструкция. Там, где лед почти отрывался от скалы, они пробили себе динамитом путь вниз, а затем установили большие бетонные кольца. Они круто спускаются вниз, ступеньки в них сделаны из дерева. Сначала это меня удивляет, потом я вспоминаю, как трудно класть бетон на подушку вечной мерзлоты. В десяти метрах ниже горит огонь. Дым идет из примыкающего к лестнице помещения, которое представляет собой бетонную полость, укрепленную балками. На полу разложено несколько мешков, на которых в нефтяной бочке горят разбитые ящики. У самой задней стены на широком столе стоят приборы и оборудование. Хроматографы, микроскопы, большие кристаллизационные стаканы, термокамера, прибор, который никогда мне раньше не встречался, в виде большого пластмассового ящика с передней стенкой из стекла. Под столом стоит генератор и несколько деревянных ящиков — таких же, что горят в бочке. Все подвержено моде, даже лабораторное оборудование, — приборы напоминают мне семидесятые годы. Все покрыто серым слоем льда. Это, должно быть, было оставлено в шестьдесят шестом или в девяносто первом. Что оставим после себя мы? Тёрк кладет руку на пластмассовый ящик. — Электрофорез. Для выделения и анализа протеинов. Лойен взял его с собой в шестьдесят шестом. Когда они еще думали, что имеют дело с формой органической жизни. Он кивает, это почти незаметное движение. Все, что он делает, пронизано сознанием того, что даже этих маленьких знаков и движений достаточно, чтобы окружающий мир стоял перед ним навытяжку. У высокого верстака Верлен возится с микроскопом. Он настраивает его для меня — окуляр на десять, объектив на двадцать. Придвигает ближе газовую лампу. — Мы оттаиваем генератор. Сначала я ничего не вижу, потом настраиваю резкость и вижу кокосовый орех. — Cyclops Marinus, — говорит Тёрк, — рачок, живущий в соленой воде. Его самого или его родственников можно увидеть повсюду, во всех морях Земного шара. Нити — это органы равновесия. Мы дали ему немного соляной кислоты, поэтому он лежит смирно. Обрати внимание на заднюю часть его тела. Что ты видишь? Я ничего не вижу. Он берет микроскоп, перемещает под ним чашку Петри и снова настраивает его. — Систему пищеварения, — говорю я, — кишки. — Это не кишки. Это червь. Теперь я вижу. Кишка и желудок — это темное поле на брюхе животного, а длинный светлый канал идет вдоль спины. — Принадлежит к классу Phylum Nematoda, круглых червей, подклассу Dracunculoidea. Имя его Dracunculus Borealis, полярный червь. Известный и описываемый по крайней мере со Средневековья. Крупный паразит. Обнаружен у китов, тюленей и дельфинов, он из кишок может перемещаться в мышечную ткань. Там самец и самка спариваются, самец умирает, самка переходит в подкожный слой, где создается узел размером с детский кулачок. Когда взрослый червь чувствует, что в воде вокруг него есть Cyclops, он делает в коже отверстие и выпускает миллионы маленьких живых личинок в море, где их поглощает рачок, являющийся так называемым промежуточным хозяином — местом, где черви проходят стадию развития продолжительностью в несколько недель. Когда рачок вместе с морской водой попадает в ротовую полость или в кишки крупного морского млекопитающего, он погибает, а личинка проникает, делая отверстие, в этого нового, более крупного хозяина, где она размножается, проникает под кожу и завершает свой цикл. Очевидно, ни рачок, ни млекопитающие не испытывают неудобства от этого. Один из самых хорошо приспособленных паразитов в мире. Ты задумывалась над тем, что мешает паразитам распространяться? Верлен подкладывает дров и подтягивает генератор к огню. Тепло почти обжигает мой бок, другой же остается холодным. Нет никакой вентиляции, дым удушающий, они, должно быть, очень спешат. — Их всегда останавливают сдерживающие факторы. Взять, например, гвинейского червя — ближайшего родственника полярного червя. Ему необходимы тепло и стоячая вода. Он живет в тех местах, где люди зависят от поверхностной воды. — Как, например, на границе Бирмы, Лаоса и Таиланда, — говорю я, — например в Чианграе. Оба они замирают. У Тёрка это лишь едва заметное напряжение. — Да, — говорит он, — например, там, в относительно редкие периоды засухи. Как только сильные дожди порождают потоки воды, как только становится холоднее, условия его существования осложняются. Так и должно быть. Паразиты развивались вместе со своими хозяевами. Гвинейский червь, должно быть, развивался параллельно с человеком, может быть, на протяжении миллиона лет. Они подходят друг другу. Сто сорок миллионов человек ежегодно подвергаются опасности заражения гвинейским червем. В год наблюдается десять миллионов случаев заболевания. Большинство зараженных переживают полный мук период болезни продолжительностью в несколько месяцев, но потом червь выходит. Даже в Чианграе только у половины процента взрослого населения возникли необратимые изменения. Это основное правило замечательного равновесия природы: хороший паразит не убивает своего хозяина. Он делает движение рукой, и я непроизвольно отступаю в сторону. Он смотрит в микроскоп. — Представь себе их положение — Лойена, Винга, Лихта — в шестьдесят шестом. Все подготовлено; конечно, есть проблемы, но это технические проблемы, поддающиеся решению. Они определили местонахождение камня, сделали спуск и эти помещения, им везет с погодой, и у них есть время. Они убедились, что не могут доставить в Данию камень целиком, но решили, что могут привезти его часть. Есть фотографии их пилы, гениального изобретения — ленты на валках из закаленной стали. Лойен был против того, чтобы резать камень автогеном. Но как раз когда эскимосы устанавливают пилу, они погибают. Через двое суток после первого погружения в воду. Они умирают почти одновременно, в течение часа. Все меняется. Проект лопнул, времени неожиданно не остается. Им приходится сделать вид, что произошел несчастный случай. Разумеется, импровизацией занимается Лойен. У него хватает присутствия духа, чтобы не уничтожить трупы целиком. У него уже тогда возникает подозрение, что тут что-то не так. Уже в Нууке он делает вскрытие. И что он находит? — Время, — говорит Верлен. Тёрк не обращает на него внимания. — Он находит полярного червя. Широко распространенного паразита. Большого — тридцать —сорок сантиметров, но совершенно обычного. Круглого червя, цикл жизни которого описан и понятен. И только одно не так, как должно быть, — он не живет в людях. В китах, в тюленях, дельфинах, иногда в моржах. Но не в людях. Каждый день, особенно среди эскимосов, случается, что в пищу идет инфицированное мясо. Но как только личинка проникает в человеческое тело, она опознается нашей иммунной системой как инородное тело и после этого уничтожается лимфоцитами. К нашей иммунной системе червь никогда не мог приспособиться. Он навсегда должен был ограничиться определенными видами крупных млекопитающих, вместе с которыми он, должно быть, развивался. Это часть равновесия природы. Представь себе удивление Лойена, когда он все же находит его в трупах. К тому же еще по чистой случайности. Потому что ему в последний момент приходится для опознания сделать рентгеновские снимки. Я не хочу его слушать, не хочу с ним говорить, но я не могу ничего с собой поделать. К тому же это позволяет потянуть время. — Почему так получилось? — На этот вопрос Лойен не мог ответить. Поэтому он сосредоточился на другом. Каким образом? Он привез домой пробы воды, взятые у камня. Кроме талой воды, туда попадает также вода из озера, расположенного выше, на самой поверхности. Вокруг озера гнездятся птицы. Водится также немного форели. И несколько видов ракообразных. Вода поблизости от камня кишит ими. Все те пробы, которые Лойен привез домой, были заражены. И он привил личинки живым людям. — Прекрасно, — говорю я, — как ему это удалось? Я спрашиваю, но уже знаю ответ. Он сделал это в Гренландии. В Дании вероятность того, что это раскроется, была бы слишком велика. Тёрк видит, что я поняла. — Он потратил на это двадцать пять лет. Но он узнал, что личинка приспособилась к иммунной системе человека. Уже во рту она проникает через поры слизистой оболочки и создает своего рода кожу, построенную из собственных белков человека. В таком закамуфлированном виде система защиты организма путает ее с самим телом и не реагирует на нее. И тут она начинает расти. Не так медленно, как в тюленях и китах, а от часа к часу, от минуты к минуте. Само размножение и передвижение по телу, которое у водных млекопитающих занимает более полугода, здесь продолжается несколько дней. Но это не самое главное. Верлен берет его за руку. Тёрк смотрит на него. Тот убирает руку. — Мне надо ее кое о чем спросить, — говорит Тёрк. Может быть, он сам в это верит, но на самом деле он не поэтому говорит. Он говорит, чтобы добиться внимания и признания. За самоуверенностью и внешней объективностью скрываются огромная гордость и торжество от того, что он обнаружил. Мы с Верленом покрываемся потом и начинаем кашлять. Но он невозмутим и доволен, в свете мерцающих отблесков пламени лицо его полно спокойствия. Может быть, потому что вокруг нас лед, а может быть, потому что мы так близки к концу, он вдруг становится совершенно прозрачным для меня. И как всегда бывает, когда взрослый человек становится ясен, в нем проступает ребенок. Я вспоминаю письмо Виктора Халкенвада, и неожиданно из моего рта сами собой вылетают слова: — Это как с велосипедом, который так и не купили в детстве. Замечание это настолько абсурдно, что сначала он не понимает его. Потом, когда до него доходит смысл, он пошатывается, словно я его ударила, на мгновение он чуть не теряет самообладание, потом берет себя в руки. — Можно было подумать, что мы столкнулись с новым видом. Но это не так. Это полярный червь. Но с ним произошли какие-то важные изменения. Он приспособился к человеческой иммунной системе. Но не приспособился к нашему равновесию. Беременная самка проникает не под кожу после спаривания. Она проникает во внутренние органы. Сердце или печень. И там выпускает свои личинки. Личинки, которые жили в матери, которые не успели узнать человеческое тело, которые не покрыты протеиновой оболочкой. Тело реагирует на них воспалением. Это вызывает шок организма — каждый раз выбрасывается десять миллионов личинок. В жизненно важные органы. Человек мгновенно умирает, нет никакого спасения. Что бы там ни случилось с полярным червем, он нарушил равновесие. Он убивает своего хозяина. По отношению к людям возник плохой паразит. Но прекрасный убийца. Верлен говорит что-то на непонятном мне языке, Тёрк снова не обращает на него внимания. — Верлен прививал личинку всем тем рыбам, которых мы могли раздобыть: морским рыбам, пресноводным рыбам, большим, маленьким, при разных температурах. Он приспосабливается ко всем. Он может жить где угодно. Ты понимаешь, что это значит? — Что он неприхотлив. — Это значит, что отсутствует самый важный фактор, ограничивающий его распространение, — ограничение числа хозяев, которые могут его переносить. Он может жить где угодно. — Почему же он до сих пор не распространился по всей Земле? Он поднимает несколько мотков веревки, поднимает сумку, пристраивает на лоб фонарик. К нему вернулось чувство времени. — На этот вопрос есть два ответа. Один — это то, что его развитие в морских млекопитающих — процесс медленный. Хотя отсюда — и возможно, из других мест на этом острове — он вымывается в море, он все же должен ждать проплывающих мимо тюленей, которые перенесут его дальше. Если он все еще будет жив, когда они будут проплывать мимо. Кроме того, здесь пока что бывало слишком мало людей. Только когда приходят люди, все ускоряется. Он уходит. Я знаю, что мне надо идти за ним. На минуту я задерживаюсь. Меня охватывает чувство бессилия. Верлен смотрит на меня. — В то время, когда мы работали на Кум На, — говорит он, — появились двенадцать полицейских. Единственным, кто остался в живых, была женщина. Женщины — это вредители. — Раун, — говорю я, — Натали Раун? Он кивает: — Она приехала под видом английской медсестры. Говорила по-английски и по-тайски без акцента. В тот момент мы вели войну с Лаосом, Таиландом и, наконец, Бирмой, с помощью США. Было много раненых. Зажав чашку Петри между большим и указательным пальцами, он протягивает ее мне. Тело инстинктивно стремится отодвинуться от червя. Наверное, только упрямство заставляет меня оставаться неподвижной. — Проникая через кожу, она выворачивает свою матку и выпускает белую жидкость с миллионами личинок. Я видел это. От отвращения его лицо передергивается. — Самки, они гораздо больше самцов. Они пробуравливают тело. Мы следили за этим при помощи ультразвукового сканера. Лойен привил их двум гренландцам, у которых был СПИД. Он привез их в Данию и положил в одну из тех частных клиник, где интересуются только номером твоего банковского счета. Нам было видно все — как она дошла до сердца и потом вывернулась наружу. Вывернула матку, и все. Все самки таковы, и человеческие, особенно человеческие. Он осторожно ставит чашку Петри назад. — Я вижу, — говорю я, — что вы прекрасный знаток женщин, Верлен. Чем вы еще занимались в Чианграе? Он не остается равнодушным к комплименту. Именно поэтому отвечает мне. — Я был лаборантом. Мы делали героин. В тот момент, когда появилась женщина, они послали против нас армию, все три страны. Тогда Кум На выступил по телевидению и сказал: «В прошлом году мы отправили на рынок девятьсот тонн, в этом году мы отправим тысячу триста, в следующем году две тысячи тонн, пока вы не отзовете солдат домой». В тот день, когда он это сказал, война закончилась. Я уже выхожу из помещения, когда он произносит: — Только человек — паразит. Червь — это орудие богов. Как и мак. 3
Тёрк ждет меня. Спустившись примерно на двадцать метров, мы оказываемся на дне. Туннель идет теперь горизонтально, укрепленный грубыми четырехгранными бетонными подпорками. В конце его чернеет пустота. Тёрк проходит вперед, и мы останавливаемся перед бездной. У наших ног обрыв глубиной метров двадцать пять, до самого дна пещеры. Оттуда к нам вертикально поднимаются сверкающие всеми цветами радуги сталагмиты. Он отламывает кусочек льда и бросает перед собой. Бездна превращается в круги, а затем в туман и исчезает. Мы смотрим на потолок пещеры, отраженный в воде, находящейся прямо у наших ног, — такой спокойной, какой она никогда бы не могла быть на поверхности земли. Даже сейчас, когда по ней расходятся круги, глаза не хотят верить, что это вода. Она медленно успокаивается, восстанавливая потревоженный подземный мир. Модели роста сосулек и кристаллов описаны Хатакеямой и Немото в «Geophysical Magazine», № 28 за 1958 год, Найтом в 1980-м в «Journal of Crystal Growth», № 49. И Маэно и Такахаши в «Studies on Icicles», в «Low Temperature Science», том A, № 43 за 1984 год. Но пока что наиболее плодотворная модель предложена мной и Лассе Макконеном из Лаборатории структурных технологий в Эспоо в Финляндии. Она показывает, что ледяная сосулька растет как труба, как полость из льда, содержащая внутри воду в жидкой фазе. Что массу сосульки можно просто выразить следующим образом: 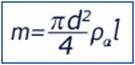
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|