
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Авва Антоний, 25 13 страница
— Насколько мне известно, вас уже пытались разделить, но это не удалось. Елизавета Николаевна — прекрасная христианка. Это вы Сандра, плохая мессианка.
— Ну, знаете! — я в негодовании подскочила на сиденье и стукнулась головой о потолок кабины. У меня сразу же начала расти шишка, а гнев — затихать. Я только потерла рукой ушибленное место, а потом махнула ею:
— Да ну вас, мать Евдокия! Давайте оставим наши идейные разногласия до конца путешествия. Вот сдадим вашей игуменье макароны, тогда можно будет и поспорить.
— Вот и хорошо, вот и договорились, — пропела мать Евдокия со своей лукавой улыбочкой. — Принести вам холодный камешек на шишку положить?
— Нет, только не это! Еще и мозги морозить!..
— В таком случае, не хотите ли поспать?
— Нет. Но и вести машину еще пока не могу. Я так посижу, отдохну.
— Тогда, может быть, вы мне расскажете о своем детстве, как обещали?
— Вам это и вправду интересно?
— Очень!
— Ну, слушайте.
Я рассказала обо всем, что помнила сама и что знала из рассказов бабушки: о нашей семье, о моем детстве и о школе социальной реабилитации, о моих взаимоотношениях с матерью и бабушкой.
К моему удивлению, мать Евдокия, слушавшая меня с искренним участием, вдруг так же искренне пожалела мою мать.
— Мне тоже ее жаль, — сказала я, — и всегда было жаль. Но она вела совершенно пустое и никчемное существование, за что и поплатилась.
— Как вы, однако, жестоко се судите, — сказала она. — Это тем более странно, что вы коллеги.
— Коллеги?! Мать Евдокия, вы чего-то не поняли, моя мать была актрисой и снималась в кино, а я работаю для Реальности. Это не одно и то же.
— Разве? Конечно, кино и театр не могли настолько увлечь и поглотить душу человека, как это делает Реальность, но они часто стремились к тому же. Ваша бедная мама и потом, когда уже не было ни кино, ни театра, пыталась жить в придуманном ею самой мире, не смея обернуться лицом к настоящей жизни. Ее связь с жизнью была настолько непрочной, что при первом же испытании порвалась. Она не привыкла к боли и страданиям, поэтому у нее не хватило ни терпения, ни мужества жить дальше. Она, бедная, совершила тягчайший грех против Бога — швырнула Ему под ноги Его дар — жизнь.
— Вы говорите об эвтаназии?
— Да. Это страшное преступление.
— Но эвтаназия разрешена законом!
— Законы тоже бывают преступными и уж тем более грешными. Вы бы могли решиться на эвтаназию в случае серьезной болезни?
— Пока жива моя бабушка, пожалуй, нет: для нее это было бы слишком большим ударом. Но если бы я была одна, тогда конечно. Ради чего терпеть, если можно не терпеть?
— А вы знаете, почему современному человеку не дорога жизнь? Потому что он думает, что она принадлежит только ему самому.
— Моя бабушка говорит, что ее жизнь принадлежит не ей, а Богу. Вы тоже так думаете о своей жизни?
— Да, конечно.
— И вы тоже не решились бы ее прервать, если бы она стала невыносимой?
— Думаю, что мысль о самоубийстве мне просто не пришла бы в голову.
— Почему?
— Вот вы же говорите, что не лишили бы себя жизни, боясь причинить боль своей бабушке. Почему?
— Бабушка так любит меня, что живет отчасти и моей жизнью, и умереть — значило бы убить в ней эту часть жизни.
— Значит, это было бы преступлением по отношению к ней?
— Несомненно.
— Так вот. Бог любит вас, свое создание, еще больше чем вас любит бабушка. Убивая себя, вы не только причините Ему боль, но и себя лишите навечно возможности общения с Ним.
— Почему? Ведь если верить вашим, простите, легендам, речь идет не о смертном теле, подвергшемся эвтаназии, а о бессмертной душе?
— Душа самоубийцы отрывает себя от Бога, отходит к дьяволу и погружается в состояние вечно длящейся смерти. Как Бог есть вечная жизнь, так и дьявол есть вечная смерть. Самоубийца не желает терпеть временных страданий и думает, что ставит точку. На самом деле из этой точки начинается прямая линия, уходящая в дурную бесконечность, и состоит она из бесконечного числа повторений той самой точки, на которой бедный слабый человек хотел остановиться. Самоубийца умирает вечно.
— Уау, как страшно! И, простите, как хорошо, что я во все это не верю. Скажите мне только одно: что я могла сделать, чтобы моя мать не решилась на эвтаназию?
— Не знаю. Что вы чувствовали, находясь рядом с ней во время ее болезни?
— По большей части раздражение. Меня все в ней раздражало: и то, что она наряжалась лежа в постели, и то, как она томно и таинственно молчала, чтобы посетители по звучанию ее голоса не догадались о насморке, и как не хотела принимать горькие лекарства: «Если бы ты знала, Сандра, как это невкусно! ». Но я сидела возле нее и ухаживала за ней, я считала, что выполняю свой долг.
— Вот поэтому вы ее и не удержали. Слабого человека можно удержать только сильной любовью, а не исполнением долга.
— Я не умею любить никого, кроме бабушки. Я пыталась — не получается.
— А знаете, почему вы так искренне и глубоко любите вашу бабушку?
— Почему?
— Потому что только через нее сохраняется ваша связь с Богом. Ваша бессмертная души это чувствует и заставляет вас изо всех сил держаться за эту любовь.
— Нет уж, не ставьте, пожалуйста, никого между мной и бабушкой, даже вашего Бога! Бабушка — это моя святыня, говоря вашим языком. И если говорить о чудесах, в которые я в общем, не верю, возвращение в мою жизнь бабушки - единственное чудо, которое со мной случилось. А теперь давайте поедем дальше, в машине становится все холоднее.
— Едем. И спасибо вам за исповедь.
—?
— Исповедью мы называем искренний рассказ о себе, о состоянии своей души. Правда, настоящая исповедь всегда связана с покаянием...
— Но это уже высший пилотаж! Я так высоко не летаю, — засмеялась я. — Поехали, мать Евдокия!
Мы все ехали и ехали, кружа по горным дорогам и объезжая каменные завалы. Через несколько часов мать Евдокия сказала:
— Теперь уже близко. Скоро мы увидим возле дороги живое дерево. Там мы оставим машины и пойдем пешком.
— Уау! Еще и пешком! А откуда тут взяться живому дереву?
До сих пор мы не видели даже травинки. По-моему, вся растительность здесь выжжена этим ледяным холодом, ведь мы, наверно, на страшной высоте находимся.
— Именно так. Но дуб, о котором я говорю, каким-то образом выжил. Вот он скоро появится, и вы сами убедитесь. От дуба идти уже недалеко, всего только обойти по тропинке высокую скалу и пройти ущельем в долину, а там и живет наша общинка.
Вскоре мы увидели возле дороги небольшое корявое деревцо, серое и голое.
— Это здесь, — сказала мать Евдокия. — Можете парковаться.
— А вы говорили, что дерево живое...
—Живое, живое! Посмотрите вон туда — видите зеленую ветку? О, даже желуди на ней есть!
— Угу. Три штуки, — я, в самом деле, увидела среди мертвых ветвей ветку с мелкими узорчатыми листьями пыльно-зеленого листа. — В бабушкином лесу совсем не такие дубы. Они во много раз выше, и листья у них почти с мою ладонь.
— Это каменный дуб, особая горная порода.
Мать Евдокия долго возилась в салоне джипа, что-то укладывая в свой и мой рюкзаки, потом вынесла их и сказала:
— Это мы понесем с собой, а за макаронами мужчины придут потом. Ну вот, теперь можно идти. С Богом!
Ее походный рюкзак был вдвое больше моего и на вид неподъемен, но я не стала настаивать на справедливом распределении груза: было так холодно, что не хотелось спорить. Оставив джип и мобишку под дубом, надев шубы и повязав сверху бабушкины оренбургские платки, мы вскинули на спины рюкзаки и двинулись в путь. По узкой, едва различимой тропке мы обогнули скалу, возле которой рос дуб, и оказались в узком и мрачном ущелье, все дно которого занимало сухое русло горной реки. По этому руслу нам и пришлось топать почти до темноты. Мать Евдокия шла впереди, согнувшись вдвое под тяжестью своего рюкзака, но я за нею едва поспевала, спотыкаясь и скользя на обледенелых валунах. В конце концов, ущелье вывело нас в долину, где мы увидели маленькую, явно обитаемую, деревеньку из нескольких приземистых каменных домов и церковки, тоже каменной. Окошки церкви светились, а над крышами домов пушистыми витыми столбиками поднимались уютные серебряные дымки. Дошли!
Мать Евдокия — конечно же! - сразу повела меня в церковь. Мы открыли небольшую, но тяжелую дверь, изнутри завешенную одеялом, и вошли в полутемное помещение, освещенное только светом нескольких свечей. Я огляделась. Людей было немного — человек двадцать. Некоторые пели на возвышении справа, остальные стояли лицом к деревянной стене-перегородке, не доходившей до потолка, с множеством икон и какими-то игрушечными воротцами посередине. Они стояли, молча и неподвижно, одновременно крестясь и кланяясь, когда пение сменялось монотонными восклицаниями человека в долгополой черной одежде. Дети постарше стояли вместе с взрослыми, асамые маленькие сидели на деревянной скамье под стеной. Я не увидела ни одного человека в зеленом пластиковом костюме: женщины были в длинных юбках и в больших платках, мужчины — в брюках, в допотопных, не пластиковых, сапогах, и неуклюжих куртках. Дети одеты были в разноцветные теплые костюмчики, которые в старину назывались «лыжными», у девочек на головах были платочки, у мальчишек — вязаные шапочки. Я углядела свободное место на одной из скамеек и села рядом с детьми, а мать Евдокия прошла к хору и тоже стала петь. Однако и выносливы же эти монашки!
Ноги и спина гудели, служба оказалась скучной и непонятной, а в церкви было холодно, поэтому я запахнула поуютней бабушкину шубу, сунула руки в рукава и задремала. Очнулась я, когда мать Евдокия тронула меня за плечо:
— Идемте, Сандра,
Служба кончилась, люди выходили из церкви. Рядом с матерью Евдокией стояла крупная женщина с очень живыми черными глазами, в темной одежде и большом сером платке. Когда мы вышли из церкви, она откинула с головы платок, и под ним неожиданно оказалась огненно-красная пиратская бандана.
—Знакомьтесь: это мать Ольга, а это — Кассандра Саккос.
— Батюшки, внучка Елизаветы Николаевны?! Здравствуйте, дорогая! Очень, очень рада вас видеть. Как здоровье бабушки? Как ее нога?
— Спасибо, неплохо.
— Скажите ей, пусть будет теперь очень осторожна с левой ногой, чтобы второй тазобедренный сустав не повредить. Я вам дам для нее особую мазь из воска, оливкового масла и сосновой смолы; делайте ей повязки, и все очень быстро заживет. Ну, пошли в общинный дом, сейчас будем ужинать.
Мать Ольга мне понравилась: она даже вспомнила, какую именно ногу повредила бабушка. Ну и шустрая же вы старушка, Елизавета Николаевна, весь православный мир вас знает! Нас усадили за длинный стол в столовой «общинного дома» — самого большого дома этой маленькой деревни. Здесь собрались все ее жители: женщины, молодые и старые, подростки, дети разного возраста и несколько мужчин. Двое из них были в длинных черных одеждах, рясах, — совсем молодой, румяный и черноволосый, глазами — вылитая мать Ольга, отец Антоний и молодой человек постарше, дьякон отец Виталий, как мне шепнула мать Евдокия. В большом камине горел целый ствол дерева, и было очень тепло.
Перед едой все хором спели молитву, потом сели и чинно стали есть какую-то кашу, пресную и не особенно вкусную, почти без соли, но зато горячую. Я окончательно согрелась и ожила. После каши пили травяной чай и ели маленькие кусочки белого хлеба с вареньем из черной смородины. Бабушкиным — я его сразу узнала по вкусу.
После ужина все опять пропели молитву, потом скамейки перенесли поближе к камину, и все расселись на них, а две девочки принялись бесшумно и ловко убирать со стола посуду.
— Давайте споем что-нибудь вместе с нашими гостьями.
Опять запели хором какие-то молитвы, длинные и усыпляющие. Неожиданно мою дремоту разогнал негромкий и чистый звук флейты. Это заиграл отец Виталий.
— Что это он играет, не знаете? — спросила я шепотом мать Евдокию.
— Это очень древний композитор Генри Телеманн. Кстати, ваш соотечественник, англичанин. А пьеса называется «Замужняя красавица». По-моему, он играет ее в честь своей жены. Вон она сидит у камина, в сером платье.
Я поглядела в ту сторону. Юная женщина в сером платье сидела, спокойно сложив руки на коленях и задумчиво глядя на флейтиста большими серыми глазами. Мелодия была плавной, чистой и немного печальной. Я подумала, что в нашем рыцарском замке она имела бы успех. Я закрыла глаза и попробовала представить себе свою Реальность, лица Эрика, Ланса, Энеи, но они так и не выплыли из моей памяти. Мне стало грустно, что я их так легко позабыла. Прощайте, милые дамы и рыцари, и простите, что мне теперь совершенно не до вас...
Потом замужняя красавица в сером платье взяла гитару, и они с отцом Виталием сыграли вместе несколько старинных пьес — изысканных и мелодичных.
— Когда-то Татьяна с Виталием были бродячими музыкантами. Они ездили по городам всей Европы и играли на улицах, — тихонько рассказывала мать Евдокия. — Так они помогали матери Ольге собирать деньги на строительство православной церкви в Барселоне, а когда собрали и построили, к власти как раз пришел Мессия. Церковь сожгли, а им пришлось бежать сюда.
— Они тоже отказались от принятия персонального кода?
— Здесь нет ни одного человека с печатью Антихриста. Татьяна, спойте для нас какую-нибудь из своих песен!
Татьяна кивнула и сказала:
— Я спою, если дети мне помогут. Какую песню споем, дети?
— Про лошадок, тетя Танечка, про лошадок! - закричали дети. Она немного подстроила гитару и запела негромким чистым голосом, а дети ей тихонько и слажено вторили. Они пели:
Вдоль заката проходили лошади
И губами трогали закат.
Были лошади людьми заброшены
Не за прегрешения - за так.
Без работы спины стали гладкими,
Позабыли про седло и кнут.
Только нет теперь уж их «лошадками»
Дети никогда не назовут,
И не выйдут ласковые женщины
Хлебом-солью встретить у ворот...
Тяжко им, неназванным, не встреченным,
И не в радость им солнцеворот.
Иногда они изойдут над кручами,
Где шуршит из-под копыт руда,
И стоят, и, спрятавшись за тучами,
Издали глядят на города,
На мертвые пустые города...
Когда кончили играть и петь, началась общая беседа. Мать Евдокию расспрашивали о том, что творится в мире, а она отвечала. Смысл их разговоров, как и следовало ожидать, сводился к тому, что люди живут все хуже, а конец света все ближе. Жаль, конечно, было этих людей, которые мучаются сами и мучают своих детей, веря нелепым пророчествам и прячась в горах от настоящей жизни, но, видя их спокойные и какие-то просветленные лица, я понимала, что они счастливы в своем безумии и что никто, конечно, не в силах разубедить этих симпатичных фанатиков. Пригревшись, я снова начала клевать носом. Бесконечная горная дорога поплыла у меня перед глазами, а вдоль нее стояли мертвые каменные дубы...
— А вы совсем спите... Устали? Я очнулась и подняла голову. Надо мной склонилась Татьяна.
— Вам пора на отдых.
— Да, хорошо бы... Скажите мне только, а каким образом в горах уцелел тот единственный дуб, от которого начинается тропа в вашу деревню?
— Это Мамврийский дуб, так его наши дети прозвали. Они верят, что пока хотя бы одна ветка этого дуба остается зеленой, мир еще живет. Они носят ведрами воду из нашего источника и с молитвой поливают его.
«И дети у них сумашедшенькие... » — я откровенно зевнула.
— Вам спать пора, — улыбнулась Татьяна. — Мать Ольга, гостья наша устала. Куда ее проводить?
— Проводи наверх. Уложи ее вместе с младшими, там теплее. Спокойной вам ночи, Кассандра!
Татьяна взяла со стола свечу и повела меня на второй этаж дома. По дороге я попросила ее повторить мне слова песенки про лошадей, я решила запомнить ее для бабушки. Татьяна остановилась на площадке лестницы и вполголоса спела мне свою песню от начала до конца, а потом сказала:
— Запомнили? Спойте ее Елизавете Николаевне от меня в подарок. А я, когда теперь стану ее петь, буду говорить, что песня посвящается Елизавете Саккос.
Мне было приятно это слышать, я поблагодарила красавицу.
Татьяна открыла передо мной низкую дверь, и мы вошли в комнату, где стояли рядком несколько кроватей - оттуда доносилось мирное посапывание спящих ребятишек. Тут же оказалась свободная кровать, на которую меня Татьяна и уложила. Я тотчас провалилась в глубокий сладкий сон.
— Тетя, тетя! Вставайте, часы скоро кончатся!
Я высунула голову из-под теплого одеяла. Девочка лет пяти-шести стояла рядом и тревожно глядела на меня.
— Ты хочешь сказать, что уже поздно и пора вставать?
— Ну да. Часы скоро кончатся.
— Часы, детка, не могут «кончиться» — они могут только остановиться.
— Нет, тетя, часы скоро кончатся, и начнется литургия. Идемте скорей в церковь! Ах, вот оно что! Бедные дети...
— А ты не знаешь, где мать Евдокия?
— Знаю. Она поет на клиросе. А вы разве в церковь не пойдете?
— Нет, детка, не пойду.
— Вы заболели?
«Увы, больные тут все, кроме меня», — подумала я, но вслух сказала:
— Да, девочка, у меня ужасно болит голова. Шла бы ты помолиться!
— Я пойду и скажу матери Ольге, что вы заболели. Она вам даст малинового варенья. Бабушка Лиза прислала нам банку малинового варенья, и теперь, когда кто заболеет — будет есть малину!
— А здоровым не дадут?
— Нет. Бабушка Лиза уже старенькая, она не может собрать для нас много малины. А еще у нее нога болит. Она сломала тазобедренный сустав. Но она уже выздоравливает, потому что все наши дети за нее молятся.
— Ты замечательно разбираешься в медицине. Ты, наверно, врачом хочешь стать, когда вырастешь?
— Я подумаю. Я еще не решила, Она постояла, подумала, а потом добавила грустно:
— А варенья даже больным не хватает, так мать Ольга говорит.
— В следующий раз, когда я к вам приеду, я привезу тебе целую банку малинового варенья.
— Вот хорошо! Тогда его всем больным хватит, даже взрослым. Мама недавно кашляла, а варенья не было... Ладно, вы еще поспите, а я пойду в церковь и помолюсь за вас. Вас как зовут?
— Кассандра.
— Какое трудное у вас имя. Но я запомню: меня зовут Александра, а вас — Кассандра. А кто ваша святая?
— Знаешь что, Александра? Ты беги поскорей в церковь и помолись за меня хорошенько, а то часы вот-вот кончатся.
Девочка кивнула и вышла за дверь, потом я услышала, как по лестнице быстро протопали вниз маленькие ножки. Я снова укрылась одеялом и спала дальше без помех до тех пор, пока за мной не явилась мать Евдокия.
После завтрака, состоявшего из той же каши и чая, но уже без хлеба с вареньем, мы с матерью Евдокией простились с хозяевами и пустились в обратный путь к Мамврийскому дубу. Нас провожали отец Антоний и отец Виталий — оба в косматых меховых куртках поверх черных ряс. Мать Евдокия выдала им по две коробки макарон из нашего груза, они пожелали нам какого-то «ангела в дорогу», вскинули на плечи коробки и ушли за скалу. А мы поехали дальше.
Горы вскоре стали ниже, снег на вершинах исчез, а потом дорога пошла вниз, и стало теплеть. Мы сняли свои шубы, тяжелые теплые сапоги, платки и уложили их в салоне джипа. Среди скал стали попадаться зеленые группки деревьев и кустов.
— Горы скоро кончатся. Мы уже на территории Франции.
— Бывшей Франции?
— Конечно. В этом мире все теперь бывшее, кроме христианства.
— Ну-ну... А до монастыря еще далеко?
— Далеко. Но, может быть, завтра к вечерне доберемся...
— И вы меня опять потащите в церковь? А без этого никак нельзя?
- Можно. Я вас представлю матушке игуменье, а потом отведу в келью и уложу спать.
— А душ?! — жалобно простонала я.
— Найдется и душ.
— Слава…! Я чуть не сказала «Слава Мессу», но не хотелось огорчать мою попутчицу, а сказать на ее манер «Слава Богу! » было бы притворством. Так моя «слава» и повисла в воздухе, а мать Евдокия сделала вид, что ничего не заметила.
— Мы вот-вот спустимся с гор на атлантическое побережье, на так называемую Французскую косу. Во время Катастрофы восточный край Франции почему-то вздыбился, и образовалась длинная и узкая полоса суши, и вот по ней нам предстоит самый опасный участок пути — через болота и зыбучие пески. Опасность будет угрожать нам и снизу, и сверху: здесь часто летают патрульные вертолеты. Я знаю тут все дороги и особо опасные места, поэтому пересяду в мобиль и поеду впереди, а вы держитесь за мной как можно ближе и старайтесь в точности повторять движения моего мобиля. И давайте мы будем сообщаться сигналами: если я даю один гудок — это значит «опасность с воздуха», ставьте машину на край дороги, но ни в коем случае с неё не съезжайте: хорошая с виду дорога может оказаться подмытой. Два гудка — «ехать медленно и осторожно», три гудка — «стоять на месте, не двигаться», а четыре гудка — «все в порядке, едем дальше». Если что-то не в порядке у вас — вы даете один длинный гудок. А сейчас мы должны замаскировать наши машины. Остановитесь-ка возле вон тех кустов!
Мы отцепили мобиль от джипа. Мать Евдокия вытащила из своего рюкзачка моток тонкого шнура и начала плести из него что-то вроде сетки сначала на крыше мобишки, а потом и джипа. Мне она велела ломать большие ветки кустарника и подтаскивать их к машинам. Работа эта отняла у нас много времени, но зато эффект был потрясающим! Я не поленилась и забралась на придорожную скалу, чтобы поглядеть сверху на нашу работу: на дороге вместо машин стояли два лохматых зеленых куста. Пользуясь остановкой, мы заодно пообедали, а потом двинулись дальше — мать Евдокия впереди на своей крохе, а я позади.
Кончились горы, и теперь мы ехали по заболоченному берегу Атлантики, где вместо дьяволоха рос обыкновенный тростник. Это было бы утешительным зрелищем, если бы среди серо-желтых песков и буро-зеленых камышовых зарослей не виднелись остатки поглощенных болотами и песками французских городов и деревень. Торчащие из камышей верхушки соборов и высотных домов были усеяны птицами. Больше всего там было чаек.
Два раза над нами пролетали вертолеты, но каждый раз мать Евдокия замечала их еще издали, подавала сигнал тревоги, и мы замирали на краю дороги как два куста — большой и поменьше. Оба раза вертолеты, не задерживаясь, пролетали дальше.
Дорога представляла собой извилистые, будто обгрызенные с боков остатки когда-то широкой автострады — на некоторых участках джип едва на ней умещался; я поняла, что пройдет еще немного времени — и песок и вода окончательно съедят дорогу. А если бы ветры занесли сюда семена дьяволоха, от нее бы уже давно ничего не осталось.
В одном месте я все же угодила в ловушку, причем по своей собственной вине. Мать Евдокия вильнула в сторону, объезжая небольшую горку песка, а я, понадеявшись на тяжесть и мощь джипа, рванула напрямик — и завязла передними колесами в песке. Мое счастье, что прежде чем выскочить из кабины и начать вытаскивать машину, я догадалась погудеть матери Евдокии. Увидев, что я попала в беду, она дала один гудок — «стоять и не двигаться» — а потом стала задом подъезжать к месту моей аварии. Поскольку джип так и не мог сдвинуться с места, я решила, что она сигналит мне, чтобы я сама не двигалась и осталась в кабине. И очень правильно сделала! Оказывается, это была неширокая, но, по-видимому, глубокая трещина в дорожном покрытии, занесенная зыбучим песком. Мать Евдокия объехала меня, подцепила джип тросом, и ее мобишка вытянул передние колеса своего «большого брата» обратно на асфальт. Я объехала коварную трещину, поблагодарила в раскрытое окно мать Евдокию, и мы поехали дальше.
Ехали мы так медленно и осторожно, как только могли. Иногда мать Евдокия останавливалась, выходила на дорогу и буквально ощупывала се ногами; убедившись в ее надежности, она снова садилась в мобиль и двигалась вперед, а я — за ней.
Когда чуть стемнело, она дала знак остановиться на плоской вершине довольно высокой скалы возле каких-то развалин.
— Дальше мы сегодня ехать не сможем, — сказала она. — Остановимся здесь.
— Почему? Дорогу еще видно.
- Дело не в этом. Просто не имеет смысла рисковать: уже начался прилив, а тут высокое место. Мы заночуем на этой скале, а утром, как только рассветет и начнется отлив, двинемся дальше.
Поставив машины рядом, мы вышли из них и уселись на краю площадки лицом к океану. Мать Евдокия разулась. Мы дышали свежим прохладным воздухом, немного пахнущим рыбой и водорослями, и отдыхали после напряженной езды.
—- Кто-то тут мечтал о душе, — сказала мать Евдокия. — Хотите искупаться перед ужином?
— Где искупаться, в океане?!
— По-моему, теперь только в океане и можно купаться. Вы что, никогда не купались в открытой воде?
— Нет... Но сейчас неплохо было бы как следует вымыться.
— Так за чем же дело стало? Тут есть каменная терраса, на которую можно спуститься и стоя па ней поплескаться в воде. Я всегда тут купаюсь, когда проезжаю по этой дороге.
— Можно попробовать...
— Вообще-то, я здесь купалась еще до Катастрофы, — задумчиво сказала мать Евдокия, подставив океанскому ветру босые ступни и шевеля пальцами. — Это место называлось тогда Этрета. Когда я только приехала в монастырь из Америки, даже не была еще послушницей, я иногда ездила на прогулки с паломниками. Я тогда боялась, что когда стану монахиней, мне уже не придется больше путешествовать, и я не увижу Франции. Бухта Этрета считалась красивейшим местечком побережья. Эта скала была тогда очень высокой и нависала над бухтой, а за нею прятался от ветра чудный маленький городок. Вот эти камни — развалины часовни, к ней поднималась дорога из городка, который ушел под воду. А какая красивая была бухта! Ее окружали скалы, с обеих сторон уходившие прямо в воду, и в них были естественные ворота, через которые во время отлива можно было пройти пешком по берегу, а во время прилива — проплыть на лодке. В каменной стене, окружавшей бухту, были пещеры, и мы с паломниками, конечно, забирались в них и бродили по ним со свечами и фонариками. В больших пещерах внизу жили летучие мыши, а в маленьких пещерках на террасе гнездились коршуны; эта терраса тогда находилась страшно высоко над берегом.
Помню, я смотрела снизу на этот карниз, с которого срывались и с криками кружились над нами огромные коршуны, и спрашивала: «А можно туда как-нибудь забраться? Оттуда должен быть замечательный вид на бухту и на океан». Мне отвечали, что это невозможно: скала отвесная, а спуститься сверху по веревке коршуны не дадут — заклюют. Землетрясения развалили скалу над террасой, и получился вполне удобный спуск. Возьмите полотенце, мыло и пойдемте вниз. Да снимите же ваш костюм — тут нас никто не увидит! Я тоже сниму свой подрясник.
Она скинула подрясник и остались в длинной белой рубахе. Вместо апостольника она туго обвязала голову белым платком, причем проделала это так быстро и ловко, что мне не удалось подглядеть, какие у нее волосы. Я разделась и осталась в трусах и маечке.
Мы спустились вниз по камням и оказались на залитой водой каменной площадке. У самой скалы мне было по колено, и тут я остановилась, а мать Евдокия зашла подальше, по самые плечи и нырнула с головой под воду. Я еще не успела за нее испугаться, как она снова показалась над водой и поплыла, как плавают люди в Реальности — загребая обеими руками и поднимая ногами фонтаны брызг. Я видела, что это доставляет ей удовольствие. Мне тоже захотелось испытать, что это такое — купаться в океане, и я осторожно пошла за нею на глубину. Сначала было страшновато. Я зашла в воду по пояс и остановилась: теперь волны, набегая одна за другой, захлестывали меня почти до плеч — и это оказалось очень здорово! Я попробовала воду на вкус — она была страшно соленой. Набежала волна повыше других и намочила мне лицо и волосы, и это тоже было приятно.
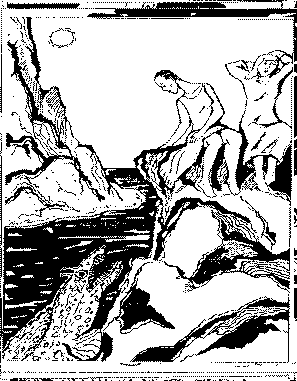 А мать Евдокия так и скользила в воде передо мной, то в одну сторону, то в другую, как большая белая рыба с широким хвостом. И как это ей не мешала ее рубаха? Я оттолкнулась от дна и, подражая ей, беспорядочно забила руками по воде. Плыть у меня не получалось, но на поверхности я каким-то образом держалась. Я барахталась, визжа от удовольствия, иногда уходя с головой под воду, и стоило мне разок не нащупать ногами каменного дна террасы, как я запаниковала и вернулась поближе к скале. Тут мне пришло в голову вымыть волосы. Это была сложнейшая процедура, которой бабушка обучила меня, когда мои волосы стали отрастать. Я взяла кусок мыла, оставленный вместе с полотенцами на камне над самой террасой, хорошо намылила волосы, а потом опустила голову в воду, чтобы смыть пену. Я покрутила головой в воде, чтобы лучше прополоскать волосы, и тут мне захотелось открыть глаза и поглядеть — а что там под водой? Я так и сделала. И увидела прямо перед собой темную нору, из которой на меня злобно и холодно глядели два выпуклых круглых глаза, а под ними ритмично приоткрывалась щель длинного рта с неровными острыми зубами. Я выбросила голову из воды и заорала:
А мать Евдокия так и скользила в воде передо мной, то в одну сторону, то в другую, как большая белая рыба с широким хвостом. И как это ей не мешала ее рубаха? Я оттолкнулась от дна и, подражая ей, беспорядочно забила руками по воде. Плыть у меня не получалось, но на поверхности я каким-то образом держалась. Я барахталась, визжа от удовольствия, иногда уходя с головой под воду, и стоило мне разок не нащупать ногами каменного дна террасы, как я запаниковала и вернулась поближе к скале. Тут мне пришло в голову вымыть волосы. Это была сложнейшая процедура, которой бабушка обучила меня, когда мои волосы стали отрастать. Я взяла кусок мыла, оставленный вместе с полотенцами на камне над самой террасой, хорошо намылила волосы, а потом опустила голову в воду, чтобы смыть пену. Я покрутила головой в воде, чтобы лучше прополоскать волосы, и тут мне захотелось открыть глаза и поглядеть — а что там под водой? Я так и сделала. И увидела прямо перед собой темную нору, из которой на меня злобно и холодно глядели два выпуклых круглых глаза, а под ними ритмично приоткрывалась щель длинного рта с неровными острыми зубами. Я выбросила голову из воды и заорала:
— Мать Евдокия, назад! Здесь в пещере чудовище! Выбирайтесь скорей! — крича это, я уже карабкалась на скалу. Примостившись на камне возле наших полотенец, я нагнулась и поглядела вниз. Чудище выплыло на свет и оказалось огромной пятнистой рыбой-змеей с оттопыренным вверх спинным плавником. Она извивалась перед своей пещерой, недоумевая, куда вдруг исчезла добыча. А мать Евдокия еще только плыла к скале. Что делать, чтобы отвлечь мерзкую рыбину? Я завернула в камень полотенце и бросила его вниз. Чудовище резко бросилось к нему, ухватило зубами, дернуло, а потом отпустило — не заинтересовалось. А мать Евдокия еще только встала на дно и медленно, осторожно шла к скале.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|