
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Кляксы. Долгожданное лето
Кляксы
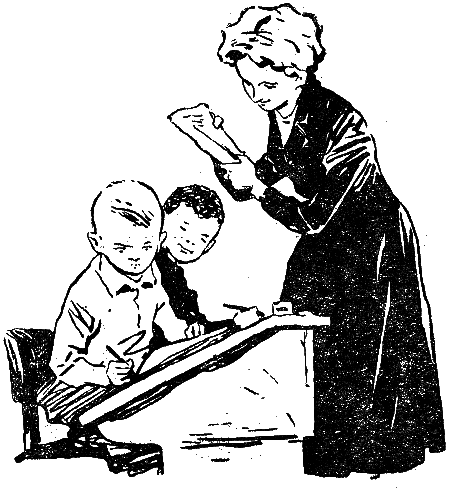
Год – это очень много дней; и месяцев тоже много – целых двенадцать.
Но как бы длинен год ни был, он все же прошел, и Вадик Чудненко стал школьником.
Лишь самые первые дни он позволял бабушке провожать себя до школы, а потом уж ходил самостоятельно. Ведь учился‑ то он во вторую смену – к чему тут провожатые?
На нем был форменный ученический костюм, ремень с пряжкой и, главное, фуражка, из‑ под которой он глядел с молодецкой гордостью: посмотрите‑ ка, школьник идет!
Вадик имел портфель новее Жениного, круглый расписной пенал, букварь в блестящей целлофановой обертке и огромную коробку карандашей – тридцати шести цветов.
Если теперь бабушка звала «Дети! », он считал, что это относилось к Галинке да к Верочке Рузиной. Когда же кто‑ нибудь невзначай называл его «ребенком», Вадик обижался и хмурился. Зато обращение «Эй, пионер! », которое иногда приходилось слышать на улице, было приятно, хотя оно пока и не отвечало истине. В школе его в первые дни называли не Вадиком, а по фамилии – Чудненко, и это тоже звучало ново, удивительно и почетно.
Учительница, Нина Матвеевна, молодая, приветливая, нравилась Вадику. У нее были улыбчивые ясные глаза и мягкий голос. Она посадила Вадика с Валей Гребневым, круглым, полным, как бочонок, мальчиком, у которого пухлые румяные щеки были похожи на булочки.
На первых уроках Вадик сгорал от нетерпения; он жаждал настоящего ученья, рвался считать до ста, а вместо этого Нина Матвеевна, улыбаясь, велела рисовать крючки и елочки, показывала одну – две буквы за весь день.
Вадик рисовал старательно, отвечать на вопросы вызывался первым, палочки для счета презирал – папа научил его быстро складывать в уме.
Валя Гребнев, наоборот, не тянул руку и не спешил считать. Нередко он вытаскивал из сумки сладкий калач или поджаристый пончик и принимался его аппетитно уплетать.
– Чем ты занят, Гребнев? – спрашивала Нина Матвеевна.
– Пончик ем.
– Почему ты это делаешь? – с легким укором говорила она.
– Потому что пончик вкусный. С повидлом он.
– На уроке нельзя.
– А мне мама велела в школе скушать, – оправдывался Валя, продолжая набивать рот.
В самом деле, не бросать ведь пончик, если он такой вкусный!
Нина Матвеевна терпеливо объясняла, как надо вести себя в школе. Ребятам казалось, что она не умела сердиться. А в других классах, говорили, учительницы попадались строгие‑ престрогие. Известно – уж кому как повезет…
Самыми интересными были уроки свободного рисования. Даже обычно медлительный Валя Гребнев оживлялся. Его отец работал шофером, знал машины всех марок – и грузовые, и легковые; Валя рисовал исключительно машины, рисовал уверенно, по памяти, вызывая уважение Вадика. Втайне Вадик досадовал, что автомобили у него выходили хуже гребневских, но зато он с успехом изображал суда: парусные корабли, многотрубные пароходы, подводные лодки.
С первыми отметками Вадик стремглав летел домой.
– Четверка!.. Пятерка!.. – объявлял он, ступив через порог.
Потом, уколотый насмешливым взглядом Жени, перестал хвастать. На вопрос мамы или бабушки с притворной неохотой отвечал:
– Пять по чтению… И по рисованию тоже.
Настоящее учение началось с того дня, когда учительница велела достать ручки и тетрадки в косую линейку.
Писать чернилами!.. Это было новое, незнакомое и потому особенно привлекательное для всех дело. Первоклассники почувствовали себя заправскими учениками.
Вадик взял новенькую тетрадку, отвернул обложку, ласково погладил первую страницу. Прямые и косые голубоватые линейки радовали глаз.
Внезапно на верхней строчке, раньше палочек и крючков, появилось большое жирное пятно. Оно расползалось вширь, как живое.
Так появилась первая клякса. Прежде Вадик слышал о кляксах от Жени Рузиной, а с этого дня они – безобразные, лохматые, словно пауки, – стали непременными гостями в его собственных тетрадях…
И все первоклассники, ходившие раньше чистенькими, сразу переменились. Кляксы появлялись у них не только в тетрадках, но и на пальцах, на брюках и воротничках, а у иных – на щеках и носах. Санитары находили чернильные пятна даже в ушах. Валя Гребнев один раз умудрился посадить огромное, как пятак, круглое пятно на свой стриженый затылок.
Светлые улыбки исчезли с лица Нины Матвеевны: она огорчалась не меньше своих ребят.
О кляксах шли разговоры в школе и дома. Их снимали промокашками, слизывали языками, терли жесткими резинками. Родители оттирали пятна на ребячьих, руках мылом, губками, мочалками, но неумолимые чернила вновь и вновь творили большие и малые каверзы.
Тетя Таня Рузина рассказала Вадиковой маме, что неподалеку, через две автобусных остановки от дома открылась музыкальная школа.
Мамы долго советовались, разузнавали, а через неделю Вадик и Женя, после несложного испытания, были записаны учениками еще одной школы – музыкальной. Их приняли в подготовительный класс.
Сначала Вадику школа понравилась. На дом ничего не задавали. Вадик любил ездить на автобусе – две остановки туда и две обратно. Входишь в школьный коридор, и со всех сторон на тебя несутся звуки пианино, баянов, скрипок. Весело и смешно!
В классе (он и не класс вовсе, а большой зал с рядами стульев, с огромным роялем) преподавательница Серафима Ефимовна, пожилая женщина в удивительном сине‑ зеленом платье длиной, почти до пят, пела песни, играла на рояле или в такт музыке велела прихлопывать в ладошки. С первого дня ребята за глаза стали величать ее Фимой Фимовной. Она была строгой, любила порядок, на шалунов бросала сердитые взгляды или грозила им пальцем.
Занимались здесь два раза в неделю по часу, разучивали хором смешные песенки, похожие то на считалки, то на обзывалки.
…Скок, скок, поскок.
Молодой дроздок.
По водичку пошел,
Молодичку нашел.
Молодиченька, невеличенька,
Сама с вершок,
Голова с горшок.
Такие песенки Вадик с успехом использовал во дворе, когда надо было подразнить девочек. Ни одна из них не хотела быть с вершок, а голову иметь с горшок!
С большим удовольствием, с азартом распевал Вадик песенку про то, как жили у бабуси два веселых гуся, но лучше всех была, пожалуй, вот эта:
Эй, ду‑ ду, ду‑ ду, ду‑ ду,
Потерял пастух дуду!..
Вадик дудел изо всей мочи, не замечая, что Серафима Ефимовна недовольно морщилась.
Когда же началось изучение музыкальной грамоты, дела пошли хуже. Оказалось, что ноты изображаются на пяти линейках и что ноты бывают самой различной высоты и продолжительности. Из разных нот складывается мелодия.
Ой, беда: с нотами и мелодиями Вадик сразу оказался не в ладах. Он завидовал Жене, которую тетя Аня научила играть на пианино гаммы. Женя умела без ошибки угадать любую ноту. А Вадик подходил к пианино, когда ему хотелось устроить в квартире «гром» – ударить по клавишам всеми пальцами сразу и придавить ногой педаль, чтобы звуки получались сильными и раскатистыми. Женя, конечно, пыталась навязать ему свою помощь, захватить себе роль учительницы, но Вадик давал ей отпор.
В хоре Вадик пел громче всех, на улице мог кричать – хоть уши зажимай, а когда Серафима Ефимовна вызывала пропеть «соло» (значит, одному), он словно проглатывал язык. Если все‑ таки выжимал из себя звук; преподавательница хмурилась, заставляла повторять, иной раз даже раздраженно прикрикивала на него.
Вот Серафима Ефимовна, беря на рояле ноту, велит:
– Пой.
Вадик, грустно глядя в угол, собирается с духом и уныло, тихо тянет.
– Не так, выше надо.
Он опять затягивает – теперь тоненьким голоском.
– О, нет! Слушай внимательней: ниже надо.
Окончательно потерявшийся Вадик пытается наугад брать «ниже» и «выше». Результат один и тот же…
– Ах, что же с тобой прикажешь делать? – сердится Серафима Ефимовна. – Никакого слуха, решительно никакого!
Он молчит, глотает обиду, понимая, что преподавательница – старая женщина, нервная, придирчивая; возрази – еще хуже сделаешь.
И дался ей этот слух! Разве не обидно, когда при всех говорят, что тебе будто бы «слон на ухо наступил»… Злая неправда. Если потребуется, он, Вадик, может по звуку различить – «Победа» идет за углом, или «ЗИМ», или, скажем, просто «Москвич». Валька Гребнев научил.
Тем временем Серафима Ефимовна начинает спрашивать знаки музыкальной грамоты.
– Что означает бемоль?
– Бемоль означает… – бодро говорит Вадик, обрадовавшись, что «соло» кончилось. Но тут он запинается и с тоской устремляет взгляд все в тот же угол.
– Ну, ну?
– …означает повышение…
Он слышит за спиной взволнованный шепот Жени Рузиной: «Понижение!.. »
– Ах, да, понижение звука, – поправляется он.
– Так. На сколько? – спрашивает преподавательница.
Вадик напряженно вслушивается в шепот Жени.
– На… полтонны! – обрадованно выпаливает он.
Общий смех прокатывается по залу. Даже строгая Серафима Ефимовна улыбается, потом устало и безнадежно машет рукой.
– На полтона, – поправляет она. – Слышал звон, да не знаешь, где он.
Смущенный, красный, как из бани, Вадик горестно думает: «Неужели Фима Фимовна права?.. В самом деле – неважный у меня слух: вон как подвел! »
Ему перестали нравиться и Серафима Ефимовна и зал с большим концертным роялем. Не радовали и поездки на автобусе.
В те несчастливые дни, когда надо было идти на музыкальные занятия, у Вадика с утра начинались разные неприятности со здоровьем: кололо в боку, кружилась голова, ныли зубы. Иногда же нотная тетрадь невзначай заваливалась под диван или за этажерку, и бабушке приходилось разыскивать ее часами.
Откровенно говоря, Вадик не мог найти ни смысла, ни пользы в занятиях музыкой. Восторгов Жени он не разделял и был не в силах понять их. Гораздо больше его интересовали вещи практические, например, пылесос, если отец брался чинить его, или настоящая морская звезда, которую можно было получить на кухне у бабушки, когда она чистила однобокую, одноглазую рыбу – камбалу.
На уроках чтения и устного счета Вадик чувствовал себя героем, зато письмо приносило огорчение.
Коварные мухи лезли в чернильницу, будто там был мед. Неизвестно, откуда и как попадали туда волосинки, ниточки, обрывки бумаги. И перья подводили. Возьмешь новенькое, сияющее на солнышке перышко – оно, задирает и режет бумагу; вставишь старое, «расписанное» – оно дает толстую черту да еще норовит спустить жирную каплю… Что тут будешь делать?
Правда, неприятности преследовали не одного Вадика Чудненко. Например, у соседа, Вали Гребнева, – та же самая история, только он этим не огорчался. Его всерьез огорчали лишь домашние задания: «Опять уроков назадавали, вздохнуть некогда! » …Насадит клякс, напишет вкривь и вкось – помалкивает себе, как ни в чем не бывало. Или достанет волчок и начинает пускать его тайком под партой. А то вытащит альбом с марками, толкнет Вадика под локоть: посмотри, мол. У Вадика от толчка помарка. Он сердито дает соседу кулаком в бок, но от этого в тетрадке не становится чище.
Грязь на страницах возникала по всяким причинам: от гребневских масляных пирожков, от недомытых рук, от капель пота, а главное – от неосторожности.
– Как дела, друзья‑ приятели? – спрашивала Вадика и Валю Нина Матвеевна, заглядывая в их тетради.
– Стараемся, – не очень уверенно отвечал Вадик, потом обиженно добавлял: – Не везет, как на зло. Опять муха попалась…
Однажды, после такого разговора. Нина Матвеевна сказала:
– Да‑ а… Не рассадить ли вас на разные парты? Вместе вам, действительно, не везет.
Хотя Валя Гребнев был леноват, хитроват и зачастую мешал на уроках, Вадику не хотелось расстаться с ним. Не только великолепное умение рисовать машины, но и любовь к занятным игрушкам, к фокусам, к почтовым маркам выделяли Вальку среди других ребят.
Когда же выяснилось, что Нина Матвеевна собиралась пересадить Вадика к Саше Желтовской, он решительно заупрямился.
– Не хочу!
– Почему? – допытывалась учительница, не повышая голоса.
Вадик молчал, хмуро поглядывал на белокурую, хрупкую Сашу Желтевшую. Глаза у нее голубые, щеки нежные, косички светлые. В косах – белые шелковистые ленты. И вся она такая чистенькая, тоненькая, аккуратная… Недаром ее зовут ее Сашей, а Сашенькой. До нее, пожалуй, и дотронуться страшновато.
– Не‑ е хочу… с девчонкой сидеть, – угрюмо ответил Вадик.
– Вот как! – воскликнула Нина Матвеевна. Она в первый раз рассердилась на него. – Подумай, Вадик, хорошенько.
– У нас дома девчонок хватает. И в музыкальной школе тоже…
Тут Нина Матвеевна так пристыдила его, что он и головы поднять ее смел. Она взяла его и Валины тетради, показала классу: полюбуйтесь, мол!
– Дома, говоришь, девочек хватает… А сестра у тебя есть?
– Ну, есть.
– Не «ну»! Что ж она не научит тебя писать чисто?
– Галинка‑ то? Ха, печатными буквами!
– Погоди‑ ка, – припомнила учительница, – ведь Женя Рузина – твоя соседка. Вот вечером мы вместе с ней и потолкуем.
Скрепя сердце, Вадик перешел к Сашеньке. После уроков Нина Матвеевна задержала его и позвала из соседнего второго «А» класса Женю.
Беседа была недолгой и, прямо сказать, не очень приятной. Вадик сидел за партой и старательно прятал измазанные чернилами руки, Женя смотрела недоуменно.
– Что он… сделал, Нина Матвеевна? – тихо спросила Женя. – Неужели он… учится плохо?
Вадик хотел энергично запротестовать, но тут же припомнил, что никогда не показывал Жене свои тетрадки, а предпочитал рассказывать о пятерках по чтению.
– Пишет грязно, – ответила учительница и упрекнула Женю, – почему не научишь его аккуратности?
Нина Матвеевна ни слова не говорила Вадику, а все Жене: надо внимательнее относиться к соседу; быть ему старшей сестрой; хорошо бы каждый день, помогать ему… От этого у Вадика темнело в глазах.
Как только Нина Матвеевна отпустила их, он со всех ног кинулся бежать.
Женя ничего не рассказала дома, но ходила с таким видом, точно знала какой‑ то большой секрет. Она пыталась подойти к Вадику, но тот отвертывался, не хотел разговаривать.
Назавтра был «музыкальный» день. Вадик отчаянно путал ноты. Фима Фимовна придиралась пуще прежнего, попрекнула за пятно на брюках, как будто он посадил пятно нарочно; словно ей было до этого дело! Если кто‑ нибудь из ребят пел особенно плохо, она говорила: «Ты поешь, как Вадик Чудненко»… Разве не оскорбительно?
Дома он плохо ел, замечания бабушки пропускал мимо ушей. В самом мрачном настроении пришел в класс и сел вместе с Гребневым.
– Правильно! – похвалил его тот.
Нина Матвеевна, войдя в класс, сразу посмотрела на него, подошла, взяла за руку и молча отвела к Сашеньке Желтовской. В лице учительницы не было ни одной злой черточки, иначе Вадик не позволил бы так поступить с собой.
От всех неудач ему хотелось плакать, и он презирал себя за это.
А все‑ таки надо было терпеть, учиться и, главное, писать чернилами…
Он смотрел на чистую, без единой помарочки, тетрадь Саши, грыз конец ручки и думал. В голову приходили мрачные мысли.
Он решил, что учиться невероятно трудно, а чистописания ему вообще никогда не одолеть. Точно так же, как злосчастной музграмоты.
А ведь есть, наверное, школы, где не учат чистописанию. Зачем, к примеру, это самое чистописание летчикам или морякам? Музыка им тоже определенно, ни к чему. Вот бы разузнать об этом хорошенько!
Он размечтался о такой необыкновенно приятной школе, в которой можно писать кое‑ как, простым карандашом, без линеек и строчек, машинально обмакнул перо в чернильницу; с него сползла толстая, пузатая капля, растеклась продолговатой лужицей по странице. Ну вот, пожалуйста!.. Не везет, да и только.
Заметив, что Сашенька поглядывала на него и на кляксу с огорчением и сочувствием, Вадик еще больше нахмурился. «Ха, новости: смотрит жалостным взглядом… Тихоня белобрысая».
В переменку он обсуждал сложившуюся обстановку с Валькой Гребневым. Тот посмеивался, подзадоривал: всюду, мол, ты с девчонками; взял бы да ушел ко мне или – придумал! – нарисовал Сашке рожицу в тетрадке. Подумаешь – чистюля, пятерочница – в пример ставят…
Сказано – сделано!
Они забежали в класс, взяли Сашину тетрадь, нарисовали на двух развернутых страницах огромную, уморительную рожицу, круглую, как блин, с толстым носом в виде картофелины, с глазами‑ кляксами величиной с пятаки. Валька от удовольствия заливался смехом. Наспех промокнув рисунок, они сунули тетрадь в парту.
На уроке Вадик исподтишка следил, как Саша открывала тетрадь, как у нее от неожиданности и испуга расширились глаза, а нежные щеки залила розовая краска.
Сашенька быстро спрятала тетрадку и достала другую. На реснице сверкнула слеза.
– Ты? – тихо спросила она Вадика.
Он решительно замотал головой. «Пусть жалуется… Ни за что не признаюсь».
…А Сашенька сделала ошибку: она забыла испорченную тетрадку в парте, ее кто‑ то после уроков нашел и передал учительнице.
На другой день Нина Матвеевна спросила, почему она так безобразно испачкала тетрадь, Сашенька, ярко зардевшись, отрицала свою вину.
– Не ты, так кто же?
– Я не знаю…
Вадик беспокойно оглядывался по сторонам. Было тревожно и неприятно на душе. Ему хотелось, чтобы расспросы поскорее кончились.
– Откуда ж ей знать, Нина Матвеевна, – попытался он защитить соседку, вертясь так, словно в парту кто‑ то набил гвозди.
– Помолчи. Сиди хорошенько, – сказала Нина Матвеевна, поглядев ему в лицо. – Может быть, ты знаешь?
– Знал бы так… сказал, – буркнул он, опуская глаза.
Учительница ждала. В классе было тихо. Вадику казалось, что ребята вот‑ вот укажут на него пальцами это он!
Медленно‑ медленно поднялся Вадик с места и чуть слышно проговорил:
– Я…
По классу пробежал шепот, и опять наступила тишина.
– Так, так, – в глубокой задумчивости, с огорчением произнесла Нина Матвеевна. – Что ж, садись.
Вадик бросил сверкнувший горячим огоньком взгляд в сторону Вальки Гребнева, подождал несколько секунд и сел. Валька не выдал себя ни словом, ни жестом.
После этого случая Вадику думалось, что его теперь вызовут к директору, исключат из школы, а если этого не случится, так Сашенька Желтовская и ее подруги будут его ненавидеть.
К большому удивлению, ничего страшного не произошло. Наоборот, Саша перестала его сторониться. Однажды она сказала:
– Молодец, Вадик, не побоялся признаться.
– Что‑ о?
– Не побоялся про рожицу… Значит, смелый и честный.
– Ну вот еще… Глупости.
А сидеть с Сашенькой было все же плохо: подводила грязь в тетрадях. Саша умела писать с таким необыкновенным старанием, что Вадику становилось не по себе. Букву за буквой выводила Саша, и они выстраивались в ровные, стройные ряды – залюбуешься.
Он пробовал делать так же, но ничего не получалось.
Трудные наступили для Вадика дни. А тут, как на зло, в третий раз подряд вызвали маму в музыкальную школу. Она вернулась оттуда расстроенная, чуть не в слезах. Ей очень хотелось, чтобы сын, Вадик, получил, как она говорила, «музыкальное образование».
Упреки, угрозы, просьбы – кому это приятно? Но все приходилось сносить.
На уроках Серафимы Ефимовны он искрение стремился вести себя как можно лучше, чтобы не обострять и без того скверных отношений. Но попробуй‑ ка спокойно усидеть, если бесконечные гаммы и несуразные песенки про зайку, который вышел погулять, и про зеленую елочку, которая росла в лесу, нестерпимо надоели, а через окно видна шумная, веселая улица с машинами, автобусами, трамваями.
Один раз, заглядевшись в окно на мотоциклиста, которому никак не удавалось запустить мотор, Вадик принялся машинально двигать ногой, как будто он тоже заводил мотоцикл. Удары каблуком о пол услышала Серафима Ефимовна, подошла к Вадику.
– Завелся, завелся! – радостно вскрикнул Вадик и зацикал, затрещал языком точь‑ в‑ точь как настоящий мотоцикл.
– Чудненко! Вадик Чудненко…
Тут только он вспомнил, что находится не на улице, а в музыкальной школе. Тон преподавательницы не предвещал ничего хорошего.
«Сейчас меня Фима Фимовна в пух разнесет, – с тоской и горечью подумал Вадик. – Сидишь здесь без всякой пользы, без толку да при том выговоры терпишь».
Им овладело злое упрямство. Он исподлобья посматривал на Фиму Фимовну, которая битых пять минут отчитывала его. Когда она сказала, чтобы он не мешал ей работать. Вадик усмехнулся. Недавно он узнал, что, кроме музыкальной школы, она нигде не работала и поразился этому. Он не вытерпел, сердито проворчал:
– Тоже мне, работа – песенки распевать. Работа на заводах, вот где.
Серафима Ефимовна внезапно замолчала, побледнела, затем тихонько, словно больная, отошла нетвердыми шагами, села у рояля и сказала:
– Урок закончен, дети.
…Не мама, а папа на другой день пошел в музыкальную школу. Он взял Вадика за руку, приказал:
– Идем!
Ни одного слова не сказал он больше сыну.
Серафима Ефимовна была в учительской одна. Увидев Вадика и его отца, она сдвинула брови, в недобром ожидании вытянула свою старую, жилистую шею. Отец поздоровался, хотел сказать первое слово, но Серафима Ефимовна отрицательно повела головой, перебила:
– Не просите. Сколько раз приходила ваша жена… Довольно!
Вадик, оставшийся возле двери, испытывал и страх, и острую неприязнь к злой Фиме Фимовне, и горькую обиду за себя, за маму, за отца.
– Я пришел попросить у вас прощения, – сказал отец.
Вадик покраснел, но злое чувство в нем еще усилилось. Фима Фимовна сейчас представлялась ему старой, хитрой волшебницей, бабой‑ ягой, всегда выжидающей случая навредить людям.
– Нет, довольно! Я больше не могу, сил моих нет…
Отец стоял перед ней и молчал, как мальчик, как школьник, не выучивший урока.
Вадик рассердился. Он хотел броситься к Фиме Фимовне, закричать на нее, защитить папу от злой бабы‑ яги.
– Больше к вам никто из нас не будет приходить, – сказал отец. – Я прошу извинения не за него, – он в пол‑ оборота указал на Вадика, – а за себя… Позорно признаться, вырастили лоботряса!
Вадик поразился: папа, такой честный и всегда справедливый, признавал себя… виноватым перед Фимой Фимовной! «Что же будет? И неужели же я – лоботряс? »
– Грубости, глупые выходки – это одна сторона, – говорил отец. – Но, оказывается, он в музыке совсем бездарен. Ведь так? Он ее имеет права занимать чужое место. Другие дети, способные, старательные, может быть, ждут – не дождутся поступить к вам.
Вадик был готов исчезнуть, провалиться сквозь пол.
Сухое, морщинистое лицо Серафимы Ефимовны прояснилось.
– Ах, вот что! – торопливо заговорила она, подошла к Вадикову отцу, посмотрела на него чуть ли не ласково. – Вы очень хорошо сказали. Прекрасные слова! Нельзя занимать чужое место – это нечестно.
Она взяла его руку, крепко ее пожала и рассмеялась:
– Я‑ то, старая, подумала, что и вы станете просить… Правильно вы рассудили. Спасибо вам!
Вадик подумал, что Серафима Ефимовна, пожалуй, чем‑ то похожа на его родную бабушку. Та же морщинистая улыбка, такие же худые руки, немножко согнутые плечи… Ему стало невмоготу смотреть на преподавательницу и отца. Вадик шмыгнул за шкаф и притаился.
– Шалости, конечно, раздражают, рассказывала Серафима Ефимовна. – Но ведь и абсолютно никакого слуха… А я всю жизнь отдала музыке. Пела в хороших театрах с большими артистами…
Они разговаривали долго, мирно и даже весело, Серафима Ефимовна говорила так хорошо, с такой душевной любовью к музыке, что Вадик забыл о неприязни.
…Отец, еще раз попросив прощения, пошел к двери.
– Вадим!
Посмотрел вокруг, глянул за шкаф, выволок оттуда запачкавшегося мелом Вадика.
– Что, стыдно? Позорно?
Щеки, шея, уши Вадика пылали, как зарево. Казалось, тронь их – обожжешься.
– Серафима Ефимовна, – еле слышно вымолвил он, – простите меня.
Она быстро подошла и принялась стирать с него мел. Ну точь‑ в‑ точь как бабушка. Отец мягко, почтительно отстранил ее, подтолкнул Вадика к двери.
В коридоре отец, спросил:
– Теперь ты понял?
– Да, папа, – поспешно ответил Вадик.
– Что же ты понял?
– Чужое место занимать нельзя.
– А еще что?
– Музыка… – Вадик запнулся, подбирая нужные слова. – Музыка… это для нее – как для тебя моторы! А я ей сказал…
– Правильно понял, – сурово сказал отец. – Палку о твои бока обломать мало, чувствуешь?
– Угу.
– Не бока – палку жаль… Вижу – кругом у тебя кляксы, не только в тетрадях. На меня, на мать ты их насажал, перед людьми стыдно.
Они вышли и зашагали вдоль улицы. К остановке подошел автобус, но отец и не взглянул на него.
– К музыке ты оказался непригодным, – с горькой усмешкой сказал отец. – Пианино сегодня передвинем к Рузиным… Посмотрю, на что ты вообще годишься. Может быть, и к письму у тебя такие же способности? Тогда – долой из школы и прямехонько в музей. Люди будут пальцами показывать: смотрите, ха‑ ха, неграмотный! Один такой на нашей земле отыскался!..
Валька Гребнев советовал:
– Переходи, Вадик, ко мне: вдвоем интересней. У меня заводной медвежонок есть – танцует, как живой! Я бы ни за что на свете не стал с Сашкой Желтоватой сидеть… Из музыкальной ты ушел – и правильно. Пусть девчонки пищат, они это любят.
Вадик слушал, но следовать его советам не спешил. Дружба их поколебалась после случая с рожицей. «Сашенька учительнице не наябедничала. Почему же ты не признался? » – думал Вадик и отходил в сторону.
На уроках он теперь сидел тихо и во всем старался подражать Саше. Она кладет промокашку под руку – и он кладет; она чистит перо – и он тоже; она начинает писать – и он за ней.
«Неужели я и к письму неспособный? » – размышлял он.
Буква за буквой…
Две – три буквы он выводит старательно, а потом рука сама собой, будто заведенная, вдет все быстрее и быстрее, а буквы начинают валиться в разные стороны, как пьяные. У Сашеньки строчка, у него – две. Но какие они неприглядные, эта строчки!
«Стоп! » – командует себе Вадик, косит глазами в тетрадь соседки, старается попасть в ее ритм.
Дома он теперь занимается с Женей. Она толкует: «Главное – терпение. Терпения, Вадик, у тебя ни на грош». Женя ведет себя, как настоящая учительница, даже отметки ставит цветным карандашом. Важничает, конечно. Этого самого терпения у нее, должно быть, тоже не очень‑ то много… Но – надо покоряться.
Вадик слышал о папе: «Чисто работает. Золотые, умелые руки». Руки, значит, можно научить, чтобы они стали «умными», стоит лишь постараться.
«Стой! » – снова командует Вадик своей забывшейся руке, она послушно останавливается.
А в общем‑ то Женя, наверное, права: самое трудное – это терпение, прилежание.
Частенько на помощь ему приходила Саша. У нее постоянно был запас промокашек и новых перьев. Кроме того, у нее неистощимый запас старательности, а им, оказывается, тоже можно поделиться с товарищем.
В Вадиковой тетрадке стали появляться не только тройки, но и четверки. Четверки ему ставила лишь Нина Матвеевна; дома же, у строгой Жени Рузиной, заработать больше тройки не удавалось.
И все‑ таки терпение да старание делали свое доброе дело. Однажды Сашенька, посмотрев Вадикову домашнюю работу, сказала:
– Будет пятерка!
Вадик с волнением ждал следующего дня. И вот он наступил. Нина Матвеевна, раздав всем тетради, Вадику подала последнему. Он жаждал увидеть круглую, сияющую, красную, как огонь, пятерку; глянул и огорчился: стояла угловатая, обыкновенная цифра «4».
– Ты как будто не рад? – рассмеялась учительница. – Я тебе поставила твердую четверку. Твердую, понимаешь?
– Что тут понимать, – угрюмо сказал Вадик. – Четверки все одинаковы.
– Твердой называю потому, что троек у тебя больше не будет. Ведь так? – Она говорила ласково, доброжелательно и в то же время уверенно.
Ее уверенность передалась Вадику. «Не будет, – подумал он. – Смогу! »
– Так, – подтвердил он и энергично кивнул головой.
– Значит, договорились.
«Какая у нас учительница добрая и справедливая», – решил Вадик, глядя в ее молодое, довольное лицо. А она, лукаво прищурив глаза, сказала:
– Теперь можешь идти на свое место.
Вадик растерялся. Он привык к новому, месту, да и к Сашеньке тоже. С ней легче быть терпеливым и прилежным. Сможет ли он удержаться на «твердой четверке» рядом с Валькой Гребневым? А вдруг опять вернутся на страницы позорные кляксы?
Несколько секунд он колебался, застигнутый врасплох, потом взял портфель и перешел к Вальке. Тот не скрывал радости, ему надоело одиночество.
Наблюдавшая за ними Нина Матвеевна громко сказала:
– А с Сашей сядет Валя Гребнев.
Эти слова прозвучали для Вальки, как гром с ясного неба. Он вскочил, открыл рот да так и остался стоять с открытым ртом, ни слова не мот вымолвить.
– Иди, – шепнул ему Вадик. – Иди, слышишь? И сразу признайся Сашеньке, что рожицу вместе со мной рисовал. Если не признаешься – не буду с тобой водиться. Никогда!..
– На время или как? – уныло спросил учительницу Валька.
– До твердой четверки, – сказала Нина Матвеевна.
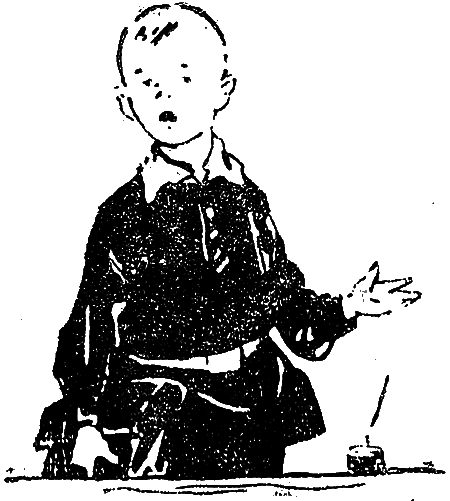
Долгожданное лето
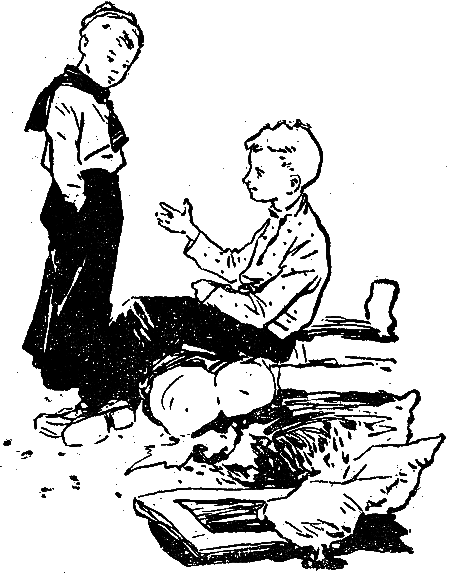
В семье все были довольны: Вадик перешел во второй класс с похвальной грамотой. Он чувствовал себя победителем. Вон Женя Рузина перешла в третий, но грамоты ей не дали – даром, что ростом вымахала на целую голову выше Вадика.
Он давно старался в чем‑ нибудь перегнать Женю, которая, пользуясь правом старшей среди детей в квартире, всегда не прочь покомандовать ими, а Вадик этого не переносил.
Мама купила ему темно‑ синий матросский костюмчик и морскую бескозырку с ленточками. В костюме он выглядел значительно взрослее, как будто даже ростом повыше. У него была мечта: стать моряком, плавать в морях и океанах, смотреть в дальнозоркий капитанский бинокль, отдавать приказания – «Полный вперед! »
Мечта уносила в дальние страны, но Вадик был практичным человеком и потому всерьез пока желал немногого: поехать в пионерский лагерь, на берег лесного озера. Там можно вдоволь поплавать – пусть не на эсминце под парами, не на яхте под парусами, а в лодке на веслах, – и то здорово!
Сперва Вадик опасался, что его не возьмут: зимой ему исполнилось лишь восемь лет. Вместе с отцом он ходил на завод, в завком; там сказали, что восьмилетних берут. Потом Вадик пересчитывал листки отрывного календаря, оставшиеся до отъезда в лагерь. По утрам, вскакивая с постели, он летел к Жене:
– Знаешь, только семь дней. Всего одна неделька!
Были внесены деньги, взята справка от врача, составлен список лагерных вещей – предстояло получить путевку…
И тут Вадик сделал досадный промах.
Бабушка дала денег на конфеты для него и для младшей сестренки Галинки. Вадик, однако, решил, что неразумно тратить деньги на конфеты, когда прямо возле дома в киоске продавалось мороженое, да притом сливочное, в клетчатых вафельных стаканчиках! Одну, и вторую, и третью порцию мороженого с аппетитом проглотил он, а на другой день слег, заболел ангиной.
Когда тетя Аня Рузина принесла Жене путевку, она забежала к Вадику, посочувствовала, но не могла скрыть своего счастья, и от этого горе Вадика было еще тяжелее.
В день отъезда Женя, сияющая, носилась по квартире подобно ветру, суетилась так, будто уезжала за тридевять земель в тридесятое царство. Ее светлорусые косички летали словно молнии. А Вадик лежал в постели и не имел права даже откинуть надоевшее ворсяное одеяло…
– Ты сам себя наказал, – говорил ему отец. – Но уж очень‑ то не тужи. Подходит время маминого отпуска. Поедешь с ней, с Галинкой и с бабушкой на дачу.
– А озеро?..
– Что за беда: не озеро, так река будет, Обь. Тут тебе и купанье, и нырянье, и удочки. Только, чур, в меру!
Так рухнули мечты о пионерском лагере, А дача? Как ни расписывай, она, конечно, не могла идти ни в какое сравнение с лагерем.
Женя, одетая в лучшее платье, с чемоданчиком в руках, по‑ взрослому торжественная, зашла проститься. Чтобы немного его утешить, сказала:
– Через три недели увидимся. Вернусь из лагеря, мама возьмет отпуск, и мы тоже приедем в деревню.
Никакой дачи, собственно, не было.
В «Мурзилке» Вадик читал, что дача – это домик за городом, обязательно с садиком и забором. А они поселились в самой обыкновенной избе. «Сняли комнату», – говорила мама.
Вадик быстро изучил окрестности: обежал огород, покрутил ворот у колодца, излазил малинник, спускавшийся узкой полосой по направлению к Оби – до самого обрыва. Потом вышел на улицу и удивился: кругом тишина. Не видно ни одной о машины, ни единого прохожего.
Из избы, стоявшей напротив, вышел щуплый, тонконогий мальчик, с темным, как у китайчонка, загорелым лицом, в выцветшей до белизны голубоватой майке. Волосы у него, выгоревшие на солнце, имели цвет овсяной соломы.
Они некоторое время искоса поглядывали друг на друга, затем мальчик решительно подошел к Вадику.
– Городской? – спросил мальчик, и в вопросе Вадик почувствовал не только любопытство, но и как будто легкую насмешку. – Нырять умеешь?
– А что? – откликнулся Вадик, оценивающе посматривая на худую, костистую фигуру. Уж бояться‑ то его во всяком случае было нечего: подует ветер и свалит с ног.
– Так… Просто для знакомства спросил. Месяц будете жить? Дачники всегда по месяцу живут.
Они помолчали, словно им неинтересно было больше ничего знать друг о друге. Через минуту мальчик снова стал спрашивать:
– Звать как?
– Вадимом…
– Хм‑ м. А по‑ простому?
– Ну, Вадиком.
– Нырять, значит, Вадик, не можешь?
Вот пристал!.. Вадик не умел нырять; хуже того – он не умел плавать. И как на грех, матросский костюм не позволял честно признаться. Раздосадованный Вадик насупился, однако довольно спокойно спросил:
– Хочешь знакомиться – скажи как и тебя зовут.
– Меня? Костей. Я – Костя Криволапов.
– Ага, выходит ты Котька. Кот по‑ нашему.
Мальчик неожиданно обиделся:
– Но‑ но, подразнись мне, попробуй…
Вадик еще раз критически оглядел худощавую, угловатую фигуру Кости, заметил сжатый кулак и тоже сжал кулаки.
– Кот!..
– Хочешь получить? – Костя сделал шаг в сторону, занимая удобную боевую позицию с фланга.
– Кот криволапый! – дерзко и зло крикнул Вадик, готовясь достойно встретить нападение.
Костя не ударил, а сильно толкнул Вадика плечом в грудь. Через секунду они уже сцепились и покатились в дорожную пыль.
Схватка была необыкновенно короткой. Вадик лежал на лопатках, крепко прижатый жилистым Костей к земле. Изумленный Вадик видел над собой голубое небо и лицо противника, отливавшее бронзой.
Из ворот с лаем выбежала собака.
– Сдаешься? – проговорил Костя.
– Никогда! – Вадик отчаянно рванулся.
В этот миг собака схватила его за штанину.
– Жулик, не сметь! – приказал Костя.
Но окрик опоздал. Черный, как вороново крыло, пес держал в зубах кусок синей материи от роскошных моряцких штанов Вадика.
Противники живо вскочили. Пыл борьбы сразу погас. Неохотно, как бы по обязанности перебрасываясь угрозами, они медленно отступали каждый к своему дому. Над дорогой плыло, постепенно оседая, облачко пыли.
…Стоит ли говорить, что за порванные штаны Вадик имел весьма неприятное объяснение с бабушкой. Но он ни словом не обмолвился о Косте. «Зацепился за сучок», – вот и все. Вадик думал: – «Ведь каждое утро в городе делал с папой зарядку… И вдруг оказался на лопатках! Еще хорошо, что никто не видел…»
Дня три Вадик был тих и сосредоточен. Он размышлял. Бабушка его хвалила. Издали наблюдал за Костей, который в течение длинного летнего дня успевал переделать много всякой работы: выгонял корову в стадо, поливал грядки, подметал двор, помогал отцу чинить сети и смолить лодку.
И Вадика неудержимо потянуло через дорогу, в соседний двор, где были развешены рыболовные снасти и где Костя занятно играл с Жуликом. А этот Жулик, черный, гибкий и увертливый, как змея, ласкаясь, любил засунуть свою плутоватую мордочку под руку, словив прося: обними меня…
– Эй, городской, чего прячешься? – закричал однажды Костя, приметив наблюдавшего из‑ за угла Вадика. – Иди сюда, коли не злишься.
Вадик из гордости постоял с минуту, потом подошел. Костя первым делом глянул на зашитую штанину.
– Ишь, беда какая приключилась. Жулик напроказил… Давай‑ ка тебя с ним подружу. Сахару нет? Он у нас сладкоежка.
Не прошло и четверти часа, как мальчики, уже соревновались в метании камней у обрыва, бегали, в перегонки, тянулись на палочке. И тут выяснилось, что хилый на первый взгляд Костя во всем сильнее Вадика. А плавал Костя и «сажёнками», и на боку, и «по‑ собачьи», и на спинке – любым способом.
– Про штаны я никому не сказал, – немножко гордясь собой, сообщил Вадик.
– Ну да, понятно, ведь получилось нечаянно, – ответил Костя. – Я и знал, что не скажешь. Ты мне сразу показался… ничего парнем. Только задирист больно.
У Вадика не было охоты сердиться на эти откровенные признания, хотя он и ожидал похвалы. Костя говорил просто, без хвастовства и насмешки. Он рассказал, что окончил второй класс, что любит читать, а писать – не очень. Он надеялся стать матросом, одного из пассажирских пароходов на Оби, проходивших мимо деревни дважды в сутки: утром и ночью.
– И я тоже. Только обязательно пойду на морской, лучше – на военный, – сказал. Вадик. – Капитаном или хоть штурманом. «А плавать и нырять? », – хотел спросить Костя, но промолчал, только усмехнулся.
Приведя Вадика в избу, Костя показал свой уголок:
– Игрушек и книжек маловато. Папка трудодни зарабатывать не может, поэтому мама деньги здорово бережет.
В Костиной семье «хозяйкой» считался отец. С войны он пришел инвалидом: правую ногу заменял протез, а на обеих руках остались четыре пальца. Мать работала на колхозной ферме, отец справлялся по дому, и верным помощником ему был Костя.
Домой Вадик вернулся поздно. Мама беспокоилась и сердилась. Она сказала, что больше никуда не будет его отпускать.
Тихо, задумчиво шумят сосны, шевеля лучистыми ветками. Верхушками пробегает ветерок, они покачиваются, и в такт их кивкам на траве играют солнечные пятна. На пригорках зреет земляника, в ложбинках красуются своими яркими, ажурными листьями папоротники. Повсюду веселая, свежая зелень, купающаяся в потоках золотого света.
– Никогда лесным воздухом не надышаться, – говорит мама, лежа на траве, полузакрыв от удовольствия глаза.
– Угу, – поддакивает Галинка и тоже жмурит свои большие кроткие глаза.
Вадик не мог понять, как у них хватает терпенья целыми днями любоваться одними и теми же деревьями, восхищаться… воздухом! Как не надоест собирать бесконечные букетики из гвоздик и ромашек… В первый день, действительно, занятно, на второй – терпимо, а потом – просто скучно.
Отыскав яркий цветок, мать звала детей:
– Смотрите!
– Ах, какой славненький колокольчичек! – восклицала Галя. – Надо его в самую серединку букета.
– Таких «колокольчичков» полный лес, – ворчливо возражал Вадик. – Маменькина дочка, вот ты кто. Скучно с тобой.
…В общем, через неделю тихие прогулки в сосновый лес, почти вплотную подступающий к деревне, стали для Вадика нестерпимыми. Лазить на деревья категорически запрещалось. Ягоды еще не поспели, а букетики да веночки опротивели. Хотя бы уж поскорее Женя приезжала.
Вадик приноровился увиливать от прогулок. Он оставался с бабушкой, которая хлопотала по хозяйству и на огороде; он даже пытался полоть, копать, подвязывать малину. Это было нелегко и не слишком приятно, но все‑ таки занятнее вдыхания «соснового воздуха». Притом Вадику хотелось закалиться, поднабраться сил.
К Косте Криволапову его отпускали редко. А тот весь, день был занят интересными делами. Он умел вырезывать из ракитовых прутьев свистульки; выпиливать из фанеры красивые, будто кружевные полочки; мастерить бумажные змеи, которые залетали под облака.
Улучив минутку, Вадик старался улизнуть к Косте. Однажды Вадик видел, как Костя носил соседской тете Татьяне дрова и воду, мыл посуду, кормил кур. Оказалось, что она заболела, а сын ее находился на курсах комбайнеров в городе. Вадик обо всем рассказал своей бабушке, и с этого дня она перестала препятствовать встречам мальчиков. Отпуская их купаться, бабушка наказывала Косте присмотреть за Вадиком.
…Невозможно придумать в летний день лучшего удовольствия, чем купанье. Вода в Оби прохладная. Входишь в воду – она будто булавками покалывает; и от уколов на теле вскакивают мелкие пупырышки. Окунешься – вода становится ласковее материнской руки. Она охлаждает и бодрит, веселит и нежит.
Костя с готовностью взялся учить Вадика плаванию. И тот старался. Через несколько дней он мог держаться на воде, изо всей мочи загребая руками и отчаянно колотя ногами. Костя советовал ему зря не растрачивать силы. Хороший пловец не выбрасывает ноги на поверхность – от этого один вред.
По утрам Вадик вставал с мыслью о плаванье. Выбегал в огород, делал зарядку, на все лады повторял плавательные движения, подтягивался на жердях изгороди, усердно развивал руки или, как говорил Костя, «плечевой пояс».
В траве, в укропе, в огуречных листьях блестела щедрая россыпь росы. Хорошо! Вадик бежал умываться ключевой водой, брызгал себе на грудь и на спину, взвизгивая от колючего холода.
Когда ему удалось самостоятельно проплыть метра три, ликованию не было конца.
Костин отец обещал взять мальчиков на рыбную ловлю, но у него протекала лодка, и рыбалка откладывалась. Тогда Костя предложил пойти рыбачить удочками. Вадик, не любивший долго сидеть на одном месте, относился к удочкам свысока. Он издали видывал, как мальчишки часами упрямо торчали над водой, умирая, наверное, от скуки. Послушав приятеля, знавшего места отличного клева, Вадик все же согласился. Костя дал ему очищенный от коры ракитовый прут – удилишко – и крючок, бабушка скрутила из тонких ниток леску. Дождевых червей накопали с вечера и рано поутру отправились лесными тропинками вдоль берега. Они торопились: известно, утром рыба хочет завтракать, потому клюет лучше, чем днем.
У тихой заводи сделали остановку, насадили червей и забросили крючки. Минут через пять Вадик воткнул удилище в землю, а сам занялся стрижиными норами, тут и там видневшимися в высоком глинистом берегу.
– Клюет, приглушенно воскликнул Костя. – У тебя!
Вадик опрометью кинулся к удочке, рванул ее, и на воздух поднялась серебристая трепещущая рыбка.
– Через голову кидай! – приказал Костя. – Бывает, срывается.
Так Вадик выудил первого в своей жизни чебачка и пустил его в ведерко, позаимствованное у Галинки.
Пожалуй, не такое уж скучное занятие – удить рыбу.
Одного за другим поймал двух чебаков и Костя. У Вадика загорелись глаза. Сердце билось часто и гулко; казалось, что его громкие удары могли спугнуть рыбу.
Над Костей опять стремительно взвилась отдирающая перламутром рыбка. Азарт рыболова захватил Вадика. Он вытащил крючок и дрожащими пальцами переменил на нем червяка.
– Кто? – не оборачиваясь, спросил он Костю.
– Чебачишка…
От нетерпения руки нервно перебирали удилишко; на воде играла мелкая рябь. Вадик пытался успокоиться, но когда Костя выкинул на берег еще одну рыбку и проговорил: «Ага, окунишка‑ плутишка попался», – острая, как колючка боярышника, зависть больно кольнула Вадика.
«Ясно, самый невезучий я человек на свете, – сокрушался он, искоса посматривая на счастливчика Костю, молчаливо вытаскивавшего сверкавших на солнышке маленькими молниями желанных чебаков. Наверное, виноваты червяки! »
Вадик начал их часто менять, Костя пытался помочь ему советом:
– Поосторожнее насаживай. Называется – «нажива», понимаешь? Чтобы как живая, значит. Рыбу обмануть. Она ведь хитрая, нелегко провести…
А он, захваченный азартом и черной завистью, не слушал; копался в банке с червяками, выискивая наш лучших, самых толстых, первосортных.
– Не тревожь попусту, – остановил его Костя.
– Это по‑ очему? – вспылил Вадик. – Вместе копали. Имею п‑ полное п‑ право!
– К чему ж портить‑ то? – возразил Костя и ловко «подсек» удочку, затем выбросил на траву окуня.
– А‑ а!.. Порчу, да? Я их пять штук взял, а ты вон полбанки истратил!
– Зато десять чебаков поймал да двух окуньков впридачу.
Голова у Вадика пошла кругом, в глазах помутилось. Он почувствовал себя смертельно оскорбленным.
– Ты… Ты! – от злости он задохнулся. – Ты забрал лучших червей! Подсунул мне негодное удилишко. Вот, вот! – Он через колено, переломал удочку на куски, забросил в реку, яростно пнул ногой банку с червями. – Вот тебе «нажива», Кот криволапый! – крикнул он, подхватил Галинкино ведерко, выплеснул из него воду вместе с единственным чебаком и пустился бежать.
– Эй, городской! – насмешливо закричал вслед ему Костя. – Прямо по тропке шатай. Не заблудись! Искать придется.
Послеобеденный отдых считался для всех обязательным. Мама объяснила, что «тихий час» бывает и в детских садах и в пионерских лагерях; он предписан врачами.
Вадик не мог привыкнуть спать днем. Он вертелся с боку на бок, рассматривал; надоевшие трещины в потолке, старые фотографии на стенах. Тихий час тянулся томительно долго.
В тот день, когда в деревню приехали Рузины, ему особенно не терпелось. Он мельком видел Женю и не успел ей ничего показать. После ссоры с Костей он изрядно скучал без друзей. Стыд и гордость мешали ему пойти; к приятелю, попросить прощения. Волей‑ неволей приходилось заниматься цветками и веночками.
Рузины устраивались в избе на другом: конце деревни. Вадикова мама ушла им помогать.
…Когда издалека донесся звонкий Женин голос, Вадик не выдержал. Он боялся, что Женя сама, без него, посмотрит деревню, бор и, главное, реку. Он осторожно привстал на своей кровати‑ раскладушке, чтобы она не скрипнула. Огляделся, прислушался. Выйти через дверь, нечего было и думать: бабушка в сенцах возилась с посудой. Для бегства годилось окно.
Несколько секунд спустя Вадик стоял, склонившись, на подоконнике. Он отодвинул занавеску и, оглядевшись, увидел открывшиеся вдруг глаза Галинки. На мгновение замер, потом выразительно погрозил ей кулаком. Галинка покорно опустила веки. Вадик бесшумно скользнул за окно.
Улицей он летел со всех ног, энергично работая руками, как делал Костя Криволапов. К избе, в которой собирались жить Рузины, Вадик решил подойти огородом. Тут он увидел Женю, выбивавшую палкой одеяло, и позвал ее.
– Вадя! – обрадовалась она, но тотчас посмотрела подозрительно: – А ты не сбеж…
– Ничего подобного…
– У нас, в лагере, за это, знаешь!..
– Знаю, слышал… Бежим, все тебе покажу.
– Не шуми. Ты знаешь нашу Верочку: разревется: – «И я с вами! ».
…Мелькали избы, плетни, заборы. Вот магазин, вот правление колхоза. А вот и окраина деревни. Там бор, а здесь овраги, по их склонам – малинники. И пчелы – колхозная пасека: берегись!
Дальше и дальше, бежал Вадик. Он с гордостью чувствовал, что Женя едва поспевала за ним, – тренировки, конечно, не пропали даром.
Стоп! Они оказались на краю высоченного, как скала, обрывистого берега. Внизу широко расплескалась Обь, сверкающая на солнце. Неподалеку виднелись поросшие красноталом и осокой островки, окаймленные волнистыми полосами светло‑ желтого наносного песка.
Высота и простор! Эх, разбежаться бы и полететь все выше, все дальше, над рекой, над заречными лугами, конца‑ края которым не видно!..
Сделав несколько скачков в сторону, Вадик с размаху прыгнул вниз.
– Ай! – взвизгнула Женя.
Но пугаться было нечего: начинался песчаный спуск, прозванный деревенскими ребятами «горкой». По весне тут сбегал ручей, а теперь, ставши в сыпучий песок ногами, можно было скользить, как будто на лыжах.
– Прыгай, Женя!
Она зажмурилась, прыгнула и поехала вниз, чуть перебирая ногами, чтобы не упасть.
У реки, в толпе мальчиков, Вадик заметил Костю Криволапова, смутился, поспешно отвернулся и потащил Женю в сторону.
Майка, сдернутая на ходу, полетела на песок, и Вадик, с разбегу ринулся в воду.
– Красота, кр‑ р‑ расота! – кричал он, резвясь, пока Женя снимала сарафанчик и туфли. – Скорее!
Он чувствовал себя хозяином и почти героем. В нем кипело желание поразить Женю чем‑ нибудь необычайным. Воодушевленный, он без отдыха проплыл вдоль берега метров семь – восемь и заслужил похвалу Жени.
– Это еще пустяки! А нырять ты умеешь? – спрашивал он. – Смотри!
Он кидался вниз головой, ударял по воде ногами, и хотя через две секунды уже «выныривал», все же полагал, что это в глазах Жени должно выглядеть чем‑ то вроде подвига. И она, обрадованная встречей, обласканная солнцем и рекой, выражала шумное одобрение каждому его «номеру».
Увлекшись собственными успехами, Вадик снова поплыл, намереваясь «побить рекорд». Он поочередно выбрасывал руки вперед, думая, что получается, как у Кости. Вода брызгала в лицо, на голову, мешала смотреть. Вдруг она хлынула в рот, перехватила дыхание. Тонко зазвенело в ушах, зеленым туманом застлало глаза. Вадик вздернул голову, опустил ноги, пытаясь нащупать дно. И сразу ушел под воду.
Дна не было! Куда ж оно подевалось?
Недоумевая, Вадик вынырнул на поверхность. Глянув по сторонам, он сразу сообразил, что рекорд побит. И намного! Вслед за этим стало ясно: берег далеко, обратно не доплыть…
Кричать, кричать!
Страх лишил сил. Не успев крикнуть, он хлебнул воды. Руки повиновались плохо, кружилась голова, что‑ то давило грудь.
Женя, следившая за приятелем сперва восхищенным, затем тревожным взглядом, отчаянно закричала:
– Спаси‑ ите!
Плавала она очень плохо, поспешить на помощь не смела.
– Помоги‑ и‑ ите!..
Кто‑ то из стайки мальчиков, купавшихся в стороне, молнией пролетел мимо, взметнул фонтаны брызг и, положив голову боком на воду, стремительно поплыл к Вадику.
От испуга у Жени подкашивались нога. Нетвердыми шагами она пошла вслед за пловцом, но когда вода поднялась до шеи, остановилась в полной беспомощности.
Женя видела, как овсяная голова мальчика оказалась рядом с вынырнувшей головой Вадика и как внезапно обе они исчезли. Спазма сдавила горло, не давала кричать. Жене показалось, что у нее помутилось сознание, что она упадет и утонет. Тут головы всплыли, и она услышала резкий, повелительный крик.
– Отпусти, дурак! Отпусти!
Шли секунды в какой‑ то невидимой глазу подводной борьбе, потом мальчик подался от Вадика в сторону и одновременно ударил его кулаком в лицо.
– Не тронь! – взвизгнула Женя. – Помогите! – что есть мочи закричала она, обращаясь к набежавшим ребятам.
– Не верещи, – сказал кто‑ то сердито.
Головы тем временем отделились одна от другой, и черноволосая Вадикова опять скрылась. В тот же миг мальчик ловко ухватил его за плечо, подтянул к себе и, сильно работая свободной рукой, поплыл к берегу. Из воды еле выглядывала темная, вихрастая макушка Вадика. Один из ребят постарше с противоположной стороны подхватил его за вторую руку.
Все произошло в течение каких‑ нибудь двух – трех минут. Женя продолжала неподвижно стоять по горло в воде, точно увязла в иле.
– Поддержи сзади, – велел овсяноволосый, когда они поравнялись с ней.
Теперь они втроем понесли Вадика к берегу. Его голова безжизненно свисала вниз. Ступив на сухой песок, Женя приободрилась.
– Искусственное дыхание! Живее, ну!
Вадик открыл глаза.
– Смотрит, – тихо зашептали ребята вокруг.
Тяжелый приступ рвоты как судорогой свел его тело. Еще и еще.
Женя постелила сарафан; на него положили Вадика. Он долго смотрел в небо. Заметив Женю, сказал тихим голосом:
– Я бы выплыл… Волны поднялись, в рот плескать стали.
– Выплыл бы! – с мягким упреком ответила она.
– Это ты мне помогла?
Она отрицательно дернула головой и указала на мальчика.
– Костя? – прошептал Вадик и зажмурился. На бледном лице проступили чуть розоватые пятна. Под правым глазом ясно обнаружилась темная опухоль. – Сам бы, наверное, выбрался, – чуть слышно пробурчал он.
– Опять сам! Если бы не этот мальчик…
Вадик приподнялся, сел, решительно вскинул голову.
– Не мальчик, а Костя Криволапов, – поправил он Женю, запнулся и с усилием проговорил: – Прости меня, Костя, за… за червяков.
– Вздуть бы тебя надо как следует, – хмуро отозвался. Костя. – Да ладно уж. Лежачего не бьют. Ты и меня чуть не утопил. Пришлось по носу стукнуть, чтоб отцепился…
Они молча посидели на песке. Жарко припекало солнце. Ватаги ребят с криками, с визгом плескались в реке. Вадик окончательно пришел в себя.
– Ты… сбежал? – опросила его Женя.
– Угу, – признался он.
– Ах, ты, горе… И чуть не утонул! Что ж теперь делать‑ то? – заволновалась она.
– Маме, чур, не говорить. Она меня тогда к Оби и не подпустит.
– Не говорить? Боишься? Как знаешь, твоя воля, – заметил Костя.
Женя посмотрела на Костю с возросшим уважением. Внезапно ей пришло в голову, что она тоже убежала без спросу.
– Идемте скорее домой, – предложила она. – И все, все расскажем. Согласны?
Вадик кивнул головой.
Женя и Костя взяли его за руки, и все торопливо пошли к деревне.
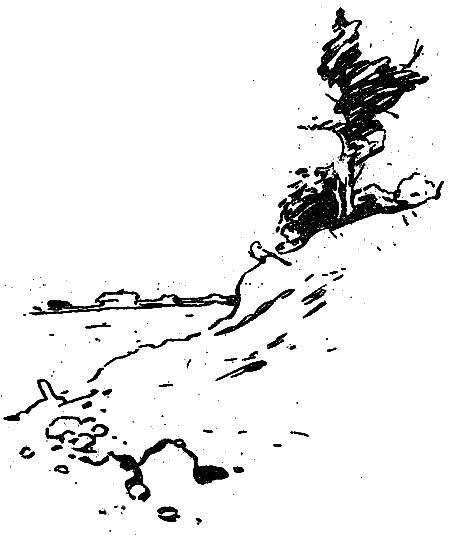
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|