
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН
Было что‑ то неправдоподобное, почти фантастическое во всем: черное небо с редкими холодно мерцающими звездами, летучий снег и молчаливые руины обсерватории. Поломанные, расклеванные снарядами купола, скрюченные железные прутья и рваные дыры в стенах. В вышине вспыхнула ракета. Окинула мутноватым зеленым глазом равнину, и затем расколотое небо вновь медленно сошлось.
Матрос Бубякин долго следил за двумя фигурками в маскировочных халатах, то выныривающими из густой клубящейся мглы, то вновь пропадающими в снежной круговерти, потом зло ударил себя кулаком по лбу, повернулся и вошел в землянку. Его обдало тяжелым теплом, знакомыми запахами махорки, несвежих портянок и горелой картошки. Снайперы спали. Сняв полушубок, Бубякин шумно вздохнул, выругался и улегся на жесткие нары. Он лежал в каком‑ то оцепенении и все думал о тех двоих, что ушли в ночную белесую муть. Да, он пытался их отговорить. Но она сощурилась этак презрительно и сказала:
– У тебя, Бубякин, сердце как сейсмограф. «Чует мое сердце»… – передразнила она. – Была у нас в поселке бабка Маланья. Тоже наподобие тебя пророчествовала. – И добавила резко – Прекратить разговоры! Пойдет Дягилев. Пора испытать его на деле.
И они ушли. Ушли к подбитому немецкому танку на ничейной полосе, будут сидеть до утра, а возможно, день, два, пока не покажется противник. Опытный снайпер в подбитый танк не полезет. Но у Наташи Черемных своя теория: «Эта истина известна и фашисту. Пусть думает, что мы не полезем. А мы все‑ таки полезем…» Правда, ей не раз удавалось обвести вокруг пальца вражеских снайперов. Слава о Наташе Черемных шла по всему фронту, о ней писали в газетах, в Ленинграде на стенах домов были наклеены листовки с ее портретами. Ее имя упоминалось наряду с именами прославленных снайперов Смолячкова и Петра Лабутина.
Бубякин был жестоко и ревниво влюблен в свою начальницу лейтенанта Черемных. Но это чувство он бдительно оберегал от постороннего глаза, и никто ни о чем не догадывался. Даже сама Черемных. С некоторых пор сделалось потребностью вспоминать, когда впервые услышал о ней, как они встретились, искать многозначительность в обыкновенных ее словах. Пока живешь, кажется, что так и нужно и никакой системы в этом нет. Но стоит оглянуться на прошлое – и невольно оно приобретает некую стройность. Будто и не могло случиться по‑ другому.
События в бухте Синимяэд казались Бубякину далеким сном. Как будто и не с ним все происходило. А ведь с тех пор не прошло и полугода. Был госпиталь в Таллине. Был госпиталь в Ленинграде. Одна пуля застряла возле шейного позвонка – ее извлекли. А потом вытаскивали осколки отовсюду. И хотя Бубякин чувствовал себя выздоровевшим, из госпиталя не выписывали. Это был общий госпиталь в Ленинграде, на улице Льва Толстого. Тут оказалось свободное место. Знакомых моряков Василий не обнаружил и заскучал. Он пытался навести справки о Кешке Макухине, об его подводной лодке, но ответа так и не получил. Потому сделал вывод: Кешка погиб. Совсем погрустнел, даже стал отказываться от пищи. Письмо Кати Твердохлебовой чудом уцелело. Портсигар оказался водонепроницаемым.
После долгих колебаний Василий вскрыл конверт. Катя писала Кешке: «Я вышла замуж за известного тебе Павла Неганова. Прошу больше не писать мне». Письмецо выпало из рук Василия. Он не находил себе места от возмущения. И хотя знал, что Катя не любила Кешку, ее поступок казался ему вероломством, почти предательством. Они тут проливают кровь за Родину, а Катя устраивает свои любовные дела…
Он хорошо знал этого Неганова, прыщеватого худосочного парня, которого‑ то и на военную службу не взяли из‑ за плоскостопия. Что она нашла в нем?
Бубякин невыносимо страдал, и это были душевные страдания. Он надоел врачам и начальнику госпиталя, требуя отправки на фронт. На любой – морской или сухопутный, – не все ли равно, где бить врага?
Обстановка сложилась так, что осенью его срочно выписали и направили на лидер «Ленинград». Но и тут ему не повезло.
Он хорошо запомнил тот день. Холодный дождь хлестал по лицу. Василий с изумлением наблюдал, как матросы торопливо сбегают по трапу и покидают корабль.
– Братишки, куда вы? – крикнул Василий.
Но ему не отвечали. Наконец кто‑ то объяснил: большая часть личного состава лидера уходит на сухопутье, чтобы влиться в бригады морской пехоты. Со стороны Стрельни, Урицкого, Петергофа доносился орудийный гул. Там был враг. Он был повсюду – от Финского залива до Ладожского озера.
Бубякин поднялся на палубу лидера и робко подошел к старшине второй статьи, который, болезненно сощурив глаза, следил за тем, как его товарищи в полном боевом снаряжении покидают корабль.
Тучи опустились низко‑ низко, почти цеплялись за мачты. Каменные дома, затянутые сеткой дождя, выстроились вдоль набережной. Вдалеке из тумана неясно проступал шпиль Петропавловской крепости.
– А мне куда? – спросил Василий у старшины.
Мельком взглянув на документы, старшина сказал:
– Раз тебя направили к нам, будешь здесь! Значит, Василий Бубякин? Очень приятно. Будем знакомы: я тоже Василий. Василий Кузнецов. А этот парень – Мамед Рашидов. Будем считать, что мы и есть главная ударная сила лидера. Лучшие ребята ушли…
Он махнул рукой и замолчал. Круглолицый черноглазый Мамед понравился Бубякину.
– Когда война, – всюду можно воевать, – сказал он весело. – Зачем огорчаться?
Да, на лидере Бубякин крепко сдружился с этими двоими. Оба были из Баку и охотно рассказывали об удивительном городе, о голубом Каспии, о дворце Ширваншахов. Как выяснилось, они все трое дрались за Таллин, потом за Ораниенбаум. Было что вспомнить.
Но вскоре и Мамеда отправили на сухопутный фронт.
– Я тоже просился, а капитан‑ лейтенант Нефедов не пускает, – с плохо скрытым раздражением сказал Кузнецов.
– Правильно решил капитан‑ лейтенант, – отозвался Мамед. – Я уйду, ты уйдешь. Кто останется? Вы с Бубякиным нам помогать будете.
Мамед ушел. Василий видел, как на берегу Рашидов остановился, приложил руку к бескозырке, а потом круто повернулся и стал в строй.
Подошел капитан‑ лейтенант Нефедов, строгий, немногословный, сказал сухо:
– Соберите свой расчет.
А Бубякина включили в этот расчет, он стал артиллеристом. Когда расчет был выстроен, Нефедов произнес с торжественными нотками в голосе:
– Поздравляю вас, товарищи, с большой победой. Только что получено сообщение из штаба морской обороны: сегодня, во время налета фашистской авиации на Кронштадт, нашей морской зенитной артиллерией сбито семьдесят пять самолетов из двухсот, принимавших участие в налете! Ленинградцы называют нас, артиллеристов, огневым щитом Ленинграда…
Краткое сообщение всех воодушевило, Бубякин прямо‑ таки пришел в восторг.
В те осенние дни противник не раз пытался накрыть лидер своими снарядами.
Корабль вздрагивал от близких разрывов и поспешно отходил на новую позицию. Узкая полоска Невы. Тесно, не развернуться. Где он, морской причал?! А до противника всего семь‑ восемь километров. Фашисты подтягивали всё новые и новые батареи к берегу. Штаб дал лидеру задание: огневым налетом уничтожить батареи врага!
День выдался хмурый, ветреный. С неба сыпалась колючая снежная крупа. Матросы дыханием согревали озябшие, покрасневшие руки. Капитан‑ лейтенант Нефедов отдал приказ орудийному расчету открыть огонь по вражеским позициям.
Кузнецов и Бубякин только ждали этого приказа. Там, на берегу, за каждую пядь земли дрались друзья, а корабль за последние дни не сделал ни одного выстрела.
Бубякин залюбовался рослым, красивым Кузнецовым. Один вид его успокаивал матросов.
– Ну, тезка, начнем! – сказал Кузнецов Бубякину.
Ухнул первый залп. Тугой воздух ударил в уши. Залпы гремели один за другим. Ожил берег, завязалась артиллерийская дуэль.
Где‑ то высоко над головой с тонким звоном пронесся снаряд. Другой разорвался у самого борта. Упал установщик прицела Сизов. Палуба окрасилась кровью. Санитары унесли его.
Бой продолжался. Но и Кузнецов, и Бубякин понимали, что фашистам удалось засечь корабль. Ясно было и другое: артиллерия лидера била метко – батареи противника стали понемногу смолкать.
«Кажется, все идет к концу…» – отметил про себя Бубякин.
Внезапно появился новый звук. Авиация! Авиации Бубякин побаивался. Сейчас творится то же самое, что было тогда неподалеку от бухты Синимяэд…
Он не ошибся. Вражеские самолеты с воем проносились над морем. Вновь ожили батареи на берегу. Корабль лавировал, стремясь уклониться от прямых попаданий снарядов.
Брызнуло пламя. Бубякин не сразу понял, что произошло. Он увидел, как Кузнецов схватился обеими руками за живот, присел и упал на палубу. Бубякин подбежал к нему.
– Вася, друг, что с тобой… обопрись…
– Марш к орудию! – закричал Кузнецов.
Бубякин повиновался, кинулся к орудию. И не заметил, как от раскаленных осколков загорелся мешочек с пороховым зарядом. А тут же, рядом, лежали приготовленные к стрельбе снаряды.
Не видел Бубякин и того, как истекающий кровью Кузнецов подполз к горящему заряду и руками прижал его к груди, стараясь задушить пламя. Кожа на руках мгновенно почернела, стала лопаться. Задымился бушлат.
Кузнецов подполз к борту. Позади оставался кровавый след. Последним рывком Кузнецов швырнул за борт горящий заряд и замер. Навсегда.
Вот тогда‑ то Бубякина здорово гвоздануло. Осколки впились в тело, и он грохнулся на палубу. Пришел в себя в перевязочной. Здесь увидел Кузнецова. Он лежал с закрытыми глазами, бледный, неживой. Вокруг стояли матросы. Они сняли бескозырки.
Так Бубякин потерял еще одного друга. А его самого снова отправили в морской госпиталь. Здесь он провалялся недолго. Едва начал ходить, как выписали и направили в Пулково. Что такое Пулково, он знал понаслышке. Обсерватория, меридиан… Фашисты бросили на Ленинград триста тысяч отборных войск, тысячи танков, орудий и самолетов. Огненное кольцо, сжимавшее город, становилось все уже и уже. Пулковский рубеж был лишь звеном в цепи других рубежей обороны: Лигово, Кискино, Верхнее Койрово. Еще имелись районы Московской Славянин, Шушар, Колпина. Бубякин удивился, как близко проходит Пулковский рубеж от Ленинграда: отсюда были хорошо видны Адмиралтейская игла и купол Исаакиевского собора. Собственно, никаких высот Василий не увидел: длинная гряда, вернее, три слившихся воедино холма. Главный холм, как ему объяснили, поднимается над уровнем моря всего на семьдесят пять метров. Тут‑ то, на этом холме, и находилась знаменитая обсерватория. На юге виднелись Кавелахтские и Дудергофские высоты с Вороньей горой, поросшей лесом. Оттуда беспрестанно садили по Пулкову батареи противника. Над Красным Селом поднимались клубы густого дыма – там горели дома.
Бубякин уже слышал о недавней схватке с врагом группы комендоров морских орудий у Глиняной горки. На них напали фашистские автоматчики. Моряки сцепились с ними в рукопашную, передушили по одному. Комендоров поддержали ополченцы. Молодцы ребята! Как жаль, что тогда с вами не было Бубякина… Но и к комендорам его не послали. Не послали и в 7‑ ю морскую бригаду. Он даже был несколько озадачен. «Может, потому, что у меня лицо такое от ожогов? » – гадал он.
Впервые почувствовал себя бесконечно одиноким. Ни одного знакомого! В госпитале он со многими сдружился, у моряков расспрашивал, не знают ли о судьбе подводной лодки «Щ‑ 305», не встречались ли с Иннокентием Макухиным. Все верил, все надеялся. Но никто ничего утешительного ему сказать не мог. Много нашего брата‑ морячка полегло и в Эстонии, и под Ленинградом… Иногда он доставал из портсигара последнее письмо Кати Твердохлебовой Иннокентию и тупо перечитывал его. Прежней злости на Катю не было. Ладно, живите счастливо… Должен же кто‑ то добывать сейчас руду. Руда очень нужна. А какой вояка из того же Пашки Неганова? Плоскостопие да и худосочный парень‑ то, чего нашла в нем Катя? Значит, Иннокентию не судьба…
Эх, встретить хотя бы одного знакомого!
Знакомого не встретил. Наверное, с подводной лодки так никто и не спасся тогда.
Горячее было время, горячее. Только за один месяц фашистские самолеты сбросили на Ленинград почти пятьдесят тысяч зажигательных бомб и тысячу фугасных. Люди не успевали тушить пожары. Гитлер решил сровнять Ленинград с землей, а население уничтожить.
Враг вплотную подошел к Пулковским высотам. Дивизия народного ополчения, оборонявшая высоты, обливалась кровью. Спешно прибывали добровольцы из Выборгского, Дзержинского, Василеостровского и других районов Ленинграда.
Командир дивизии генерал‑ майор Зайцев и комиссар Смирнов, конечно, жалели интеллигентный люд, старались использовать на подсобных работах, но добровольцам такое отношение казалось чуть ли не оскорбительным, и каждый из них жестоко отстаивал свои права на передовую. В числе этих интеллигентов был и некий Дягилев, с которым бывалому моряку пришлось вскоре познакомиться.
Здесь, на Пулковских высотах, начальник штаба майор Гуменник небрежно перелистал его документы, несколько минут разглядывал Бубякина красными от бессонницы глазами, потом сказал озабоченно:
– Куда же определить тебя, морячок? Сибиряк. На медведя небось хаживал?
– Было дело. На берлогу – это мы запросто…
– А как это вы берлогу обнаруживаете? – неожиданно заинтересовался майор.
– Так то проще пареной репы. У нас в Сибири сугробы – метром меряй. Идешь, скажем, на лыжах по тайге. Мороз градусов пятьдесят. Глядь, а из снежной отдушины валит пар. То она и есть, милая. Медведь – зверь беспокойный…
– Ну, а кем работал до призыва?
– Всяко. Был одно время кладовщиком на складе взрывчатых материалов. О Заярском руднике, наверное, слыхали. На том руднике мою карьеру погубила самая обыкновенная полевая мышь. Я с детства тех мышей боюсь – пужаный, значит. Ну, мышка пробралась в склад, залезла в мой сапог. Стал я натягивать сапог. Голенище узкое. До половины натянул. Тут мышка заволновалась, стала подпрыгивать. Заорал я благим матом, упал, стал по полу кататься. Прибежала охрана. Начальник склада на меня волком смотрит: «Что же это, говорит, вы мышей среди динамитов развели? А если эта тварь в ящик с детонаторами заберется? Взлетит все имущество вместе с вами на воздух… Приказываю переловить мышей! » – «Наймите себе кота, отвечаю, а я мышей ловить отказываюсь. В молотобойцы уйду…» И ушел.
Гуменник хохотал до слез.
– Уморил, морячок. А что, если направить тебя к Черемных? Она девушка с понятием, тоже сибирячка. Найдете общий язык. А впрочем…
Майор нажал на кнопку зуммера телефона:
– Пятый. Пятый? Черемных к Третьему!
Через несколько минут в штабную землянку вошла девушка в короткой, ладно пригнанной по фигуре шинели. Ее сердитые черные глаза без интереса скользнули по лицу Бубякина, и неожиданно он показался себе удивительно нескладным, чересчур высоким, сгорбился, втянул голову в плечи. Так вот она какая, Черемных! Тонкое смуглое лицо с косыми жесткими бровями, слегка вьющиеся волосы, выбивающиеся из‑ под кубанки, запекшиеся от ветра губы.
– Молотобойцем работали? – внезапно обратилась она к Бубякину.
Потрясенный такой проницательностью, он пробормотал:
– Так точно.
– Об этом не трудно догадаться. Не возьму я его, товарищ майор.
– Почему же?
– Вы знаете, почему бог сделал слона серым?
Глаза Гуменника блеснули недобрым огоньком, он поднялся, схватившись веснушчатыми руками за край стола.
– А я вас и не спрашиваю, товарищ лейтенант! Возьму – не возьму… Вы мне эти штучки бросьте. Вас, если хотите, за глаза величают «еловой шишкой». Забирайте человека!
Бубякин решил тогда, что пора вмешаться:
– Я не навязываюсь. Рост у меня – в самом деле сплошная демаскировка. Кроме того, просился в 7‑ ю морскую бригаду, к своим, а меня сунули сюда.
Начальник штаба взревел:
– Вы мне здесь базар не устраивайте! Вон отсюда…
Черемных схватила Бубякина за локоть, и они побежали к двери. Оглянувшись на ходу, Бубякин увидел, как начальник штаба беззвучно смеется. Он даже успел подмигнуть: держись, мол, морячок! Очутившись на воздухе, они остановились, перевели дыхание. Черемных расхохоталась:
– Ну как? Хорош. Нечего сказать. Одним словом, гуменник. Знаете такую птицу?
– Знаю. Крупный гусь с черным клювом и ярко‑ желтой перевязью.
– Ладно, давайте знакомиться…
В тот же день батальон немцев перешел в атаку на высоту Глиняную, где размещалась школа снайперов, и матросу Бубякину пришлось сразу же взять винтовку в руки. Когда враг отошел, Наташа сказала:
– Каждый день такое. Привыкайте. На первый раз держались неплохо.
Это была не похвала. Это была оценка поведения человека. И ничего больше. Деловитый будничный тон.
Очень часто Бубякин смотрел на смуглый лоб Наташи и удивлялся: откуда в этой девушке глубокое знание такого сурового, не женского дела, как война? Черемных сама выискивала и подготавливала для учеников новые позиции, изучала расположение огневых точек и блиндажей противника, следила, когда немецкие солдаты пробираются за обедом, сменяют посты. Как только начинался артиллерийский обстрел, она вместе со своими «гусятами» (как она называла учеников) искусно переходила на запасные позиции, чтобы сразу же после прекращения огня снова выдвинуться на самый передний край. Снайперское правило – все вокруг видеть, а самому оставаться незамеченным – не было новинкой для Бубякина. Он считал себя прирожденным стрелком. Но вскоре понял, что это не так. Снайперская винтовка, как это ни странно, оказалась тяжеловатой для его рук. Особенно при стрельбе навскидку. Пришлось тренироваться. А хрупкая на вид Черемных была неутомимой, без особого напряжения стреляла и навскидку, и стоя, и с колена. Это не могло не удивлять.
К Бубякину Наташа относилась ровно, без насмешек. Просто он был для нее одним из многих. Матрос лез из кожи, чтобы отличиться, напрашивался на самые рискованные задания, пытался поразить хорошим знанием местности и даже придумал особую движущуюся мишень для тренировок. Но Черемных принимала все это как само собой разумеющееся. Кому же, если не сибиряку, отличаться!..
Реванш Бубякин брал по вечерам в землянке. Рассказывал сибирские и морские истории. Слушали его с раскрытыми ртами. Врал он немилосердно и не обижался, когда не верили.
– У нас в Сибири миллион больше, миллион меньше – не имеет значения. Сопки до неба. Деревья – во! Рыба – во! Медведи на балалайке играют.
Бубякин был всеобщим любимцем. Знал это и гордился. Даже Черемных смеялась вместе со всеми, когда он рассказывал свою путаную биографию. Биография состояла из ярких таежных эпизодов: «О том, как я был пасечником», «О том, как мы заблудились в горелой тайге», «О том, как я нашел золотой слиток и что из того вышло», «О том, как я попал в заколдованное место и напился живой воды».
– А почему вы решили, что вода живая? – спрашивала Черемных.
– В народе сказывают. Кто той воды испьет, для пули совершенно неуязвим. Не верите?
– Верю. Есть много вещей, еще не познанных. Если, к примеру, произнести общеизвестное заклинание, которому меня научила бабка Маланья, – «летела сова из красна села, села сова на четыре столба», – то обязательно попадешь в яблочко. Я много раз испытала. Попробуйте. Или заклинание для раззяв: «Не доглядишь оком, заплатишь боком».
Солдаты смеялись. Однажды Бубякин замешкался и послал пулю «за молоком». Вот тогда‑ то Наташа в сердцах назвала его раззявой. Но он не обиделся. Поделом.
– Кстати, о золотых слитках, – продолжала она. – Я родилась на прииске и не раз держала в руках золотые слитки, которые находил мой отец. Ну а если говорить о чудесах, то однажды ко мне в руки попал самый крупный сибирский алмаз – величиной с голубиное яйцо. Я играла им несколько лет.
– Ну, это действительно чудеса! – подал голос новичок Николай Дягилев. – Насколько мне известно, алмазы в Сибири не встречаются.
Наташа снисходительно улыбнулась.
– Бубякин подтвердит, что в Сибири встречается все. Даже алмазы. Если их поискать как следует.
– Покажите ваш алмаз.
– Он лежит в кимберлитовой трубке. Закончится война, отправлюсь на поиски сибирских алмазов. Ведь я по профессии – геолог.
– Дело за небольшим, – усмехнулся Дягилев.
Она вскинула брови:
– К мечте вернуться никогда не поздно!
И этот Дягилев посмотрел особым умным взглядом на Черемных, сказал негромко:
– Может быть, вы и правы.
Тут его впервые все и заметили. Был человек как человек. Молчаливый, неприметный. Роста среднего. Сухощавый. Щеки плоские как дощечки. По определению Бубякина – «не орел». И вот «не орел» заговорил. Даже посмел допрашивать Черемных.
– А из каких вы мест конкретно?
Бубякину хотелось прицыкнуть на него. Но Наташа словно не заметила бестактности новичка, улыбнулась благожелательно:
– Из каких мест? Есть такое милое местечко километрах в шестистах от Оймякона.
– Так далеко? Как же вы попали в Ленинград?
– Захотела попасть и попала. Тот самый алмаз привел. Длинная история.
Он не стал настаивать.
И с тех пор в тревожных бредовых снах Бубякину мерещились голубые алмазы, которыми играла Наташа, подбрасывая их словно камешки.
Матрос понял, что влюблен. Эта любовь в двух шагах от смерти цеплялась за выжженную, голую землю. Лучше бы ее совсем не было, этой любви… Но она была! Была вопреки всему, цвела голубым огнем. Бубякин поскучнел. Не рассказывал больше по вечерам веселых историй. Однажды, когда вражеская пуля черкнула его по каске, Черемных раскричалась:
– Ворон ртом ловишь! Вот доложу Гуменнику…
Впервые она назвала его на «ты». Начальнику штаба не доложила. Бубякин стал осмотрительнее. И вскоре даже заслужил похвалу Наташи. Ему удалось выследить и взять на мушку известного немецкого снайпера капитана Штерца.
– Да ты герой, Бубякин! – восторгалась Наташа. – За такое дело можно тебя в щечку поцеловать…
А он чуть не умер от счастья. Ему даже стало жаль этого глупого Штерца, который подставил голову под пулю.
– Я их, Наталья Тихоновна, всех переколошмачу! Денно и нощно в засаде буду…
Гуменник сам приколол к груди матроса орден. Теперь Черемных поручала ему занятия с новичками. Бубякину докучали корреспонденты из фронтовой газеты. Появилась листовка с его портретом. Не так давно начальник штаба пообещал:
– В Ленинград поедешь. По радио выступишь, поделишься боевым опытом.
Матрос купался в лучах славы. Счастье омрачали мысли об одном человеке, на взгляд Бубякина, самом никудышном: о новичке Николае Дягилеве. Откуда он взялся, этот Дягилев? Винтовку как следует в руках держать не умеет. А на губах всегда улыбочка, и не поймешь, чему он улыбается. Бубякин суетится возле него, старается научить уму‑ разуму, а он даже бровью не поведет, только знай себе улыбается. И эта неопределенная улыбка стала бесить матроса.
– А чего ты, собственно, улыбаешься, салага? – спросил он как‑ то под горячую руку.
Дягилев посмотрел на него прозрачными глазами и спокойно сказал:
– Одно время я увлекался оптикой. И должен отметить: у нас некоторые мастера меткого выстрела, к сожалению, до сих пор не умеют пользоваться оптическим прицелом. – И он пронизал строгим взглядом Бубякина.
Матрос опешил:
– Это я‑ то не умею?
– Вы!
А потом минут двадцать Бубякин слушал лекцию об устройстве оптического прицела. Слушал с глубоким интересом. Присмирев, попросил:
– Вы бы ребятам обо всем этом рассказали. Очень даже полезные сведения.
С каждым днем Бубякин открывал в новичке всё новые и новые качества. Оказывается, он боксер. Стреляет метко, хоть и не по правилам. А в беге и в прыжках с ним тяжеловесному Бубякину вообще невозможно состязаться. Даже в теории взрывного дела он, оказывается, разбирается. Кроме того, Дягилев знал много такого, о чем Бубякин не имел даже смутного представления. Например, теория относительности, теория вероятностей, строение вещества. Когда Дягилева просили, он охотно рассказывал обо всех этих замысловатых вещах. И если матрос пытался вставить замечание, привлечь внимание к себе, грубо обрывали:
– Дай послушать умного человека.
Самое страшное заключалось в том, что к разглагольствованиям Дягилева прислушивалась даже Черемных. Спорила с ним, горячилась. А он все так же загадочно улыбался. Потом они спорили, уединившись. И матрос Бубякин с тоской думал: зачем людям знать, есть ли жизнь на других планетах и как устроено вещество? Так ли уж это важно сейчас, когда земля горит под ногами? Конечно, говорят, этот Дягилев из ученых, кандидат каких‑ то там наук. Имея за плечами шесть классов, с ним трудно тягаться. Убей Бубякин хоть сотню фашистских асов, Наташа все равно будет слушать Дягилева, а не его. Ежели бы Бубякину образование, тогда бы еще посмотрели, кто умеет лучше рассуждать про теорию…
Разве не он, Бубякин, подстрелил фашистского аса? Он смел, находчив, обладает смекалкой, физически вынослив…
Но матрос понимал, что всеми этими воинскими качествами можно порадовать начальника штаба Гуменника, а не девушку. Он страдал. И ему представлялось по‑ своему уютное котельное отделение эсминца, куда он часто забредал, гудящие форсунки и боцман Лопатин, любящий изрекать цитаты из «Памятки котельному машинисту»: «Внимательно следи за бездымным горением в топке котла. Помни о том, что бездымность – это экономия мазута и скрытность продвижения корабля». Вернись он на флот, не пришлось бы терзаться глупой любовью…
Бездымность – экономия мазута… Это тебе не теория вероятностей!
Ушла с Дягилевым. Испытать его на «живучесть»… Вот и ухлопают вас по той самой теории вероятностей!
Бубякин заскрипел зубами.
– А ты, Бубякин, не скрегочи, – отозвался сосед Охрименко. – Плевать она на тебя хотела… Образованием не вышел!
Они брели, окутанные снежной пеленой. Перед башней Наташа остановилась, дернула Дягилева за рукав:
– Зайдем!
Возможно, ей хотелось передохнуть, перевести дыхание от колючего ветра. До рассвета было далеко, и они могли не спешить.
На головы осыпалась бахрома инея. В башне было глухо, как в колодце. Только вверху гудело на низкой ноте, тягуче, противно. В середине стояла треснувшая во всю длину чугунная колонна рефрактора. На полу валялись исковерканные части монтировки, пробитая осколками снарядов труба. Над головой снова полыхнуло зеленым. А потом сделалось еще темнее и неуютнее. Но в неверном зеленом свете Наташа успела разглядеть лицо своего спутника. Строго угловатое, желто‑ зеленое. Блеснули глаза под резкими дугами бровей. Горькая усмешка, зажатая в углах губ.
Кого он напоминает? Кого он напоминает?.. Ей захотелось вспомнить, кого же он напоминает в конце концов! И взгляд этих спокойных внимательных глаз. И в то же время в них есть что‑ то тревожащее, отчуждающее. Словно перед тобой существо совсем незнакомого мира. Ей захотелось говорить, говорить без умолку. Но она молчала.
– О чем вы думаете?
Наташа вздрогнула.
– Жутко здесь. Сто лет простояла эта башня. А теперь все выжгли, будто упал большой метеорит. Знаете… Где‑ то тут зарыт камень. А под ним – платиновая медаль и золоченая дощечка с именами тех, кто создал обсерваторию. Все, что осталось…
– Вы бывали здесь раньше?
– Я же говорила… Впрочем, собиралась сказать… Много раз. И в этой башне. Смотрели на звезды и читали стихи. Вам приходилось видеть развалины в пустыне? Саксаул, как обглоданная кость, и желтые стены, заметенные песками. В прошлом году весь наш факультет проходил практику в Средней Азии. А до этого я ездила к себе на родину, в тайгу. Слышали когда‑ нибудь о комете Назарина?
Дягилев пожал плечами. Нет, о такой комете он не слыхал. Он никогда не интересовался астрономией.
– Эту комету открыл один молодой астроном, мой друг. Он руководил нашими практическими занятиями по астрономии и геодезии. А теперь его, возможно, уже нет в живых… А комета вечно будет бороздить мировое пространство… Мы тогда сидели на балконе и читали стихи. Блока.

Опять наверху зажглась ракета, и Дягилев увидел густые, скошенные к вискам ресницы Наташи. И он невольно подумал, что если бы был художником, то обязательно нарисовал бы вот эту пустую башню, нацеленную в небо, треснувшую черную колонну, девушку со снайперской винтовкой, тоненькую девушку с такими большими печальными глазами, устремленными вверх…
– Вы его очень сильно любили? – спросил Николай каким‑ то чужим голосом.
Она не ответила. Может быть, ей представилась та, другая ночь, мирная, звездная, с таинственными шорохами и душными запахами прелой земли и весенней листвы. Серебристые купола башен с широко раскрытыми люками. Красивый юноша на фоне темного силуэта телескопа. Он читает стихи. Далекие галактики и его мягкий ласковый голос… И любовь тогда измерялась световыми годами, и все было необычно в ту ночь…
– Почему же – любила? – отозвалась она наконец. – Я люблю его и сейчас. Если даже он мертв. В последнее время он был занят изучением физических условий на Марсе. Он умел мечтать и в то же время оставаться трезвым, когда дело касалось научных фактов. Помню, он говорил: «Когда Мопассан грезит о гигантской бабочке, порхающей со звезды на звезду, я понимаю его. Но я знаю: Марс – это, наверно, безжизненная пустыня. Глупо думать, что его когда‑ нибудь населяли разумные существа. Я – человек фактов». Мне всегда казалось, что в нем заложен могучий дух. А вы любили кого‑ нибудь?
Дягилев смутился. Любил ли он? Да, что‑ то было похоже на любовь. Ему вспомнилась прошлая осень. Тогда они с математиком Мартином Лааром на каникулы уехали в Эстонию. Забирались в чащобу, охотились, скитались по болотам. С Линдой, сестрой Мартина, иногда брали рыбацкую лодку и уходили в море. Когда уставали руки, Линда, сильная, проворная, забирала у Николая весла. Он присаживался к рулю, видел распущенные, желтые, как янтарь, волосы, глаза каленой синевы, туго натянутый свитер с белой полосой на груди. Бил в лицо соленый ветер, мерцала сквозная синева. Линда пела на своем языке. В ней было что‑ то пружинистое, раздражающее. Желтым вечером они вытащили лодку на песок и пошли в дюны. Николай взял Линду за плечи и привлек к себе. Она легко высвободилась, отбежала на несколько шагов, показала красный узкий язык и скрылась среди песчаных бугров. К хижине он вернулся один. Здесь его уже поджидали Мартин и дед Юхан. Этим летом Лаар и Линда снова уехали к себе на родину. Вернуться они не успели. Теперь там немцы. Что сталось с Мартином, Линдой, дедом Юханом?..
– Почему это так, – сказал он, – любимым мы читаем Блока? Ведь, в сущности, Блок – трудный для восприятия поэт. Нюансы. Может быть, трудный только для меня? Я ведь больше привык к языку формул, к математической логике. А поэзия апеллирует главным образом к чувству.
– Я так и не могла дознаться, чем вы занимались там, в своей лаборатории. Опыты? Сталкивали лбами электроны и протоны?
Он усмехнулся.
– В основном сталкивались лбами с профессором Суровцевым, нашим руководителем. Упрямый старик. Мы проектировали большую машину. А теперь он не пожелал эвакуироваться. Остался в лаборатории. Вывезти оборудование не успели. Ну, он и остался со своим лаборантом Карлом. Другие сотрудники ушли на фронт.
– Блока я понимаю. Не разумом, а сердцем. Помните это:
Она пришла из дикой дали –
Ночная дочь иных времен, –
Ее родные не встречали,
Не просиял ей небосклон.
Но сфинкса с выщербленным ликом
Над исполинскою Невой
Она встречала легким вскриком
Под бурей ночи снеговой…
И еще мне нравятся стихи Лермонтова. «Демон».
– У вас склонность к мистицизму?
– Не выдумывайте! Говорят, будто Лермонтов был религиозен, а я не верю. Человек, написавший «Демона» и «Героя нашего времени», думаю, не верил ни в бога, ни в черта. Гордость духа байроновская, а вернее, наша, славянская. Ни от кого столько не доставалось богу и его присным, как от русского мужика‑ матерщинника.
Он усмехнулся.
– Первоначально ругательства играли роль заклинаний. Когда долго не было дождя, мужик поднимался на бугор и, потрясая кулаками, начинал выкрикивать свое мнение о боге и его матушке, ожидая громов и молний на себя.
– Вы мастер сочинять. Ничего такого не было. Но объясните: почему первая фашистская бомба упала в Ленинграде, в сквере, рядом с бюстом Лермонтова? Говорят, осколок вошел в левый и вышел в правый висок. Еще одна дуэль?
– Да, это символично. Вандалы всегда начинают с уничтожения людей искусства и литературы, их творений. Ведь они – самые бесстрашные обличители варварства. Я хотел бы после войны встретиться с вами именно в Ленинграде. Ну, у сфинксов или у Ростральных колонн. Или на одной из аллей Летнего сада.
– Вы угадали. Пространство между двумя сфинксами – мое любимое. Да, да, самое любимое. Удивительное дело: когда я впервые попала в Ленинград, то показалось, будто раньше жила здесь. Хотя ничего подобного не могло быть. Без подсказки знала, где искать Летний сад, стрелку Васильевского острова, как попасть на Петроградскую сторону. Все, все знала. А у вас есть любимое место в Ленинграде? Ну, куда вы всегда приходите в свободные часы?
Он задумался:
– Мне нравилось ходить по набережным. Я их все исходил.
– А я, как заводная, вышагивала от одного сфинкса к другому. Особенно перед экзаменами. Говорят, это настоящие сфинксы, их привезли из Египта.
– Совершенно верно. Они украшали заупокойный храм фараона Аменхотепа Третьего.
– Вид сфинксов всегда как‑ то успокаивал меня. Начинала думать о вечности, и мелочи жизни, неприятности отступали на второй план. Ведь неприятности, даже самые крупные, отступают перед вечностью.
– У вас случались неприятности?
– Ну, этого добра всегда хоть отбавляй. Только у меня с самого начала не все как у людей. Якут Данила объяснил, что по ихнему старому календарю я родилась в год Змеи или Скорпиона, не помню уже точно.
Он заинтересовался:
– Что вы имеете в виду, когда утверждаете, что у вас все не как у людей?
– Ну хотя бы этот алмаз… Думаете, ради красного словца тогда говорила об алмазе, чтоб повеселить солдат?
Для них сказка, да и только. Да и кто из них видел хоть раз в жизни алмаз? Вы, к примеру, видели?
Дягилев как‑ то неопределенно хмыкнул:
– Не приходилось. Я вырос в обыкновенной рабочей семье, родом из Саратова. У нас там с алмазами туго. Не то что у вас в Оймяконе.
– Опять поддразниваете? – рассердилась она. – Так вот знайте: все, что расскажу, – сущая правда. В детстве я встретила необыкновенного человека. Геолога Ивана Григорьевича Теплухина. Иногда я думаю: а что, если бы встречи не было? Жизнь, наверное, сложилась бы совсем по‑ другому. Так бы и осталась в поселке своем. А поселок наш, как уже говорила, находится километрах в шестистах от Оймякона.
В тех краях в двадцатые годы было почище, чем во всех джек‑ лондоновских клондайках. Мало кто знает, что, когда открыли золото на незаметном ключе, туда ринулись тысячи вольностарателей. Пробирались по пояс в снегу, тянули за собой санки с провизией, мерли от голода и цинги. Шли через тайгу и зыбучие мари. В 1925 году все прииски были объявлены предприятиями всесоюзного значения. Вот тогда‑ то и послали в тот поселок моего отца и мою мать – оба были техниками‑ геологами. Мать очень скоро возненавидела золото. Отец сделал ей кольцо из бронзы. Я храню его. Бронза в наших местах считается символом верности. Тоже ненавижу золото. Наблюдала, как алчно загораются глаза старателей, когда они смотрят на дно лотка, где в черном шлихе блестят золотые крупинки. До сих пор в ушах звенят кайлы, которыми били по вечной мерзлоте. Якутия… В наших местах – невысокие оголенные горы, печальные, безжизненные. В них навсегда застыла первозданная унылость. Я почему‑ то побаивалась этих пологих бледно‑ коричневых холмов, они отделяли наш поселок от остального большого мира, словно бы стерегли. Зверские морозы. Полюс холода, одним словом. Представьте себе несколько бревенчатых домов, стоящих вразброс. Дома, амбары, юрты якутов. Здесь был прииск, но порода оказалась бедной, прииск закрыли, приискатели разбрелись кто куда. А мой отец, техник‑ геолог, остался. Вообще, когда мать умерла, он сделался вроде как бы не в себе, не хотел никуда уезжать от ее могилы. Я мать помню плохо. Моей нянькой, по сути, был старый якут Данила, юрта которого стояла рядом с нашей избой. Когда отец уходил промышлять белку, Данила присматривал за мной. Я хорошо помню его юрту. Камелек с широкой прямой трубой, выходящей наружу, лавки, устланные оленьими шкурами. У себя дома мы тоже спали на таких лавках – оронах. В свое время Данила был приискателем. По укоренившейся привычке он иногда совершал на своем олене поездки в верховье реки, где у него была припрятана бутара – ящик для промывки золота. Он был убежден, что на галечниковых косах должно прятаться золото, но намыть так ничего и не удавалось.
Данила знал много якутских сказок, по‑ русски он говорил хорошо, и, собственно, я воспитывалась на якутском фольклоре, моими героями были Чаачахаан и Ала‑ Могус. Чаачахаан – хитрый старик, а Ала‑ Могус – чудовище, пожирающее всех. Мне особенно нравилась сказка про Парня‑ сироту, которого унес Парень‑ вихрь. Парень‑ вихрь все ключи от своих амбаров доверил Парню‑ сироте. Кроме одного. Когда Вихрь отлучился, Парень‑ сирота взял запретный ключ. В запретном амбаре стоял серебряный гроб, а в гробу – девушка невероятной красоты, которая сразу же ожила. А потом, разумеется, вышла замуж за Парня‑ сироту. Она оказалась царской дочкой. И все в таком духе. Из своих дальних поездок Данила привозил мне прозрачные топазики, фиолетовые аметисты, слоеные агаты, кристаллы дымчатого кварца, золотистого до черноты. Было у меня гнездо темно‑ красных гранатов в темно‑ серой зернистой породе. Особенно полюбился голубоватый камень, который тлел на солнце всеми цветами радуги. Я могла забавляться им часами. Думаю, это был волшебный кристалл. Когда я вглядывалась в его глубины, то видела дальние страны, пальмы, берег океана с бесконечным песчаным пляжем или же лица людей. Я грезила наяву. О дальних странах и городах иногда рассказывал отец. Теперь я понимаю: он был романтиком. Мечтал открыть золотую жилу, чтоб загудели наши малолюдные места. Наверное, он был честолюбивым, так как мечтал о большой славе. А возможно, ему хотелось, чтобы моя мать гордилась им. Ведь он любил ее без памяти. Он был напичкан всякого рода возвышенными афоризмами и пытался втолковать их сокровенный смысл мне. Ах да, о голубом камне… Этот камень сыграл особую роль в моей жизни. Не будь камня, возможно, я не потеряла бы отца, не оказалась бы в Ленинграде и, конечно же, не встретила бы вас. Судьба человека подчас зависит от каких‑ то, можно сказать, нелепых случайностей. На уроках химии нам говорили о хаотическом, броуновском движении частиц. Так и судьба людей заполнена часто хаосом, и куда тебя вынесет, не знает никто.
Вот вы всякий раз ополчаетесь против всего, что мешает людям жить крупно. Вы хотите, чтоб все всегда жили под высоким напряжением. Но всем ли по плечу подобная ноша? А иногда случай вмешивается в нашу жизнь, может вознести или раздавить, как букашку. Раньше я не придавала значения случайностям, а теперь прониклась к ним почтением.
Я тысячу раз могла потерять тот голубой камешек. Мы, поселковые ребятишки, обычно менялись камнями. Мне предлагали за голубой кристалл самый настоящий яшмовый опал и настоящий турмалин и кусок самородной серы в придачу, но я отказалась. Те камни казались мне мертвыми, а в моем жила радуга. Отец, как‑ то повертев его между пальцами, безразлично сказал: «Горный хрусталь…» Я запомнила звучное название. Струганцы горного хрусталя в наших краях встречались часто, им не придавали значения. Попадались бесцветные водянопрозрачные кристаллы, мутно‑ голубой кварц, дымчатый, молочный. Местные шаманы вешали алкоголикам фиолетовые аметисты, которые якобы охраняют от опьянения. Смешно, но факт. Я про каждый минерал могла рассказать целую историю. Вам приходилось когда‑ нибудь видеть занорыш в пегматитовой жиле? На его стенках сверкают кристаллы, и это волшебное зрелище.
– А что такое этот самый занорыш? – робко спросил Дягилев.
– Ну, друзовая пустота.
– Ладно. Обойдусь. Продолжайте историю камня вашей судьбы.
– В самом деле, я отклонилась. Как все произошло? Помню, стояла «красная ночь». Ну, наподобие здешних белых ночей. Только у нас они красные. Висит на небе красное солнце – вот и красная ночь. В то время в нашем поселке, забытом богом и людьми, появилась поисковая геологическая партия Ивана Григорьевича Теплухина. Состояла она всего из пяти человек. На исходе весны они отправились в долину реки Момы. Как я узнала позже, Буордахский горный массив в бассейне Индигирки был самым неисследованным. Здесь экспедиция обнаружила мощные ледники. Это было очень важное открытие, так как до последнего времени даже возможность существования значительных ледников в наших краях категорически отрицалась большинством ученых‑ географов. Теплухина интересовала геология легендарного вулкана, который якобы находится на правом берегу Момы. Свой вулкан Теплухин нашел. Теперь, много лет спустя, я начинаю понимать, что Иван Григорьевич был незаурядным человеком, ученым высокого ранга. Буквально по крупицам я собирала сведения о нем, в геологической библиотеке нашла его публикации, очень короткие, но оригинальные. В одной из работ он поднимал вопрос об использовании эвристических методов[2] в геологии, что до сих пор остается нереализованным, даже накрепко забытым. А он пытался определить совокупность логических приемов и методических правил в отыскании истины в геологической науке, пропагандировал математический подход к обработке геологической информации. Вам, как ученому, такое стремление должно быть понятным. Я прочла его статью «О единстве задач в геологии, геохимии и геофизике на математической основе». Насколько я понимаю, он намного опередил свое время. Он призывал учиться дешифровывать крупные геологические структуры, отыскивая в них сокровенный смысл. Я сразу же поклялась себе посвятить этому делу всю свою жизнь. Когда я заговорила об этом с одним из преподавателей, он осмеял меня. «Вы хотите подменить науку своего рода искусством, интуицией. Оставьте это шерлокам‑ холмсам из милиции». Так одной фразой можно убить великую идею. Фамилия этого ортодокса Трескунов. Познакомилась я с ним давно, ведь он был заместителем начальника экспедиции Теплухина. Теплухину хотелось проработать весь летний сезон в районе Буордахского горного массива, проверить кое‑ какие свои догадки, которые он до этого излагал в статьях, но экспедиции не повезло: продовольствие было на исходе, пали три лошади. И в довершение ко всему заболела сотрудница. Она требовала, чтобы ее немедленно отправили в Оймякон. Напрасно начальник экспедиции уговаривал ее «потерпеть немного». Неожиданно заместитель Теплухина Трескунов встал на сторону сотрудницы. Он доказывал, что главная задача – открытие ледников – выполнена. Пора возвращаться. Так как заболевшей становилось все хуже и хуже, Теплухин решил добраться до ближайшего поселка, где, возможно, есть фельдшер. Так экспедиция очутилась в нашем поселке. Им указали на нашу избу. Здесь они и разместились с молчаливого согласия отца. Больную уложили на широкую лавку – орон, укрыли одеялом. Звали ее Евгения Михайловна. Меня поразила ее красота. Еще не приходилось видеть таких красивых, нежных девушек. Конечно же, она не была приспособлена для трудной экспедиционной жизни. Ее взяли как практикантку. Мне тогда только что исполнилось тринадцать, но я уже кое в чем разбиралась и поняла: и Теплухин и Трескунов – оба они влюблены в свою спутницу. Со мной она была приветлива и ласкова, называла деточкой, рассказывала о Ленинграде, откуда приехала в наши края. Ее заинтересовала моя коллекция камней. Она рассматривала каждый камешек, но я как‑ то сразу догадалась, что разбирается она в них плохо. А она сказала:
«Хорошая коллекция. Когда вырастешь, приезжай в Ленинград, разыщи Евгению Козюкову. Это я. Помогу устроиться в институт или в университет, ты – природный геолог».
Она порылась в своей полевой сумке и подарила мне геологический молоток.
«Возьми! Ты мне нравишься, бурундучок. Это будет как бы пароль. На рукоятке – мои инициалы».
Я была счастлива. И чтобы не остаться в долгу, сгребла в кучу все свои камни, запихала их в кожаный мешочек, протянула Евгении Михайловне:
«Это вам на память».
Она тихонько рассмеялась: ведь все рюкзаки экспедиции были забиты образцами. Подарок она, правда, взяла, но, признаться, я не была уверена, что все это она не выбросит чуть позже. А у меня не было другого подарка. Мамино колечко я не могла отдать.
Неожиданно моей коллекцией заинтересовался Теплухин. Не то чтоб его интересовали сами камешки. Просто ради развлечения он решил проэкзаменовать меня: вынимал из мешочка камень и требовал назвать породу. Оказывается, он составлял полевой определитель минералов здешних мест и хотел знать местные названия. Он, конечно, не знал, что первыми моими книгами были «Определители минералов» из библиотечки отца. Экзамен выдержала. Только раз ошиблась. Тогда, когда Теплухин вынул из мешочка голубоватый камень. Он долго вертел камень между пальцев, и я заметила, как его пальцы неожиданно задрожали, а лицо побледнело. Он зажал камень в руке и почему‑ то негромко сказал:
«Позови отца».
Потом они с отцом о чем‑ то шептались. К ним присоединились Трескунов и Козюкова.
«Все это бред воспаленного воображения! – резко сказал Трескунов. – Алмазы в Сибири? Ну, знаете… Бред, бред…»
«Надо составить акт в присутствии председателя поселкового совета, – сказал Теплухин. – Академия наук наградит вас, – обратился он к отцу. – Открытие величайшей важности! Где вы нашли камень? »
«А вы не ошибаетесь? » – спросил отец.
Я видела, как зажглись беспокойным огнем его глаза.
«Никакой награды нам не нужно, – проговорил он глухо. – Камень откуда‑ то привез якут Данила. Он небось и сам не помнит, откуда».
Мне было велено сбегать за Данилой.
Данила камень сразу признал.
«Помню, помню, я поднял его на том берегу речки. Даже место помню: там есть такой еланчик, его здесь называют хаан харахаан».
«Вы сможете провести нас туда? » – спросил Теплухин.
Старик подумал немного, покачал головой.
«Трудно, однако. Река разлилась. Шибко быстрая. Утонуть можно».
«А если соорудить плот? »
Старик долго не сдавался. Но два геолога‑ фанатика – Теплухин и мой отец – уговорили‑ таки его.
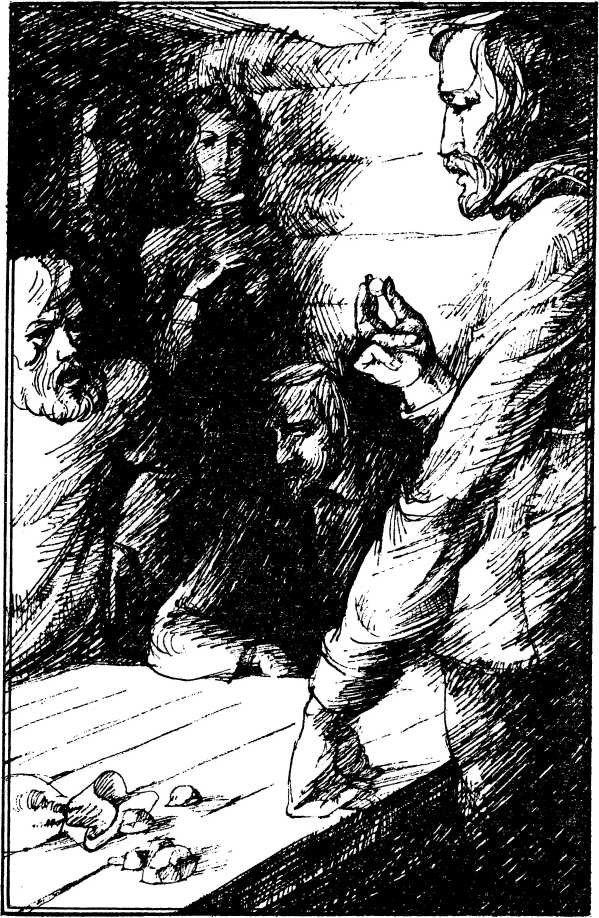
Трескунов наотрез отказался участвовать в опасном предприятии.
«Кто‑ то должен охранять экспедиционное имущество и присматривать за больной. Да и вам не советую».
У меня на глазах Теплухин передал голубой камень Евгении Михайловне.
«Чтобы не возбуждать лишних разговоров в поселке и не привлекать внимания хищных людей, акт составим потом, когда мы вернемся, – сказал Теплухин. – Придумайте, куда спрятать его понадежнее. Никто пока ни о чем не должен знать».
В наших местах бродили мелкие шайки грабителей, и решение Теплухина имело определенный смысл.
Мой отец, якут Данила и Теплухин, чтобы не вызывать излишних толков, двинулись в путь средь бела дня, объяснив встречным, что намерены обследовать низовье реки на золотой песок. Жители поселка, зная страсть Данилы к такого рода вылазкам, только посмеивались про себя – они‑ то давным‑ давно обшарили все вокруг и знали: золотого песка здесь нет и в помине. Кроме того, Трескунов оставался в поселке, и вылазке Теплухина никто не придал особого значения.
Через два дня в поселок вернулась наша собака Пальма. Вид у нее был жалкий, она скулила, словно пытаясь что‑ то сказать. Председатель собрал мужиков, и все двинулись на поиски моего отца, Теплухина и якута Данилы. Их искали целую неделю, но так и не нашли. Должно быть, во время переправы через реку плот перевернулся и все трое попали в водоворот, утонули. Я так была угнетена горем, что совсем забыла про голубой камень. Ведь я осталась совсем одна, а мне едва исполнилось тринадцать. Евгения Михайловна всячески утешала меня. Трескунов все время повторял:
«Я же предупреждал, предупреждал… Какие к черту алмазы? Безумие. Хорошо еще, что в день отъезда Иван Григорьевич забрал этот злополучный кусок хрусталя – наверное, не надеялся, что мы сможем сберечь это фальшивое добро».
Тогда я не обратила ровно никакого внимания на его слова. Мне было все равно.
Вскоре Трескунов и Козюкова уехали в Ленинград, а меня взяла к себе добросердечная бабка Меланья…
Наташа замолчала.
– А Козюкову вам удалось разыскать здесь, в Ленинграде?
– Да, удалось. Она оказалась женой Трескунова Сергея Сергеевича. Вначале я познакомилась с Трескуновым. Он был уже автором труда «Новейшие исследования в бассейне Индигирки». В этом труде скромно упоминалось имя безвременно погибшего талантливого исследователя Теплухина. Так как я решила посвятить диплом петрографии наших краев, Трескунов вызвался быть моим руководителем. Меня занимала и до сих пор занимает загадка кристаллов. Вы человек науки и должны понять. Кристалл возникает из зародыша, питается, растет, изменяет свою форму. Кристаллы могут «поедать» друг друга. Они ведут себя как живые организмы. Часть кристалла по своим свойствам может существенно отличаться от целого кристалла. Я пыталась понять, разгадать, почему алмазы рождаются в Африке и в Сибири? Во вступительной части я рассказала о последних днях Теплухина, о предполагаемом открытии вулкана на берегу Момы, об алмазе.
«Стоит ли, Наталья Тихоновна, упоминать обо всех этих вещах? – сказал Трескунов, ознакомившись с рукописью. – В Сибири есть алмазы?.. Бред! »
«Но я глубоко убеждена в этом! Вы помните тот камень? »
Он пожал плечами:
«Что‑ то не понимаю, о чем вы? Какой камень? Мы привезли из экспедиции сотни образцов. Что вы имеете в виду? »
«То был алмаз. Алмаз! Сибирский алмаз. Я твердо знаю! »
«Одного убеждения мало. Ваш диплом посвящен совершенно другой теме. Мой долг дать вам добрый совет. Боюсь, что ваша вводка вызовет единодушное возражение членов комиссии».
«А я все‑ таки буду настаивать! »
«Э, матушка, жизнь, она обламывает…»
Такие люди, как Трескунов, формально всегда правы. Ведь у меня не было ровно никаких доказательств своей правоты. Камень исчез при таинственных обстоятельствах. В самом ли деле Теплухин забрал его у Козюковой? А если эти двое решили присвоить алмаз? Это уже была бы криминальная история. А главное: никаких доказательств. Диплом я защитила. Правда, под нажимом Сергея Сергеевича пришлось переделать вводную часть.
– И вы уступили?
– А разве вы никогда не уступали своему руководителю профессору Суровцеву?
– Да, конечно. Но те двое, возможно, совершили преступление. И вы единственный свидетель… Вам довелось говорить с Козюковой?
– Да. В последний день перед отъездом на фронт я пришла к ним прямо на квартиру. Профессор в пижаме ползал на карачках по квартире, рассовывал в ящики фарфоровую посуду. Тут готовились к эвакуации. На полу грудами лежали одежда, ковры, шубы. Здесь же были свалены картины, статуэтки, дорогая посуда. Красивая дородная женщина с большими выпуклыми глазами стояла посреди комнаты и командовала:
«Оберни вазон ватой! »
Это и была Евгения Козюкова. Она долго не могла понять, чего я от нее хочу. Геологический молоток?.. Теплухин?.. Но ведь он умер много лет назад…
Когда я сказала, что пришла вернуть ей молоток, она нервно рассмеялась:
«Третий день не можем упаковаться. Речь идет о жизни, а вы лезете с пустяками…»
Я хлопнула дверью.
Они бежали, как крысы с тонущего корабля.
Дягилев рассмеялся:
– Крысы удирают без имущества. Начало истории романтичное, а конец пошловатый. Погибли люди, ваш отец. А эти двое на свободе, живут припеваючи. А где же суд? Я бы произнес какое‑ нибудь заклятие и сделал так, чтобы Трескунов и Козюкова понесли ответственность.
– Против подобных сволочей даже волшебство бессильно. Трескунов хитрее, чем вы думаете. Он запасся оправдательной бумагой от самого Теплухина. Теплухина погубило его великодушие. Ведь Трескунов был его соперником. А как бы вы поступили в подобном случае?
– Если бы вы не были моей начальницей, – сказал он с жаром, – я никуда бы не позволил вам высовывать носа из блиндажа! Я терзаюсь каждый раз, когда вы уходите на задание. И это невыносимо…
Она отозвалась вкрадчивым смешком:
– Ну, у нас с вами совсем другие отношения. Все вы немножко старомодны. Тот молодой астроном любил говорить, что мужчина должен охотиться на мамонта, а женщина – поддерживать огонь в очаге.
– А может быть, он жив, ваш астроном?! Сидит где‑ нибудь в глубоком тылу и хвосты кометам крутит!
Наташа вскипела:
– Вы не представляете, о чем говорите! За несколько дней до начала войны Геннадий уехал в Симеизскую обсерваторию, в Крым. Обсерватория полностью разрушена.
Дягилев прикусил язык. Ведь он и сам глухо тревожился за Линду и Мартина. А ведь Наташа глубоко любит своего астронома. И с этим уж ничего не поделаешь… Геннадий Назарин… Где‑ то в глубинах неба бродит его комета.
Жив ли Назарин или погиб, но Дягилев проникся недоброжелательством к этому человеку и его комете. Она будет вечно кружиться по каким‑ то орбитам, комета Назарина. Чтобы заглушить в себе жестокое чувство, сказал:
– Я хотел бы, чтобы ваш Геннадий был жив и здоров. Я уверен, что он жив. И снова все будет так, как было, – и звезды и стихи. Если бы я умел творить чудеса, так бы и сделал…
– Хватит болтовни! Идемте…
Снова в лицо хлестнула вьюга. Снег был как толченое стекло. В лощине стояло дерево, голое, корявое, с растопыренными ветвями. Дальше пришлось ползти. Снег лез в рот, в ноздри. Когда зажигалась ракета, инстинктивный страх прижимал их к сугробам, они старались даже не дышать. Сейчас все их предприятие показалось обоим рискованным, необдуманным. Чувство тревоги росло. За каждым бугорком чудилась засада. Может быть, и прав Бубякин: не следовало идти… Но за последнее время враг стал осторожным, глубоко зарылся в землю. Обстоятельства вынудили Черемных и Дягилева ползти сюда. Ну, а если в подбитом танке засел вражеский снайпер?
Опасность снова их сблизила. Они уже забыли о разговоре в башне. Ведь тот разговор имел отношение к прошлому. А прошлое стало всего лишь сном. Та мирная жизнь кажется бесконечно далекой, иллюзорной, как сон. Только груды развалин да треснувшая колонна рефрактора… Нужно по‑ звериному чутко обнюхивать воздух, разгребать снег стынущими руками, ползти, ползти, извиваясь, оглядываясь. Где‑ нибудь в тиши лаборатории все это могло бы показаться бредом. Не кандидат физико‑ математических наук, не женщина‑ геолог, а древние охотники на косматого зверя. Ползут, зарываясь в снег.
Однажды Наташа спросила:
«Почему время называют четвертым измерением? »
Дягилев рассмеялся:
«Ну, у меня на этот счет свое мнение. Я ведь мыслю не как математик, а как физик. Мощные поля тяготения и скорости, сравнимые со световыми, замедляют все процессы. Мы говорим: время течет замедленно. А возможно, на ход времени влияют и другие факторы, нам неизвестные. Некоторые ученые считают, будто абсолютного времени нет, а есть лишь относительные времена. Но если материя подчинена единому поступательному процессу, то должно быть и абсолютное время, складывающееся из бесконечного множества относительных времен. Оно как абсолютная истина. Я говорю о времени, разумеется, как о форме последовательной смены явлений и состояний материи. Мы считаем, что время одномерно и непрерывно. Но существуют и другие точки зрения. Мол, в микромире у времени могут быть такие свойства, какие отсутствуют в мире больших тел, например, прерывность или же двумерность. Кто прав – пока трудно сказать. Сейчас ученые много толкуют о природе физического вакуума, который раньше считался пустотой. А вакуум, оказывается, имеет сложную структуру. Возможно, этот самый вакуум, который меня очень интересует, – лишь прокладка между двумя мирами? Мы не знаем, что лежит „по ту“ сторону вакуума. И узнаем ли? Может быть, есть другой мир, сходный с нашим. Только время там должно течь по‑ иному».
«А как попасть туда? »
Дягилев рассмеялся:
«Перешагнуть через вакуум – значит, исчезнуть и возродиться вновь. Но тут уж начинается мистика. Я и так задурил вам голову».
«Нет, нет, – запротестовала она, – расскажите еще что‑ нибудь. Возвышенное. Люблю всякие фантазии и „езду в незнаемое“. Я до сих пор не знаю, откуда взялась жизнь на Земле. Говорят, возникла. Почему не возникает сейчас? »
«Тут я – пас, – признался он, – черт ее знает, эту жизнь, как она возникла! Хотите пофантазировать? Лично я, как физик, убежден, что электромагнитные волны могут нести в себе код жизни. Этот код и помогает кристаллизации жизни на планете. Разумеется, когда на пути электромагнитных колебаний встречается планета с благоприятными условиями, наподобие нашей матушки‑ Земли. Почему сейчас не происходит зарождение жизни? Возможно, потому, что нет сильных воздействий. Представьте себе, что много миллиардов лет тому назад мимо Солнечной системы прошел „генератор жизни“ – особая во Вселенной звезда (таких звезд может быть несчетное количество), звезда, а не исключено, даже искусственное тело – кто знает? Возможно, и наше Солнце, излучающее электромагнитные волны разных частот, на ранних стадиях своего развития обладало подобной способностью „оплодотворять“ планеты. Это всё, конечно, мои предположения, за которые ученые, безусловно, намылили бы мне шею. Но такой серьезный исследователь, как Луи Пастер, считал, что жизнь сегодня не возникает из‑ за особого состояния пространства – диссиметрии. Наш Вернадский считает, что пространство внутри живого вещества отличается от пространства внутри неорганических тел, что существование живого вещества биосферы зависит от перехода состояний пространств, геометрически разных, одно в другое».
«Ну, это мне не по зубам! » – сдавалась она.
«Мне – тоже», – смеялся он. Конечно же, он знал много, и не ей было тягаться с ним.
Иногда они говорили о смысле жизни.
«Раньше я видел смысл своей жизни в научном творчестве, в поиске законов природы, – говорил он. – Но война словно бы перевернула все мои представления. Я вдруг понял: для ученого одного познания законов природы – мало. Ученый еще должен бороться против тех злобных, античеловеческих сил, наподобие фашизма, которые пытаются эксплуатировать науку в своих грязных целях. Для ученого всегда важна моральная позиция. Им должно двигать чувство высокой моральной ответственности за человечество. Возможно, мои слова покажутся вам несколько высокопарными, но я ведь имею в виду не только себя…»
Нет, его признания не казались ей высокопарными. Ведь и она думала подобным образом, хоть и не умела так четко все сформулировать. Ей казалось, что смысл жизни, счастье – это чувствовать, что ты нужен другим. Сказала:
«Нужно жить так, чтоб услышали потомки. Это любил повторять мой отец. Что он имел в виду, до сих пор не могу догадаться».
Дягилев задумался:
«Мысль стоящая. Если просто шуметь, размахивать руками, то потомки, пожалуй, и не услышат. А вот ежели своротить гору, поднять ее к облакам, то может и дойти… Я убежден, что в поведении человека „привыкание“ играет меньшую роль, чем проявление того или иного вида активности. Быть активным, а не приспосабливаться. Разумеется, тот, кто умеет приспосабливаться, живет дольше. Но что из того? И конечно же, социальная активность всегда стоит на первом месте…»
В Дягилеве словно бы отсутствовал человеческий страх. В нем не было лукавства, мелочности. Он считался рядовым, как все, но люди почему‑ то робели, обращаясь к нему. Да и обращались не по пустякам, а если требовалось решить что‑ то самое важное. Гуменник говорил Наташе:
«Вы не очень‑ то подставляйте под пули ученого. Таких во всей стране – раз‑ два и обчелся. Мыслитель, одним словом. Мыслитель, а доброволец! Другой мыслитель в норку забьется и мыслит себе в кулак, а этот… Гей‑ Люссак! »
Про Гей‑ Люссака Гуменник слышал в школе и навсегда проникся к этому французскому ученому почтением. Бубякина он называл «борец Бамбула». Бубякин не обижался, так как про себя именовал Гуменника «гусем лапчатым».
И случилось так, что Наташа часа не могла прожить без Дягилева, ее тянуло к этому человеку, с ним все невзгоды казались пустячными. Он создавал своеобразный «философский фон» тяжелой фронтовой жизни. И тем облегчал ее. В нем чувствовалось сочетание воли и высокой морали. Нет, нет, это нельзя было назвать любовью с ее стороны. Она продолжала любить Геннадия, возможно погибшего от рук фашистских палачей. Николай Дягилев – совсем другое дело. Он интересовал ее как оригинальная личность– и только. У нее было романтическое восприятие жизни, а Дягилев нес в себе большой заряд необыкновенности, вызывал в ней ощущение величия мира.
После разговоров с ним она словно бы обретала новое зрение и твердую почву под ногами. Пусть все зыбко сейчас, пусть сама жизнь здесь на фронте эфемерная – каждый поступок человека имеет здесь глубокий смысл. Ненужных подвигов не бывает. Ей всегда представлялось, будто все остальные люди, даже самые отсталые, знают что‑ то такое, чего не знает она. А Дягилев знал больше всех, с кем ей доводилось встречаться, словно ему были открыты великие загадки природы и бытия. Но фронтовая жизнь брала свое, испытывая души людей ежеминутно. Она хорошо знала, что храбрость – это, прежде всего, подавленный страх. Дягилев – не из трусливого десятка. То, что это так, она убеждалась не раз. Даже в самых сложных боевых ситуациях он сохранял выдержку и хладнокровие, его спокойствие благотворно действовало и на других бойцов. Когда Наташа горячилась, он смотрел на нее с улыбкой, и она, словно бы спохватившись, сбавляла тон, начинала улыбаться в ответ.
Когда они очутились у подбитого танка, в небе опять повисла ракета. Метнулась вправо косая тень танка, будто башня с задранной пушкой сделала разворот.
– Живо! – тихо скомандовала Черемных.
Ослепленные, дрожащие от нервного озноба, они с трудом открыли тяжелый люк, забрались в мертвую заиндевевшую громаду. Дягилев припал к смотровой щели.
Пустота. Свист ветра. Заметили их или не заметили? Почему ракета зажглась именно тогда, когда они были уже у цели? Ну, а если противник поджидал их? Не мог же он оставить без наблюдения такую удобную позицию!..
Слух обострился. То чудился скрип снега, то смутно слышались голоса. Шорохи, царапанье по броне. Шло время…
Дягилев вынул флягу, отвинтил пробку, и они по очереди стали прикладываться к еще горячему горлышку. Согрелись, обрели душевное равновесие. Так и сидели в подбитом танке, отрезанные от всего живого. Бесновалась вьюга – огромная белая птица, бессильно бьющая крыльями по броне.
– Пока вздремну, а вы наблюдайте. Через час разбудите!..
Дягилев в ответ пожал ее руку. Эта маленькая рука сразу же стала безвольной, мягкой. Наташа уже спала. В любой обстановке она засыпала почти мгновенно. Привычка спать «про запас». А Дягилев все держал ее теплую руку и не хотел выпускать.
«Спи, спи, фантазерка… Кажется, обиделась. Возможно, так оно и лучше. Мы никогда не знаем, как лучше… А на войне и вовсе трудно сказать, как лучше. Человек надеется, строит планы, а жизнь обрывается сразу. И не важно, что ты мечтал построить необыкновенную машину, которая сделает людей сильнее, поднимет их еще на одну ступеньку знания… Останется только блокнот с полустертыми формулами. А возможно, и блокнот затеряется в куче штабных бумаг…»
Он прислушивается к звукам ночи, вздрагивает, когда в снежную, вьюжную симфонию вторгается что‑ то постороннее: не то кашель, не то неясная речь, не то крадущиеся шаги; отчетливо представляет, как к подбитому танку со всех сторон сползаются распластанные фигуры. Если бы он был один здесь, в застывшей машине… Глупая, глупая Наташка! Себе она кажется строгим учителем, а он учеником, несмышленышем. Если бы он был один… За себя всегда легче отвечать.
Дягилев убежден, что он бдительно несет наблюдение, весь – слух и внимание, а на самом деле чувство опасности постепенно притупилось, и он целиком погрузился в свои мысли, забыв обо всем на свете.
Он думал о том, что мучительно любит эту странную девушку. Конечно, она незаурядная. Такие становятся хозяевами жизни, героинями, крупными учеными. Она – человек большой цели, и потому все остальное подчиняется ей. Значит, того астронома зовут Геннадий! Геннадий Назарин… Астроном, обладатель личной кометы, которая вписана во все справочники. Должно быть, яркая личность, если Наташа вспоминает их встречи. Она полюбила его. Почему ты воображаешь, что именно ты – самый интересный, самый неотразимый? Почему думаешь, будто она ради тебя должна забыть того Назарина, как‑ то выделять тебя среди остальных?.. Ты пока не открыл свою комету, твои формулы никому не понятны, кроме профессора Суровцева и математика Лаара.
Если бы Суровцеву удалось выбраться из осажденного Ленинграда! Но старик упрям, никуда не поедет. Даже на письма не отвечает. В Ленинграде голод, стужа. Сможет ли старик выжить, продержаться до весны?..
Последняя сцена была особенно тяжелой.
Перед поездкой на фронт Николай зашел проститься. В лаборатории было пусто. Он уселся на табурет и стал ждать.
Когда показался Суровцев, у Николая заныло сердце, он поднялся, шагнул навстречу. За профессором, словно безмолвная тень, следовал лаборант Карл, высокий благообразный немец с торчащими в стороны седыми баками. На нем была неизменная фланелевая куртка с отложным воротником, байковые панталоны плотно охватывали массивные икры ног. С Карлом Суровцева связывала давняя дружба. Еще до революции Суровцев вывез Карла откуда‑ то из Германии или Швейцарии, и с тех пор они не разлучались. Карл был чем‑ то вроде няньки при старом профессоре и в то же время исполнял обязанности лаборанта в физическом кабинете.
Профессор внимательно оглядел Дягилева с ног до головы – фуражку полувоенного образца, тужурку, неуклюжие сапоги, поморщился, сказал резко:
– Был налет. Отсиживался в бомбоубежище. А теперь обсудим, как вести работы дальше. Придется все делать за семерых. Кстати, выхлопотал на вас бронь Академии наук– на фронт не пошлют.
Он нервно поглаживал черную подковообразную бородку, недобро узил холодноватые глаза с набрякшими веками: по‑ видимому, смутно улавливал что‑ то необычное в выражении лица Николая.
– Константин Федорович, я зашел проститься с вами, – произнес Николай глухо, но твердо. – Был на сборном пункте. Все документы на руках. Направляют в Пулково в дивизию народного ополчения.
Суровцев выслушал молча, сразу как‑ то обмяк, опустился на табурет, спросил растерянно:
– А как же бронь?
Дягилев не нашелся что ответить.
– Хорошо… Присаживайтесь, поговорим обстоятельно.
Николай уселся. Профессор вытер платком потный лоб, заговорил негромко:
– Ваше решение не явилось для меня неожиданностью. Этого следовало ждать. И все же вы поступили плохо, не посоветовавшись со мной. Мы ведем работы огромной важности. Может быть, от наших скромных успехов будет в какой‑ то мере зависеть последующее развитие всей физики. Мы, ученые, долгое время были чем‑ то вроде одиночек‑ алхимиков, добывающих для человечества всемогущий философский камень, лаборатории создавали собственными руками, собирали по винтику; стеклянные трубки, реостаты, трансформаторы – все делалось кустарным способом, чуть ли не на свои средства… Но сейчас положение резко изменилось. Век лабораторного крохоборства кончился. Начинается эра экспериментальной техники, построенной на базе тяжелой индустрии.
Он помолчал и сказал с какой‑ то затаенной грустью:
– У науки тоже есть свои мученики, свои герои. Мы подчас рискуем жизнью не меньше, чем солдат, сидящий в окопе. Мы ведь тоже по‑ своему находимся на переднем крае… Помню наши первые опыты в горах Кавказа. Мы протянули на высоте ста метров через ущелье металлическую сетку, подсоединили ее к вакуумной трубке для ускорения протонов. Мне думалось, что удастся приручить молнию и с ее помощью проникнуть в тайны вещества. Опыты кончились печально: два моих помощника погибли. Я остался жив благодаря случайности. Но до сих пор перед моими глазами стоят иззубренные скалы, за которые цепляются тучи, наш маленький домик, прижавшийся к утесу. Когда начиналась гроза, все ущелье полыхало, сетка‑ гамак горела синеватыми огнями…
Он снова умолк и уже совсем тихо добавил:
– Одним из погибших помощников был мой сын… Впрочем, все это было слишком давно. Да, опыты кончились неудачно. Всю жизнь я продолжал напряженно искать, строил импульсные генераторы, электростатические… Но для проверки моих уравнений требовались совершенно другие машины. Вот почему я так ухватился за вашу диссертацию.
Откровенная похвала крупного ученого смутила Дягилева. Он всегда был не особенно высокого мнения о своих способностях.
– Вы преувеличиваете, Константин Федорович, – пробормотал он. – Проще всего свести воедино материал, разбросанный в лабораторных отчетах, и сделать вывод. Конечно, если нам удастся создать прибор, мы решим целый ряд проблем. Но кому нужны они сейчас, проблемы? Ведь на строительство машины уйдут годы, годы кропотливого труда сотен специалистов. А нас всего двое… Смешно…
– Мы можем уехать в глубокий тыл, собрать людей.
– Не поеду.
– Но ведь другие едут! Едут работать. Не вечно же будет война. Вы хотите бросить вами же созданное дело, бросить меня, немощного старика, одного, отказаться от своей мечты.
Голос профессора дрогнул. И было что‑ то по‑ детски беспомощное во всей его фигуре. Неожиданно он поднялся, подошел, обнял Николая за плечи, произнес с мольбой:
– Не делайте этого… Я не могу допустить, чтобы вас убили, я напишу в академию. Хватит с меня: я уже потерял одного! Какой из вас солдат? Вас убьют в первом же бою. Вы рождены для науки и не имеете права рисковать жизнью…
Николай молчал.
Наконец Суровцев вспылил:
– Почему вы отмалчиваетесь?! Черт бы вас всех побрал… Тупость и ослиное упрямство. Я всех вас вытащил из ничтожества, открыл дорогу в мир науки. И вот вместо благодарности… Уходите все! А я останусь здесь один, один. И никуда не уеду. Я, как пес, буду стеречь лабораторию…
Дягилев успел изучить профессора. И сейчас наверняка старый упрямец сидит в своей лаборатории. Мерзнет, голодает. И во всех своих мучениях винит сотрудников, покинувших его.
«Я всех вас вытащил из ничтожества, открыл дорогу в мир науки…» Дягилев усмехнулся. В чем‑ то старик прав. Николаю, конечно, повезло с самого начала. Почти сказочная научная карьера! Карьера… Дягилев ненавидел это слово. Просто необыкновенная дорога в науку. Молодой человек на подножке вагона приехал из Саратова. А потом – институт, лаборатория известного ученого Суровцева, чье имя вошло во все учебники физики. Тогда Николаю казалось, что он прикоснулся к вечности. Он стал сотрудником, а потом ближайшим помощником. Самым молодым, подающим большие надежды сотрудником был Мартин Лаар. У этого русоволосого худощавого юноши была необыкновенная история. Его отец считался одним из руководителей восстания в Таллине в 1924 году. После того как восстание подавили, бежал с дочерью и сыном в Советский Союз. Отец вскоре умер, и на руках Мартина осталась малолетняя сестра Линда. Был еще дед Юхан. Но дед по‑ прежнему жил в буржуазной Эстонии, возил тачки на торфоразработках. Вот почему, когда в Эстонии провозгласили Советскую власть, Мартин и Линда, а с ними и Дягилев отправились разыскивать деда Юхана.
Тогда жизнь представлялась Николаю этаким большим приключением. Он, может быть, и не любил по‑ настоящему Линду, но приключение требовало счастливого конца всей истории. Согласись тогда Линда выйти за него замуж, он не раздумывал бы ни минуты и, возможно, даже был бы счастлив. А теперь он узнал Наташу, и образ Линды как‑ то померк. Осталась только боль за нее и за Мартина. Дягилев стал понимать, что отношения с Линдой не были любовью. Он любил не Линду, а Мартина, как любили его все за выдающиеся математические способности. Иногда Лаар казался Николаю грядущим гением, человеком необыкновенной творческой мощи. Выше всего Мартин ценил логику и потому всегда легко подсмеивался над Дягилевым, считая его непоследовательным, разбросанным, фантазером. Очень часто они схватывались не на шутку. Обладающий предельно ясным мышлением. Лаар спокойно выслушивал предположения и гипотезы Николая, затем говорил:
– Непонятно. Нелогично. Абсурдно.
Дягилев в запальчивости бухал кулаком по столу:
– Черт возьми! Хотел бы я жить в мире, где все понятно, где все логично, где не нужно думать, где можно жить припеваючи, решая задачки…
Разумеется, в споре всегда побеждал Мартин – ведь он не был фантазером. Дягилев фантазировал. Его всегда интересовали формы мышления людей самых различных профессий, специальностей – будь то писатель, художник, композитор, математик, химик, физик, психолог. В этом крылось многообразие культуры, интеллекта. А разве та машина, которую они задумали строить, не напоминает чем‑ то фантастическую машину времени? Пусть она не отправит никого ни в будущее, ни в прошлое, но прибор позволит проверить так называемые парадоксы, не дающие покоя целому поколению физиков.
Весь последний год они бились над проблемой… А может быть, на проблему следует взглянуть с другой стороны; главная загвоздка в строгой фокусировке потока частиц. Дело даже не в этом… Частица должна ускоряться переменным электрическим полем с изменяющейся частотой, а удерживаться на орбите постоянного радиуса с помощью переменного магнитного поля…
Дягилев вскочил и ударился головой о крышку люка. Искать в течение года и найти именно сейчас, в столь неподходящей обстановке… Клочок бумаги и карандаш – больше ничего не нужно. Завтра же сообщить Суровцеву, где бы он ни был. Невиданная победа. Все, что было до этого, полетит к черту. Новый принцип ускорения. Бесконечно повысить предел достижимых энергий… Не миллионы, а десятки миллиардов электрон‑ вольт! Вот оно, что требовалось… Ребята, когда узнают, сойдут с ума от радости…
– Вы, оказывается, способны впадать в транс. Вычислением занимаетесь? Не разбудили – вам же хуже.
Голос Наташи отрезвил Дягилева. Она сидела с широко открытыми глазами и наблюдала за ним.
– У вас нет карандаша?
– Глядите!
Из‑ за кустарника выползала автоколонна. Смутные силуэты проступали сквозь пелену снега. Дягилев забыл все. Коснулся щекой ледяной ложи, прицелился и ударил в мотор головной машины. Темные фигурки соскакивали с машин и исчезали в кустарнике. Лопался морозный воздух. Дягилев спокойно выбирал цель и нажимал на спусковой крючок. Ведь это был его экзамен. Он видел, как от зажигательной пули вспыхнул грузовик, как стали рваться снаряды в кузове. Загорелась вторая машина.
– Молодец, Николай! А теперь – ходу!..
Да, пора было убираться подобру‑ поздорову.
Они выпрыгнули из танка и поползли по лощине. Эта лощина, как они знали, не простреливалась. Каких‑ нибудь четыреста шагов… Но вражеские солдаты, видно, опомнились. Засвистели пули, посыпались мины. Каждый раз, когда Наташа застывала на месте, Дягилевым овладевала тревога. Они барахтались в рассыпчатом снегу, руки и ноги отказывались повиноваться.
– Обходят… – крикнула Наташа.
– Ползите, а я задержу…
– Убирайся, дурень! Нашел время для рыцарства.
Но в нем уже заклокотало возмущение. Теперь хозяином положения был он, а не эта хрупкая девчонка, его инструктор, вообразившая, что она в ответе за все, и за эту вылазку, и за жизнь своего ученика. Он больше не был учеником.
– Не мешай мне! – заорал он. Больше он не замечал ее. С неожиданно обретенным спокойствием сажал на мушку темные фигурки и видел, как они падали в снег. В этом сейчас был смысл всего. Потом он швырял гранаты. Он не боялся смерти. Только бы Наташа добралась до спасительной лощины.
Кто‑ то рядом бросил гранату. Дягилев покосился, увидел Черемных и заскрипел зубами. Значит, не послушалась… Не послушалась безумная Наташка…
Взметнулся снег вперемешку с комьями земли. Черемных уткнулась лицом в сугроб. Справа совсем близко застрочила пулеметная очередь.
«Свои!.. – догадался Дягилев. – Теперь не пропадем… Теперь не пропадем…»

|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|