
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Введение. Глава первая
Введение
В середине мая мне позвонил приятель – главный редактор одного московского еженедельника – и предложил написать очерк о праздновании грядущей 198-й годовщины со дня рождения А.С.Пушкина. Читателям надо было рассказать о том, как отмечают пушкинский день рождения в провинции. Не в Москве или Питере, и не в Михайловском, куда ежегодно съезжаются пушкинисты со всего света, а где-нибудь в стороне, там, где Пушкин хоть и бывал, но не так чтобы очень.
– Нам пришло приглашение из Торжка, – сказал редактор, – там, оказывается, они уже много лет отмечают день рождения Пушкина, и, судя по приглашению, ожидается грандиозный праздник, в деревне... Ты ведь уже писал о Торжке.
– Так ведь я писал о состоянии дел в пожарной промышленности. При чем здесь Пушкин? – возразил я.
– Вот и хорошо. Нужен свежий, незаезженный взгляд.
– Но я не разбираюсь в Пушкине.
– Отлично! Сейчас именно это будет интересно... А кто в Пушкине «разбирается»?
– Есть пушкинисты, специалисты, исследователи, зачем меня на такое толкать?
Но редактор мои доводы не принимал. Он говорил, что именно «дилетантский взгляд постороннего человека» и есть сегодня самое ценное, что пушкинисты надоели, ничего нового они уже сказать не могут, люди читают лишь то, что им доступно, а всякие исследовательские работы (он даже употребил ужасное слово «штудии») отталкивают нормального читателя.
– Мы пусть и еженедельник, но – газета! А газете наукообразные материалы не нужны, они раздражают, поэтому собирайся и поезжай. Дадим большие командировочные, и, между прочим, у нас приличные гонорары. За Пушкина, если получится, особенный выпишем, это я обещаю, – закончил редактор.
Не скрою, последний аргумент, а к тому же возможность вырваться из шумной и душной столицы убедили меня ехать. В конце концов, думал я, выйдет статья, и забудут о ней на следующий день, так что особого гнева со стороны пушкинистов даже не удостоюсь. Одним словом, я согласился и в начале июня поехал в Торжок.
Побывал на пушкинском празднике, вернулся в Москву, и вскоре очерк был готов. Редактору он понравился: «Вот именно то, что надо!» Его благополучно напечатали, разумеется изрядно сократив, но поместили на одной полосе с рекламой какой-то миниатюрной стиральной машины, которая, как сказано в рекламном тексте, «может успешно разместиться в кармане джентльмена». Любопытен и принцип действия этой машинки – «акустические колебания, которые незаметно для ваших глаз проникают между волокнами и удаляют загрязнения». Обязательно ли при такой стирке снимать штаны или достаточно держать миниагрегат в кармане – в рекламе не сказано.
– Неужели нельзя было напечатать очерк о Пушкине без рекламы стиральной машины? – возмутился я.
– Да вы что! – ответили мне в редакции. – Благодаря рекламе мы живем, и, между прочим, Александра Сергеевича такое соседство не покоробило бы. Это, извините, быт, а быт – составная, если не главная часть его творчества, о чем не мешало бы знать, – пристыдили меня.
Итак, очерк мой был напечатан и, как я предполагал, остался совершенно незамечен. Я уже почти забыл о нем, но спустя несколько месяцев мне (с подсказки моего хорошего приятеля) пришла мысль соединить то, что мною было собрано для очерка, и попытаться, уже не торопясь, подробно изложить. А материала оказалось собрано немало.
Дело в том, что, прознав о моем намерении, а я его не скрывал, самые разные люди, главным образом из Торжка, стали мне помогать. Они присылали вырезки из газет, краеведческую литературу, фотографии праздника, магнитофонные пленки с песнями и выступлениями, стихи местных поэтов и прочие материалы, так или иначе связанные с пушкинским праздником в Торжке, вообще с пребыванием Пушкина на тверской земле. Уже очерк мой был напечатан, а я было приступил к следующей работе, но материалы все шли и шли.
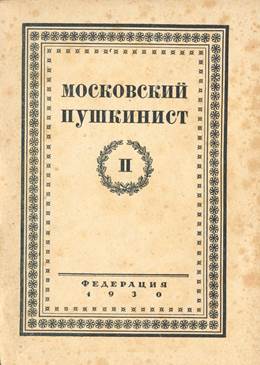 Кроме того, упомянутый приятель решил меня подстраховать и свел со своим другом, большим знатоком Пушкина и книжного дела вообще, с тем чтобы я, принимаясь за столь сложную и рискованную тему, кое-что прочитал и не допустил уж слишком больших глупостей и ошибок.
Кроме того, упомянутый приятель решил меня подстраховать и свел со своим другом, большим знатоком Пушкина и книжного дела вообще, с тем чтобы я, принимаясь за столь сложную и рискованную тему, кое-что прочитал и не допустил уж слишком больших глупостей и ошибок.
Здесь я должен рассказать об этом человеке и о месте его работы. Зовут его Вячеслав Петрович, ему около шестидесяти, он лысоват и носит очки со стеклом страшной толщины. Эти очки служат, видимо, для того, чтобы просто смотреть, потому что когда Вячеслав Петрович берется за чтение, то сначала закидывает очки себе на лоб, а текст буквально прислоняет к лицу. При этом он не водит глазами по тексту, как это делают все, а наоборот, текстом водит перед глазами. Я такого еще не видел, но, говорят, что настоящие книжники только так и читают. Вячеслав Петрович между тем очень подвижен, даже шустр, и когда я после соответствующих рекомендаций впервые пришел к нему на работу, то застал его с тяжеленной кипой книг. Он их куда-то перетаскивал.
А работает Вячеслав Петрович директором одной из старейших московских библиотек. Его кабинет представляет собой небольшую комнату с высоким потолком, и от пола до этого самого потолка – все заставлено книгами. Всюду книги, книги, книги, а там, где их нет, стоит стол и несколько стульев, на которых, впрочем, тоже лежат стопки книг. Есть в кабинете и несколько портретов, один из которых сразу привлек мое внимание: фотография необыкновенно красивой женщины. Кто это такая и почему ее портрет в кабинете, спросить во время первой встречи я не рискнул.
Через два дня я вновь пришел к нему в библиотеку уже с надеждой получить советы, рекомендации и литературу, которые бы помогли мне при написании очерка. Вячеслав Петрович немедленно усадил меня в кресло за свой директорский стол, на котором уже стояла стопка из подобранных книг. 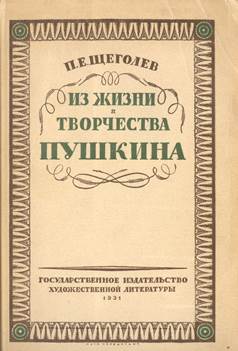
– Зачем же меня на ваше место? – засмущался я от столь трепетного к себе отношения и решил пересесть на один из стульев. Но директор меня остановил.
– Вам говорят: «Садитесь сюда», значит, садитесь и работайте и не обращайте внимания на всякие мелочи... Вы – Пушкиным занимаетесь! Не отвлекайтесь, начинайте просматривать книги, я сейчас приду.
Вячеслав Петрович исчез, а я принялся разглядывать книги, которых никогда прежде не видел.
Первой из них оказался «Пушкинский календарь. 1937», подготовленный к столетию со дня гибели А.С.Пушкина. В работе по его изданию принимали участие такие знаменитые исследователи жизни и творчества Пушкина, как В.В.Вересаев, С.М.Бонди, С.Я.Гессен, Б.В.Томашевский, М.А.Цявловский. Время было суровое. Язык – лицо эпохи – тоже. Вот отрывок из редакционного обращения, которое предваряет книгу:
«10 февраля 1937 года народы Союза Советских Социалистических Республик отмечают столетие со дня гибели своего гениального соотечественника Александра Сергеевича Пушкина, убитого послушным агентом самодержавия и реакционного дворянства. Пуля наемного убийцы прервала благородный творческий путь того, кто на протяжении всей своей жизни клеймил российских "венценосцев" и их вельможно-поповскую челядь».
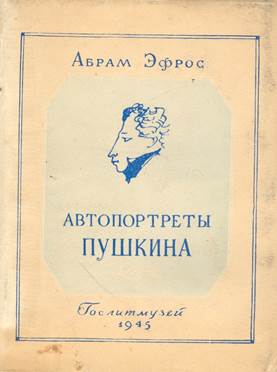 Сам «Календарь», несмотря на внешнюю суровость, интересен и полезен. Здесь много иллюстраций, воспоминаний современников и великих литераторов о Пушкине, подробная биография поэта, наконец, почти на каждой странице – произведения самого Александра Сергеевича и его автографы.
Сам «Календарь», несмотря на внешнюю суровость, интересен и полезен. Здесь много иллюстраций, воспоминаний современников и великих литераторов о Пушкине, подробная биография поэта, наконец, почти на каждой странице – произведения самого Александра Сергеевича и его автографы.
Следующая книга также издана к столетию со дня смерти поэта, но не у нас, а в Югославии – Русским пушкинским комитетом. Это «Белградский Пушкинский сборник. 1937», с предисловием академика А.И.Белича и под редакцией Е.В.Аничкова. В сборник вошли статьи Владислава Ходасевича, князя Н.С.Трубецкого, С.Л.Франка, И.И.Лапшина, П.Б.Струве, Глеба Струве, П.Бицилли, Ильи Голенищева-Кутузова и других деятелей эмиграции. В «Напутственном слове» А.Белича, которым открывается книга, говорится:
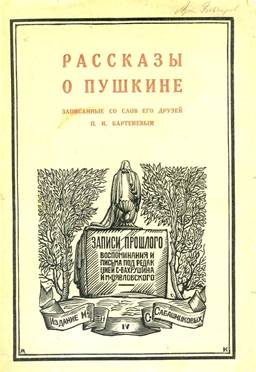 «Русские ученые и их друзья, находящиеся, по воле ужасного рока, в нашей стране или вообще за рубежом России, но пронесшие в сердцах своих чудный образ великого поэта и накопившиеся еще на родине истинные факты и небылицы около славного имени Его, не могли отстать от общего влечения, появившегося у всех, знающих великого поэта: объяснить Пушкина как можно лучше, в сотую годовщину Его смерти, подоспевающим поколениям русских за рубежом и всем нам другим...»
«Русские ученые и их друзья, находящиеся, по воле ужасного рока, в нашей стране или вообще за рубежом России, но пронесшие в сердцах своих чудный образ великого поэта и накопившиеся еще на родине истинные факты и небылицы около славного имени Его, не могли отстать от общего влечения, появившегося у всех, знающих великого поэта: объяснить Пушкина как можно лучше, в сотую годовщину Его смерти, подоспевающим поколениям русских за рубежом и всем нам другим...»
Можно сравнить не только «напутствия» этих двух книг, но и сами книги. Советский официозный «Пушкинский календарь» – в темно-синей и очень твердой обложке с узорчатым тиснением; название книги буквально отчеканено золотыми буквами; хотя книга и не объемная – всего 158 страниц, – но сработана основательно и выглядит внушительно. «Белградский сборник», напротив, в мягкой обложке светло-коричневого, почти желтого, цвета; довольно объемный; листы книги разрезались ее владельцем вручную; никаких рисунков или даже намеков на них в сборнике нет; книга не переплетена, а лишь склеена, отчего уже вся растрепалась; в текстах употребляются старорусские выражения да еще и шрифт с «ятями»... Трудно представить книги, которые были бы столь разными и непохожими. Эпоха – «ужасный рок» – их разъединила, развела по разным полюсам, а Пушкин – объединил. Прошла эпоха – и книги находятся рядом, не враждуя, но дополняя друг друга.
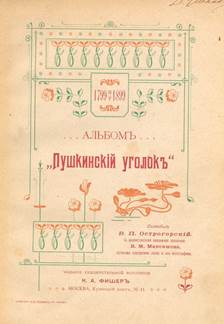 Третья книга из стопки – Альбом «Пушкинскiй Уголокъ» переносит нас в самый конец девятнадцатого века. Год издания 1899. Альбом издан к столетию со дня рождения поэта... Открывают его репродукции известных портретов Пушкина работы Кипренского, Тропинина, Райта, Брюллова. Текст о провинциальной жизни Пушкина, составленный В.П.Острогорским в июле 1898 года на Валдае, сопровождают иллюстрации академика живописи В.М.Максимова, а также автографы поэта. Как прекрасно, неторопливо и вдумчиво составлена книга! С каким мастерством издана!
Третья книга из стопки – Альбом «Пушкинскiй Уголокъ» переносит нас в самый конец девятнадцатого века. Год издания 1899. Альбом издан к столетию со дня рождения поэта... Открывают его репродукции известных портретов Пушкина работы Кипренского, Тропинина, Райта, Брюллова. Текст о провинциальной жизни Пушкина, составленный В.П.Острогорским в июле 1898 года на Валдае, сопровождают иллюстрации академика живописи В.М.Максимова, а также автографы поэта. Как прекрасно, неторопливо и вдумчиво составлена книга! С каким мастерством издана!
Полвека, как нет Пушкина, но дорогие его сердцу Михайловское, Тригорское, Святые Горы хранят память о нем. Еще сохраняются некоторые постройки, природа пока не тронута «заботой свыше» о памяти поэта, свежи предания о Пушкине, которые передаются от отцов к детям, еще остаются в живых редкие свидетели приездов сюда поэта. В альбоме есть портреты глубоких стариков – Ивана Ивановича Лощоника и старика Алексея: оба с длинными седыми бородами, в грубых крестьянских одеждах, в глазах известная мужицкая хитреца... Как интересно рассматривать лица людей, которые видели и помнят живого Пушкина!
«Кто его видел – не забудет уже никогда. У нас его очень любили; он приезжал сюда отдыхать от горя», – свидетельствует, быть может, последняя из живущих, кто близко общался с Пушкиным, Екатерина Ивановна, младшая дочь П.А.Осиповой. Ей было лишь тринадцать лет, когда умер Пушкин.
Поникла тихо без ответа
Лавр гордо несшая глава, –
Но жив в России дух поэта,
И песня дивная жива...
Тем временем в кабинет вернулся Вячеслав Петрович. Он принес еще одну стопку книг и небольшой продолговатый ящик, в котором хранились карточки с указанием книг о пребывании Пушкина в провинции.
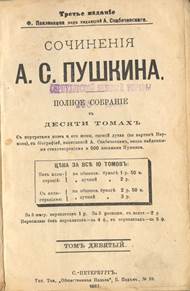 – Вот вам каталог и книги из библиотеки: прочтёте – сразу принесёте, а эти – Вячеслав Петрович указал на книги, которые я только что просматривал, – забирайте с собой и можете не возвращать, они мои личные.
– Вот вам каталог и книги из библиотеки: прочтёте – сразу принесёте, а эти – Вячеслав Петрович указал на книги, которые я только что просматривал, – забирайте с собой и можете не возвращать, они мои личные.
– Как это «не возвращать»?
– Да что же это такое? – возмутился Вячеслав Петрович и стал заталкивать книги в мой портфель. – Вам говорят: «Забирайте», значит, забирайте и не рассуждайте. Вы – Пушкиным занимаетесь! Вам некогда обращать внимание на всякую ерунду!
Он ловко застегнул ставший квадратным портфель, после чего не без труда перелез через стулья и стоящие на них стопки книг, пробираясь к отдаленному шкафу, в котором хранились наиболее редкие и ценные издания. Выбрав несколько книг и положив их передо мной – «Вот, еще посмотрите», – Вячеслав Петрович вновь удалился…
Уже начав просматривать каталог, я все же переключился на старинные книги...
Вот первый том из семитомного собрания сочинений Пушкина, изданного в 1855 году под редакцией П.В.Анненкова «с приложением материалов для его биографии, портрета, снимков с его почерка и его рисунков, и проч.». Это собрание сочинений было первым научным изданием произведений Пушкина. В нем много новых, не изданных ранее его сочинений и впервые даны материалы к биографии поэта. В сноске на первой странице издатели отмечают:
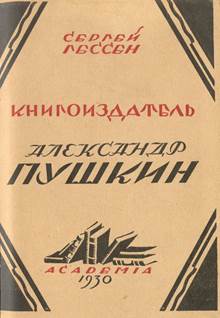 «Материалы, представляемые теперь публике, преимущественно извлечены из бумаг поэта, а за сообщением некоторых подробностей о жизни его, которые вообще так трудно добываются у нас, приносим здесь искреннюю благодарность родственникам, друзьям и знакомым поэта, благоволившим передать нам свои воспоминания».
«Материалы, представляемые теперь публике, преимущественно извлечены из бумаг поэта, а за сообщением некоторых подробностей о жизни его, которые вообще так трудно добываются у нас, приносим здесь искреннюю благодарность родственникам, друзьям и знакомым поэта, благоволившим передать нам свои воспоминания».
Чувствуете?! Мы подошли ко времени, когда еще есть кого благодарить... Двух десятилетий не минуло, как погиб Пушкин. Живы многие очевидцы и свидетели, друзья, любимые, родственники. Они помнят живого поэта, знают не по книгам его голос, взгляд, улыбку, могут изобразить походку, рассказать какой-нибудь забавный случай. Память о поэте не сглаживается, поклонники его таланта внимательно следят за каждой публикацией, интерес к Пушкину не пропадает, напротив, растет, новые книги о Пушкине ждут во всех уголках России.
А мы продолжаем двигаться дальше, вглубь истории, в первую половину девятнадцатого века. И вот уже слышно дыхание самого Александра Сергеевича: книга «Евгений Онегин», изданная в 1833 году в типографии Александра Смирдина в Санктпетербурге. (Санктпетербургъ – писали тогда одним словом.) Впервые я держу в руках книгу, вышедшую при жизни Пушкина!
Она не очень большая – всего 287 страниц – и стоила 12 рублей. (Гоголь, примерно в то же время, чуть меньше заплатил за сапоги.) Хотя книга ветхая, видно, сколь прекрасно она издана. Чего стоит один кожаный корешок с оригинальным тиснением! Бумага мягкая, даже, кажется, немного влажная. От книги исходит тепло, и его нельзя не почувствовать. Но самое удивительное – это полное ощущение того, что Пушкин – жив! Жив – и все тут! И если посчастливится кому-то из вас держать в руках прижизненную пушкинскую книгу, вы обязательно разделите это ощущение.
Мы же углубляемся в историю еще на несколько лет.
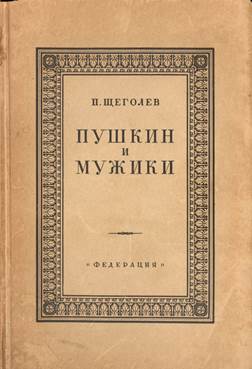 У меня в руках – совсем небольшая, но пухленькая для своих размеров книжка (чуть больше пачки сигарет), под названием «Полярная звезда». Год издания – 1825. Это альманах, в который вошли произведения Е.А.Баратынского, А.А.Бестужева, Ф.В.Булгарина, Ф.Н.Глинки, В.А.Жуковского, А.С.Грибоедова, К.Ф.Рылеева, Н.М.Языкова и... А.С.Пушкина. На титульном листе написано: «Карманная книжка для любительниц и любителей русской поэзии, изданная А.Бестужевым и К.Рылеевым».
У меня в руках – совсем небольшая, но пухленькая для своих размеров книжка (чуть больше пачки сигарет), под названием «Полярная звезда». Год издания – 1825. Это альманах, в который вошли произведения Е.А.Баратынского, А.А.Бестужева, Ф.В.Булгарина, Ф.Н.Глинки, В.А.Жуковского, А.С.Грибоедова, К.Ф.Рылеева, Н.М.Языкова и... А.С.Пушкина. На титульном листе написано: «Карманная книжка для любительниц и любителей русской поэзии, изданная А.Бестужевым и К.Рылеевым».
В этом альманахе Пушкин представлен поэмой «Цыганы», отрывком из поэмы «Братья разбойники» и стихотворением «Послание к А.». Идея создания альманаха принадлежала Кондратию Рылееву, который устраивал у себя литературные вечера. Приходили на эти вечера многие, но сошелся Рылеев ближе всех с Александром Бестужевым. Первый альманах они издали в 1823 году, через год – еще один, а этот – третий, последний изданный сборник. Специалисты отмечают, что это был лучший русский альманах того времени, и из всех изданий, пропагандировавших идеологию декабристов, альманахи «Полярная звезда» были наиболее смелыми. После поражения декабристов выпуск их был запрещен. Впоследствии А.И.Герцен назовет свой журнал тоже «Полярной Звездой» и поместит на обложку портреты (профилем) казненных декабристов и сияющую звезду над ними.
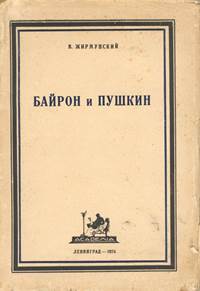 Еще одна старинная книга – альманах «Мнемозина» – «собрание сочинений в стихах и прозе». Издана в 1824 году В.Одоевским и В.Кюхельбекером и отпечатана в Типографии Императорского Московского Театра. По историко-литературному значению этот сборник приравнивается к «Полярной звезде». Здесь печатались П.А.Вяземский, Е.А.Баратынский, С.Е.Раич, Н.Ф.Павлов, А.А.Шаховской, Денис Давыдов. Деятельное участие в издании принимал А.С.Грибоедов.
Еще одна старинная книга – альманах «Мнемозина» – «собрание сочинений в стихах и прозе». Издана в 1824 году В.Одоевским и В.Кюхельбекером и отпечатана в Типографии Императорского Московского Театра. По историко-литературному значению этот сборник приравнивается к «Полярной звезде». Здесь печатались П.А.Вяземский, Е.А.Баратынский, С.Е.Раич, Н.Ф.Павлов, А.А.Шаховской, Денис Давыдов. Деятельное участие в издании принимал А.С.Грибоедов.
Страницы этой книги тоже мягкие, но еще и как будто тисненные в горизонтальную полоску. На бумаге множество всяких темных точек и микроскопических желтых пятнышек, которые ближе к краям превращаются в сплошное желтоватое облако. Подобным образом скопления звезд образуют Млечный путь. Пахнет книга стариной, если, конечно, кто этот запах знает… На 85-й странице – стихотворение Пушкина «Вечер», которое я затем отыскал в собрании сочинений под названием «Веселый пир».
Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель,
Где до утра слово пей!
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен.
Какая легкость! Безмятежность! Восторг от жизни!
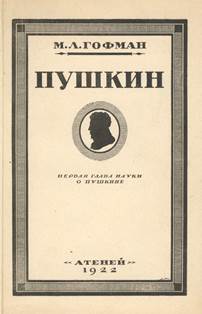 Еще не казнен Кондратий Рылеев, не упрятан в одиночную камеру Вильгельм Кюхельбекер, не сослан в глушь тверскую Федор Глинка, еще не растерзан в Тегеране Александр Грибоедов, не убит в стычке с горцами Александр Бестужев, не стал пока Фаддей Булгарин «шпионом, переметчиком и клеветником», и не сочинен еще Пушкиным «Борис Годунов»...
Еще не казнен Кондратий Рылеев, не упрятан в одиночную камеру Вильгельм Кюхельбекер, не сослан в глушь тверскую Федор Глинка, еще не растерзан в Тегеране Александр Грибоедов, не убит в стычке с горцами Александр Бестужев, не стал пока Фаддей Булгарин «шпионом, переметчиком и клеветником», и не сочинен еще Пушкиным «Борис Годунов»...
За этими размышлениями и застал меня вернувшийся Вячеслав Петрович.
– А! Разглядываете книжки!.. Видите, как раньше печатали? Стихотворение расположено на одной странице, его ничто не подгоняет, ничто не мешает, ты с ним «с глазу на глаз», один на один. Плюс – ручной набор. Такая работа передается читателю, потому что за ручным набором чувствуется человек. И наборщик тоже всегда чувствовал читателя. Поэтому в книге присутствует вложенная в нее душа. Обратите внимание на шрифт. Он подобран специально для пушкинского стихотворения. Шрифт – сближает с читателем. Знаки препинания воспринимаются совершенно по-другому: и запятая, и тире, и точка – все это влияет на восприятие, создает особенную ритмику произведения, – Вячеслав Петрович закинул очки на лоб, прислонил книгу к лицу и стал ее разглядывать, затем бережно положил на стол и взял попавшееся под руку современное издание.
– Видите, здесь совсем нет полей, шрифт не продуман, книгу никак не раскроешь, читать тяжело, а то и просто невозможно... Идет экономия средств, бумаги, краски, времени, еще чего-то, а в итоге убивается то, что читателя соединяет с книгой и с автором.
Я стал высказывать восхищение от увиденного, но Вячеслав Петрович вновь меня остановил:
– А чего удивляться? В этом здании, где мы сидим, были впервые отпечатаны «Мертвые души», – он достал из шкафа великолепно изданную и прекрасно сохранившуюся книгу Гоголя. На самом верху титульного листа стоял автограф: «Ант. Чехов».
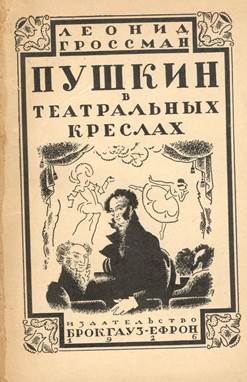 – Видите, она из библиотеки Антона Павловича Чехова. Когда-то его сестра, Мария Павловна, подарила несколько книг Убежищу артистов – это вроде современных домов для ветеранов сцены, – и уже оттуда книга попала сюда, к нам в библиотеку. На том месте, где вы сидите, некоторое время работал корректором Глеб Успенский. А Сухово-Кобылин здесь же издавал свои «Картинки прошедшего». Говорят, очень был дотошным и из типографии не вылезал. Вот какое это здание! – завершал рассказ Вячеслав Петрович. – Поэтому сидите и пишите о Пушкине...
– Видите, она из библиотеки Антона Павловича Чехова. Когда-то его сестра, Мария Павловна, подарила несколько книг Убежищу артистов – это вроде современных домов для ветеранов сцены, – и уже оттуда книга попала сюда, к нам в библиотеку. На том месте, где вы сидите, некоторое время работал корректором Глеб Успенский. А Сухово-Кобылин здесь же издавал свои «Картинки прошедшего». Говорят, очень был дотошным и из типографии не вылезал. Вот какое это здание! – завершал рассказ Вячеслав Петрович. – Поэтому сидите и пишите о Пушкине...
Что касается Александра Сергеевича, то, как объяснил Вячеслав Петрович, он часто бывал в доме, находящемся в десяти шагах отсюда, – в книжной лавке Ширяева. Лавка считалась лучшей в Москве и располагалась в доме редактора «Московских ведомостей» Каткова.
Когда я, несколько озадаченный своим неожиданным перемещением в XIX век да еще нагруженный книгами, покидал кабинет Вячеслава Петровича, то все же спросил, кто эта женщина на фотографии.
– Это Тамара Карсавина, – ответил Вячеслав Петрович, одновременно вытаскивая из книжного шкафа фотопортрет великой балерины. – Возьмите его себе. Пригодится в вашей работе.
– Вот портрет Карсавиной я брать не стану, – решительно возразил я как раз в тот момент, когда Вячеслав Петрович упаковывал фотографию балерины, чтобы отдать мне.
– Ну что за человек упрямый! – возмутился Вячеслав Петрович пуще прежнего. – Берите, вам говорят, пусть он будет у вас, и не обращайте внимания на мелочи: вы – Пушкиным занимаетесь! Понимаете или нет?..
Так я и ушел с портретом Карсавиной, сопровождаемый довольным Вячеславом Петровичем до самого выхода.
…Почему-то припомнилось, как лет пятнадцать назад, проживая в глухой провинции, я, чтобы подработать, устроился художником-оформителем в гастроном. Через неделю меня пригласила к себе в кабинет заместитель директора, молча взяла мою сумку и стала заталкивать в нее дефицитные в ту пору мясные консервы, печень трески, копченую колбасу и, кажется, сгущенку. На мой удивленный и даже возмущенный вопрос: «Что все это значит?» – заместитель директора очень спокойно, не глядя на меня, ответила: «Так надо. Принесешь домой – спасибо скажут». На самом деле она делала меня «своим человеком» в новом для меня гастрономическом мире… Не боюсь кощунственных сравнений и аналогий, но точно так же делал меня «своим» Вячеслав Петрович. Только, слава Богу, не колбасой и сгущенкой, а книгами о Пушкине. И знаете, я точно не вспомню, когда сильнее смущался: сейчас в библиотеке или тогда, в несчастном советском гастрономе...
И еще немного о мотивах, побудивших меня вернуться к очерку. Было одно важное обстоятельство, которое я до поры до времени от всех утаивал.
Как только стало известно о поездке в Торжок, я сразу же отправился к одному своему старшему другу за советом: на какие особенности пушкинского праздника следует обратить внимание? Друг мой, открою секрет, является крупным режиссером в одном знаменитом московском театре. На мою просьбу рассказать о Пушкине он почти не прореагировал, если не считать его ласковой сочувственной улыбки, дающей мне понять, что книжки читать надо было раньше. И тогда мне пришла мысль предложить ему поехать со мной. Я настоятельно рекомендовал ему, уже немолодому человеку, отдохнуть немного на природе, рядом с пушкинскими местами, принять участие в мероприятиях и даже выступить там. Я понимал, что участие Режиссера в пушкинском празднике было бы настоящим сюрпризом для его организаторов.
Режиссер сначала наотрез отказался: «Господь с вами! Какой Торжок! Работы непочатый край... Федора Михайловича репетируем». Однако уже перед самым моим отъездом позвонил и согласился отправиться со мною, чтобы отвлечься, как он сказал, «от этих репетиций и от актеров, которые ни-и-чего не хотят понимать».
– Я им говорю: «Господа! Это же Федор Михайлович! Надо внимательнее относиться!», а им хоть бы что... Ну что за страна! – жаловался в трубку Режиссер. – Ей-богу! Никто ничего не хочет делать. Хоть кол на голове теши!..
– Значит, едем в Торжок! – обрадовался я.
– Ну давайте поедем в Торжок, – обреченно согласился Режиссер, но поставил условие: ни одна душа – ни в Торжке, ни в Москве – не должна знать, что он будет на пушкинском празднике. Едет он туда лишь для того, чтобы пару дней побыть на свежем воздухе и, что еще важнее, в тишине.
Таким образом, в поездку я отправился не один, и, хотя с утра до позднего вечера я был занят встречами, все же о Пушкине мы говорили, и будет несправедливо, если мысли, высказанные Режиссером, останутся уделом лишь нас двоих.
Все это я рассказываю для того, чтобы вы знали, сколь серьезны мотивы, заставившие меня вернуться к работе над очерком. Есть старый мультфильм – «Ограбление по-итальянски». Там добропорядочный итальянский семьянин, нарожавший кучу детей, решил от нужды грабить банк. Об этом, конечно же, прознали все вокруг и стали ему помогать советами и подсказками: кто-то показал, где находится благополучный банк, охранники дали ключи и даже препроводили к сейфу, а работники банка помогли вынести тяжеленные мешки с деньгами... – словом, все, как могли, принимали участие в этом «безобидном», в чем-то даже семейном, деле. Так что шансов «не грабить» банк у несчастного просто не было. Так же и я, заявив о своих намерениях и получив в ответ множество советов, рекомендаций, материалов, а главное, пробудив у друзей надежду и ожидания, просто не имел права все это как-то оставить.
– Давай, пиши! Нам некогда, так хоть ты, – говорили мне.
– Но это же Пушкин! – пытался защититься я. – Это же опасно! Вдруг не получится?..
– Ничего-ничего! Не боги горшки обжигают.
– Так тó – горшки, а здесь... – упирался я.
– А для Бога это все и есть горшки, – убеждали меня.
Так что я был просто приговорен. И вот, спустя три месяца, я собрал все материалы и, насколько хватило моих способностей, изложил их с тем, чтобы передать на ваш суд, без всякой надежды на снисхождение.
Глава первая
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|