
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Дэнни Шейнман 12 страница
– Так Ленин – еврей?
– Очень на то похоже. Что это они с Троцким не разлей вода? Прямо голубки.
Раненый смеется, и я вслед за ним.
В юности частенько приходилось вот так притворяться. А на старости лет несолидно как‑то стало.
– Когда свергли царя, мне казалось, туда ему и дорога. А ведь при царе‑то лучше было. Согласны?
– Конечно, – вздыхаю я в ответ. – Какое же сравнение?
– Продовольствия было в изобилии. А сейчас кое‑где уже голод. Лучшие пахотные земли большевики отдали немцам, да и себя не забывают, надо думать. Набивают карманы. Жидам ведь все мало. Только кричат, что все силы отдают народу. Курам на смех.
– Так что же вы дезертировали? Дрались бы с ними, – не выдерживаю я.
– Меня в армию силком загнали. Это я только прозываюсь «доброволец». Казаки окружили толпу, записали всех гуртом, и поди пикни. А ведь мне сорок пять, подготовки нет. Какой из меня солдат против красных? Под Оренбургом всех мобилизовывали. Не идешь – значит, враг. Большевик. А с врагами как поступают? Сам видел: болтается на телеграфном столбе труп молоденькой девушки. Голова обрита, груди отрезаны, кожа вся в ожогах. И дощечка на шее: «Так будет со всеми, кто сочувствует большевикам».
Меня охватывает ужас. Неужели все мои усилия зря, неужели зря я радовался, что самая трудная часть пути позади? Вот тебе непреодолимая преграда между тобой и Лоттой – красные части. И гражданская война со всеми ее жестокостями.
– А вы куда направляетесь? – спрашивает он.
– На фронт.
Все‑таки наполовину правда.
– Молодчина. А повоевать довелось?
– Да. В Галиции.
А это истинная правда.
– Выговор‑то у вас и вправду хохляцкий. Брусилов, значит, командовал. А по нынешним временам к кому подадитесь?
– К белым, – с запинкой отвечаю я.
– А к какому командиру? К Деникину на Кавказ или к Каппелю в Самару?
– К Каппелю, – говорю наугад. – Да, а что там болтают про чехов? Они‑то где?
– Поганцы захватили Транссибирскую магистраль от Уфы до Владивостока. Без их разрешения мышь не проскочит. За свою независимость борются, только мы‑то здесь при чем? Все они когда‑то воевали в австрийской армии и добровольно сдались в плен. Говорят, их целых шестьдесят тысяч. С большевиками у них нелады, а пока Австрия сражается, путь домой заказан. Ненавижу сволочей, но они хоть на нашей стороне. Без них бы нам совсем каюк. У чехов все‑таки какая‑никакая дисциплина, и им есть за что драться. А что у нас творится, сами увидите, как попадете в Самару. Только поторопитесь, говорят, красные взяли Сызрань и вот‑вот перейдут через Волгу. Как бы вам не угодить прямо к ним в лапы… Господи, что это?
Слышен стук копыт. Душа у меня проваливается в пятки. Мой новый знакомый срывается с места и, словно лис, юркает в кусты. Я подхватываю свой мешок и кидаюсь за ним.
Топот все ближе, но за туманом никого не видно.
А ведь это вернулись за ним, мелькает у меня в голове. Отыскать его по кровавому следу раз плюнуть.
Сворачиваю в сторону и бегу вниз по склону. Далеко тут не убежишь – времени нет. Пока меня не заметили, падаю в крапиву и прячусь за разросшимся кустом ежевики.
Вот они, мои всадники: грязные, бородатые, вид угрожающий. Их тринадцать человек, двоим – седым головам – уже за пятьдесят, одному – мальчишке – не дашь и шестнадцати, остальные – в расцвете сил.
Они осаживают коней у лужи крови и озираются.
– Живой, проныра! – кричит один. – Надо же, уполз.
– Далеко не уйдет. Позабавимся, ребятушки, – отвечает другой.
Вся компания оживляется.
– Ау! – орет третий. – Где ты, трус поганый? Кровь‑то – вот она, а тебя и нету…
Затаиваю дыхание. Из‑за кустов метрах в пятнадцати видны ноги. Они дрожат и подгибаются, словно у новорожденного ягненка.
– В прятки играешь, жидок?
Нет, это они не мне.
Голова у меня лихорадочно работает. Ведь при мне австрийские документы. Нашариваю их в нагрудном кармане.
Какая эта ежевика колючая!
– Тебя что, выкурить, проныра? Или ты будешь умничкой и сам выйдешь?
Дезертир не шевелится. Втискиваю свои документы под дерновину и присыпаю землей.
Один из казаков на лошади въезжает в заросли. Глаза у него жестокие, движения небрежные и надменные. Я догадываюсь: это, судя по всему, их атаман.
– Ах ты, большевичок беспечный, все кровью обляпал. Вот и еще лужица. Насквозь ты красный, видать.
Его товарищи хохочут. Двое спрыгивают с коней и направляются прямиком к месту, где прячется жертва.
Слышу их голоса:
– С поля брани сбежал, дезертир хренов?
– Только бежать‑то тебе некуда. Трусам в России не место.
– Покажись, заячья душонка.
Дезертир внезапно выскакивает из своего укрытия – прямо на преследователей. Они выкручивают ему руки и выволакивают на дорогу. Хотя до них всего несколько метров, они меня не замечают.
Хоть бы пленник меня не выдал!
– Я же сказал, я не большевик и не еврей! – хнычет он.
– Так что ж ты с ними не сражаешься? Кто не с нами, тот против нас, – свирепо отзывается атаман. – Мы‑то думали, ты помер. Сейчас исправим ошибку.
– Не убивайте меня. Я большевиков ненавижу всем сердцем. Дайте мне увидеться с женой и дочками. У меня их три. Ведь у вас у самих есть дети, правда? Как они будут без меня?
Атаман вроде бы смягчается.
– Дети, говоришь? Ты‑то сам откуда, человечишко?
– Из Кувандика.
– Знаю. Хорошее село, – улыбается атаман. – Да ты уж почти дома. Чем на жизнь зарабатываешь?
– Я шапочник. Льва Борисовича у нас всякий знает, только спросите. – Пленник переводит дух. – Вам каждому подарю по шапке.
– Скучаешь по дочкам‑то, Лев Борисович? У меня у самого две. Лет‑то им сколько?
– Три месяца не виделись. Старшей двадцать один, средней девятнадцать и младшей пятнадцать. Одна краше другой.
– Вот уж мы к ним наведаемся после того, как ты помрешь.
Казаки гогочут.
Шапочник недоверчиво смотрит на атамана, взвизгивает и заливается слезами.
– Умоляю… не трогайте их… они ни в чем не виноваты…
Он падает на колени, колотит по земле руками.
И внезапно затихает. Смотрит в мою сторону.
Я весь содрогаюсь от ужаса. В глазах у него немой крик о помощи. А что я могу сделать?
Проходит минута, и он отворачивается.
Господи, укрепи дух этого человека, хоть он и антисемит!
– Что сделаем с ним, ребята? – интересуется атаман.
– Накажем по‑казацки! – восклицает мальчишка.
– Ура! – кричат остальные и подъезжают ближе.
Шапочника выволакивают на середину дороги и ставят на колени. Двое спешившихся обнажают шашки и становятся по обе стороны от него.
– Пошевелишься – голову срубим.
Подросток пускает свою лошадь вскачь. Прямо на коленопреклоненного дезертира. В глазах у молодого парня восторг. Товарищи подбадривают его. Конь перепрыгивает через согбенную фигуру Льва Борисовича и задевает его копытом по лицу. Обливаясь кровью, шапочник опрокидывается на спину.
Казаки покатываются со смеху. Лев Борисович с трудом поднимается на ноги и стоит‑качается. Его взгляд снова устремлен в мою сторону. Он шевелит губами, словно собираясь что‑то сказать, но не произносит ни звука.
Его поворачивают лицом к следующему всаднику и опять заставляют опуститься на колени.
– Ох и позабавимся же мы с твоими девчонками, – кричит на скаку казак.
Удар копытом приходится в грудь. Лев Борисович дергается и валится навзничь. Его поднимают. Шапочник судорожно кашляет, отплевывается. Но голос его на этот раз звучит отчетливо.
– Я… не большевик.
– Для нас ты большевик. На колени, мы еще только начали.
– Я… не большевик. – Он мотает головой в мою сторону: – Вон хоть его спросите.
– Кого спросить?
– Да вот человек… в кустах.
Спешившиеся смотрят на меня – и не видят. Лицо мое пылает.
– Где в кустах?
– Вот я. – Выпрямляюсь и продираюсь сквозь кустарник вниз по склону.
– Так вас двое? – осведомляется атаман. – Что же ты раньше молчал?
– Он знает… я не большевик и не еврей, – задыхается Лев Борисович.
– Так вы ж оба дезертиры.
– Он – нет. Он на фронт пробирается.
– Я направляюсь к полковнику Каппелю, – вступаю я, стараясь, чтобы голос мой звучал убедительно.
– Это так, – поддакивает шапочник.
– А откуда вы друг друга знаете?
– Односельчане. – Лев Борисович умоляюще смотрит мне в глаза.
Это с моим‑то выговором?
– Это не так. Я шел по дороге, смотрю – в канаве человек лежит. Я привел его в чувство, мы поговорили. Я уверен: он – не большевик.
– А ты‑то сам откуда, фронтовик?
– С Украины.
– Да ну? Ой, не похож ты на хохла. – Атаман задумчиво поглаживает бороду. – Звать‑то тебя как?
– Сергей.
– А дальше?
Из русских фамилий у меня в голове почему‑то вертятся только Пушкин, Толстой и Лермонтов, их книги я читал в лагере.
А, была не была, на начитанных казаки тоже не больно‑то похожи.
– Сергей Лермонтов, – объявляю я. – Сергей Александрович Лермонтов.
Атаман и бровью не ведет.
– Значит, Cepera, ты с Украины. А как тебя на Урал‑то занесло?
– Мать у меня казачка, а отец украинец. Мы жили на Украине, но материна сестра тяжко захворала, и мы решили перебраться сюда, чтобы было кому ходить за больной.
История подлинная, я услышал ее от какого‑то попутчика. Но в моих устах она звучит фальшиво.
Поверили мне или нет, не пойму.
– Скажи‑ка мне, Cepera, казак с Украины, как поступают с предателями?
– Расстреливают.
– Как по‑твоему, Лев Борисович предатель?
– Какой с него был бы толк на фронте? Он старый, военного дела не знает.
– Немолодой, твоя правда. А что скажешь про этих двух? – он показывает на седобородых.
– Они же сызмальства в седле и с шашкой. Они опытные бойцы.
– Ага. А теперь ты, Лев Борисович. По‑твоему, Cepera патриот?
– Да.
– Брешете вы оба. Дезертир всегда предатель. А патриот обязан покарать дезертира, иначе он сам предатель. Разве не так?
Какой вкрадчивый у атамана голос!
Нам нечего ему сказать. Ничего в голову не приходит.
– Ну вот что, господа хорошие. Забава забавой, однако хорошенького понемножку. Решение мое такое: один из вас уйдет живой.
Атаман смотрит то на меня, то на шапочника.
– Не слышу благодарности.
– Спасибо вам, – послушно бормочем мы.
– Только кто из вас больше набрехал, сами решайте. А мы поглядим. Андрюша, Коля, дайте‑ка им свои шашки. Пусть рубятся до смерти. Хотя нет… лучше пусть сойдутся в рукопашной.
Атаман делает знак, казаки спрыгивают на землю и обступают нас, переглядываясь и пересмеиваясь.
Смотрю на Льва Борисовича. На лице у него кровоподтеки от копыта, рука беспомощно свисает… И я должен с ним драться? Да эти люди хуже зверей.
Шапочник поворачивается к атаману:
– Разве мне с ним справиться? Я ранен, у меня рука сломана. А он вон какой здоровый. Даете слово, что не тронете мою семью, если он меня убьет?
– Как это? Чтобы тебе не за что было драться? Еще чего. Нет уж, если проиграешь, мы вдоволь натешимся с твоими девками. Уж будь уверен. Сам ведь говорил, одна другой краше. Но я человек справедливый. Ты у нас в годах, да еще раненый… Вот тебе шашка. Андрюша!
Андрюша передает клинок Льву Борисовичу. Атаман скалит зубы.
– Прости меня, – шепчет шапочник, принимая в правую руку оружие.
– Заранее прощаю тебя, если победишь, – тихонько отвечаю я.
– И я тоже, – бормочет он и внезапно замахивается.
Легко уворачиваюсь. Казаки недовольно гудят и плюют в нас. Нагибаюсь и поднимаю с земли пару увесистых камней. Лев Борисович, припадая на ногу, идет на меня, все лицо залито кровью. Со всей силы швыряю в него камень, тот летит в грудь – шапочник даже не пытается уклониться, так он слаб. Второй камень свистит у него рядом с ухом и чуть не попадает в молодого парня. Тот отшатывается и шипит на меня. Казаки ржут.
Лев Борисович беспорядочно размахивает шашкой и кончиком цепляет меня за ногу. Показывается кровь.
– Дай ему, Серега! – кричат казаки.
Шапочник поднимает шашку над головой, теряет равновесие и падает.
Кидаюсь на него, прижимаю его правую руку к земле и пытаюсь отнять шашку. Он не отдает. Луплю его камнем по пальцам, и они разжимаются. Его тело обмякает подо мной. Опять хватаюсь за камень и бью его по голове. В лицо мне брызжет кровь. Хватаю шашку и поднимаюсь на ноги.
Собрав все свои силы, он встает вслед за мной. Клинок входит ему в живот.
Он шлепается на землю лицом вниз, подставляя открытую шею.
Один хороший удар – и все будет кончено.
Замахиваюсь.
Нет, не могу.
Шашка выпадает у меня из рук.
– Я победил, – ору атаману. – Он не жилец.
– Прикончи его, – приказывает атаман.
Лев Борисович тонко вскрикивает у меня за спиной.
– Сзади, сзади! – кричат мне казаки.
Оборачиваюсь.
С поднятой шашкой в трясущейся руке шапочник стремительно надвигается на меня. Мне уже не увернуться, не успеваю.
Все, конец, мелькает у меня в голове.
Лев Борисович проскакивает мимо.
Его клинок рассекает атаману шею. Хлещет кровь.
Сразу несколько казаков кидаются на шапочника. Его буквально кромсают на куски. Кто‑то стреляет из карабина. Седобородые бросаются к атаману.
В суматохе ныряю в заросли и бегу со всех ног. Странное дело, за мной никто не гонится.
Отбежав подальше, падаю в траву и жду, когда стемнеет.
Мой мешок остался за кустом ежевики, а в нем топор, фляжка, котелок и прочие пожитки. Хочешь не хочешь, придется вернуться.
Прокрадываюсь обратно к дороге.
Казаков след простыл. Валяются какие‑то кучки тряпья.
Не сразу понимаю, что это разрубленное на куски тело Льва Борисовича.
Подхватываю свой мешок и исчезаю в лесу.
С того дня я шел только по ночам, обходя дороги и избегая людей. Минуло несколько дней, прежде чем я понял, что оставил в кустах свои документы.
Где я и что вокруг меня за местность, я не ведал. Ориентировался по звездам, старался идти на запад, позади остался Урал – вот и все, что мне было известно. Кто одерживает верх в войне, где стоят войска, я понятия не имел. Меня терзал голод, заяц или белка были редким лакомством в моем рационе, преобладали грибы, ягоды и похлебка из лебеды и крапивы.
Резко похолодало. Уже двадцать месяцев, как я покинул Сретенск, и обувка моя износилась. Кашель, которым меня наградила шахта, никак не проходил. Зарядили дожди. Ночи стали темные, хоть глаз выколи.
Вот в такую ночь я угодил в какое‑то раскисшее глиняное болото, поскользнулся и ударился о камень.
Присмотрелся.
Это не камень. Это была человеческая голова.
И не одна. Целое поле.
Дождями размыло братскую могилу.
По сей день не знаю, кто это был, красные или белые.
Ближе к середине ноября я вышел к широченной реке.
Это была Волга.
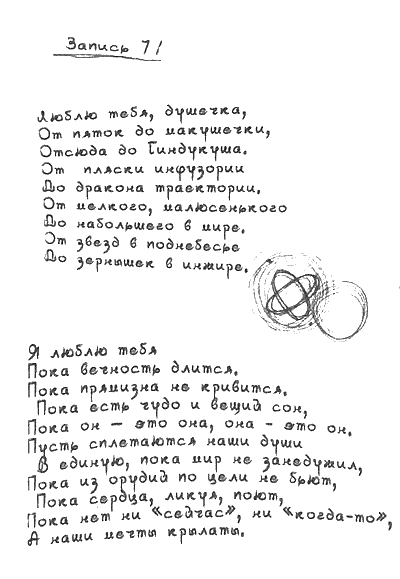
[26]
Что, Довид, надоел тебе твой паровозик? Прости, не могу поиграть с тобой. Иди‑ка ты лучше к маме. Вот и молодец. Может, ты, Фишель, тоже пойдешь? Заглянешь ко мне попозже. А я пока вздремну за компанию с Исааком. Ты только посмотри на него. Такой милый мальчик, просто ангелочек. Буду скучать по нему. По всем по вам буду скучать. Ой, прости, Фишель… только не плачь. Зря я так.
Послушай, сынок. Не хочу тебя обманывать. Вряд ли я уже поправлюсь. Все заботы о маме и братьях лягут на тебя. Ты ведь уже большой. Крепись, как бы трудно тебе ни пришлось. Я верю в тебя.
Вот посплю – и мне станет лучше. Не расстраивайся так, мой час еще не пришел. Я пока с вами. Иди ко мне. Что ты набычился? От меня плохо пахнет? Да нет, не должно. На вот носовой платок и утрись. Не бойся, он чистый.
Хочешь, чтобы я продолжил свой рассказ? Ну ясное дело, хочешь. Милый мой… опять замолчал. Ради тебя я готов на все… согласен даже опять отправиться в свой сибирский поход. Только наберись терпения… мне придется прерываться, переводить дыхание. Подай мне плевательницу… спасибо.
Слушай же.
Я стоял на берегу Волги. Откуда‑то с севера доносилась далекая канонада. К югу от меня в утренней дымке проступал город.
Не иначе, Самара, решил я.
По склонам холмов на высоком противоположном берегу тоже карабкались дома.
Переплыть реку было нечего и думать. Этакая громадина. Да и холод собачий. Пришлось тащиться в город.
Навстречу мне попалось сразу несколько отрядов солдат. Это были красные. Одеты не с иголочки, мягко говоря, но ряды сплоченные, вид решительный, как и полагается доблестным бойцам. Каждый телеграфный столб был густо облеплен последними распоряжениями большевиков. Значит, из Самары белых уже выбили.
Я направился к причалам. То тут, то там виднелись длинные очереди. За керосином, за хлебом, за мукой и невесть за чем еще. Я порылся в кармане – мой наличный капитал исчислялся пятью рублями. Есть хотелось нестерпимо.
Мне бы сесть на паром – а я занял очередь в булочную невдалеке от пристани. Стою и стою. Несколько часов прошло, а движения никакого. Мне бы плюнуть и уйти – психология не позволяет. Будто бес на ухо шепчет: стоит тебе удалиться, как товар тут же появится в изобилии. Да и столько времени грохнул – зря, что ли? Тут и ненужное купишь.
Словом, часа через четыре я добрался до прилавка. И тут меня охватил ужас. В последний раз, когда я покупал хлеб, буханка стоила две копейки. А сейчас четыре рубля!
Булочник надо мной сжалился – выдал черствую сайку всего в рубль ценой. А то очередь уже стала возмущаться, мол, не тяни, бери или проваливай. Пришлось взять – хотя денег было жалко до слез.
Проглотил я эту сайку прямо на месте – двух шагов от двери лавки не отошел. И тут‑то голод разыгрался по‑настоящему, будто и не ел ничего. Если так дальше дело пойдет, денег мне хватит дня на два.
Заскрипел я зубами и пошел на пристань. А там надпись: «Паромная переправа в Саратов».
Как Саратов? Какой такой Саратов? Куда это меня занесло?
Взгляни на карту, Фишель. Вот она, Волга… ниже… а вот Саратов. От него до Самары километров четыреста. Вот это крюк! А я находился на восточном берегу – в Покровске.
Как видишь, до дома еще очень далеко.
Еще меня озадачила дата на билете – второе декабря. По моим подсчетам выходило, что на дворе семнадцатое ноября. А куда же делись две недели?
Когда я в последний раз видел месяц и число? Правильно, в октябре. В орской лавке я тогда купил газету, чтобы было на чем писать Лотте. Без писем к ней я уже не мог обойтись, они были движущей силой моего странствия, чем‑то вроде путевого дневника.
Пропавшие полмесяца не давали мне покоя, ведь не спал же я на ходу?
Я и ведать не ведал, что красные успели ввести другой календарь – как в Европе.
На пароме я сидел рядом с пухлой пожилой матроной в шерстяном платке, поначалу не сводившей с меня подозрительных глаз. Еще бы: оборванный изможденный субъект, заросший клочковатой бородой. Но стоило мне вежливо с ней заговорить, как она прониклась ко мне доверием и принялась болтать без умолку. Она везла с собой две корзины: одна набита луком, а во второй упокоилась ободранная тушка кролика. Время было голодное, и дама очень радовалась, что удалось разжиться продовольствием. Ей пришлось встать в четыре утра, пересечь Волгу и три часа шагать до знакомой деревни, где, как она знала, у одной женщины уродился лук. Ей повезло вдвойне: мало того, что крестьянка уступила ей толику урожая по сходной цене, так еще и сосед продал кролика. И теперь ее семью ждет настоящий пир, как в старые добрые времена.
Женщина охотно поделилась со мной последними новостями и слухами. Адмирал Колчак объявил себя верховным правителем России, Центральные державы[27] проиграли войну. Монархии Центральной Европы рассыпались.
Что же творится сейчас в моей родной стране? Безвластие и развал?
Но если войне конец, мне легче будет попасть домой!
На пристани в Саратове человек в обтерханном пальто и шапке‑ушанке, лет на десять старше меня, просил милостыню. Своей военной выправкой он бросался в глаза. Более того. В его римском носе, ровных усах, длинных пальцах угадывался аристократ.
– Товарищ, подай копеечку. Что‑нибудь поесть. Прошу, товарищ, – обращался он к каждому на ломаном русском.
От него отворачивались. Какая‑то добрая душа сунула ему картофелину – вот и все, что удалось выпросить.
Я подождал, пока толпа схлынула, и спросил по‑немецки:
– Скажи‑ка, друг мой, как тебя сюда занесло?
Он недоверчиво смерил меня взглядом.
– Как и всех остальных.
– Тебя освободили?
– А тебя?
– Я‑то бежал. Из Сретенска.
– Это где? В Сибири?
Я кивнул. Он широко улыбнулся и крепко пожал мне руку:
– Да ты герой. Позволь представиться: Оскар Шмидт.
– Мориц Данецкий.
– Давно в Саратове?
– Первый день на советской территории.
– Ну надо же! Иди‑ка за мной, нечего нам здесь торчать. Следующий пароход только через два часа.
Мы пошли к городу. Мне было не по себе: на улице полно народу, а мы говорим по‑немецки. А Оскар, казалось, и в ус не дул – будто так и надо.
– Значит, большевики сдержали слово, – заметил я.
– Да, солдат. Построили в шеренгу всех немецких и австрийских офицеров, кто оказался в их власти, и пиф‑паф. Офицеры ведь классовые враги, а врагов надо уничтожать. А солдат выпустили на свободу – ступайте на все четыре стороны. Ей‑богу, в лагере было лучше, там хоть кормили. Вот уж не думал, что буду так тосковать по каше.
Мы оба рассмеялись.
– А за то, что мы австрийцы, нас к стенке не поставят?
Он понизил голос:
– Люди до смерти напуганы. Что большевики скажут, то и сделают.
– Чем же они напуганы?
Он потеребил усы, оглянулся и впихнул меня в тихий переулок.
– Ты слыхал про Чека?
– Нет.
– Это что‑то вроде тайной полиции. Чека истребляет врагов режима. Попадешься им, прикончат без суда и следствия. Реквизируют квартиры в центре города, бывших владельцев кидают в подвалы. У нас пытались было протестовать, демонстрацию организовали. Так Красная гвардия по демонстрации из винтовок. Нищим теперь вольготно. Если бы я не был иностранец, вселился бы сейчас во дворец.
– Так что, все военнопленные попрошайничают?
– Не все. Некоторые сражаются с белыми. Сам видел, как взвод венгров отправляли на фронт. Эти мерзкие мадьяры во всем за большевиков, не пойму только с чего. Вернутся домой – то‑то будет катавасия.
– А мы когда вернемся домой? Войне конец… ведь так?
Оскар горько усмехнулся:
– Если бы все было так просто. Мы ведь пешки в большой политической игре. Ленин убежден, что в будущем году вся Европа станет советской. Мне так не кажется. Самое интересное: большевики могут отправить тебя на родину, если согласишься пропагандировать их идеи и сражаться за дело революции в своей стране.
– Мне только домой попасть, я на все согласен.
– Просто так они тебя не отпустят, – пригасил мой восторг Оскар. – Для начала тебя подвергнут идеологической обработке. Вот когда будешь думать и поступать по‑ленински, тогда и к тебе будет полное доверие… Гнусность какая.
– Все‑таки надо рискнуть. Что они с тобой сделают? Набьют башку своими идеями? Записаться добровольцем – и готово дело.
– Я и сам к этому склоняюсь… ведь не побираться мне всю жизнь? Люди сами голодают, много они мне подадут? И подумать только, когда‑то у меня был свой повар!
Уж в этом‑то я не сомневался. Офицер в нем был виден за версту.
Оскар испуганно взглянул на меня.
– Проговорился, надо же! Только никому не слова.
– Я буду нем как рыба. Дворянин ты или кто, для меня неважно.
– Спасибо. А то ведь подвесят меня, как колбасу.
Мне было любопытно, как ему удалось избежать расстрела. Сейчас он был во всем штатском. Украл?
Но Оскар не желал откровенничать.
– Меньше знаешь, крепче спишь. А то погубишь нас обоих. Я ничего не говорил тебе, солдат, запомни хорошенько.
Ночь мы провели в разграбленном особняке. Оскар сказал, что найти сейчас крышу над головой труда не составляет, только не стоит ночевать два раза подряд в одном и том же месте, да и от Чека надо держаться подальше. Всю ночь мы обсуждали с ним открывшиеся возможности, и к утру мне удалось убедить его отправиться со мной в саратовский совет.
– Мориц, они ведь сразу почуют, что я не их поля ягода. Они не дураки, – беспокоился Оскар, когда назавтра мы вышли на улицу.
– Откуда им знать?
– Болван, ты ведь мгновенно распознал во мне офицера. Присмотрятся ко мне повнимательнее – и в расход. Породу не спрячешь, солдат.
– А ты ссутулься, смотри в землю и перестань называть меня «солдат». Говори себе все время: я крестьянин, я крестьянин.
Оскар громко расхохотался:
– Ну ты голова! Надо же, все так перевернуть! Я – крестьянин!
Из серого здания, мимо которого мы проходили, послышался женский крик. Со звоном вылетело окно, стекла посыпались на мостовую перед нами. Оскар молча схватил меня за руку, перешел на другую сторону и прибавил шагу. Я поднял голову. В окне второго этажа спиной к улице стоял человек в черном, руки его вцепились в портьеры. Перед ним мельтешили лица сразу нескольких мужчин, в воздухе мелькали кулаки. Портьера оборвалась, человек зашатался, потерял равновесие – и выпал на улицу, головой на булыжники. Выпорхнувшая следом портьера саваном накрыла тело.
Я дернулся было к нему, но Оскар решительно потащил меня прочь:
– Не останавливайся.
Из дома выбежал мальчишка и с криком «Папа! Папа!» бросился к мертвецу.
Никто из прохожих и не подумал ему помочь. Мгновение – и улица опустела. Всех словно ветром сдуло.
Когда мы сворачивали за угол, я оглянулся. Трое неприметно одетых мужчин за волосы волокли по улице женщину.
Оскар подтолкнул меня в спину.
– Никогда не связывайся с Чека.
Величественное здание на главной площади города было украшено красными флагами – не ошибешься. У входа стояли часовые. Нас пропустили.
Битый час мы искали нужный кабинет.
Вот он, человек, от которого зависит наша судьба. Вид суровый, подозрительный.
– Товарищ, мы хотим вернуться в Австрию, чтобы раздуть пламя революции, – сказал я высокопарно.
И машина завертелась.
Не успели мы оглянуться, как вместе с сотнями других военнопленных оказались в эшелоне, следующем в Москву. Нас везли на специальные курсы.
Откровенным разговорам с Оскаром пришел конец. Теперь мы были большевики до мозга костей. Во всяком случае, с виду.
Наше учебное заведение помещалось в бывшем реальном училище – большом обшарпанном здании где‑то в пригороде Москвы. По прибытии к нам обратился с речью тощий, гладко выбритый человек – комиссар просвещения Потоцкий. (Какое громкое название для скромной должности!)
– Товарищи! – надрывался он. – Большевики держат свое слово! Мы сражались за вас, мы свергли царя и буржуазный строй! Теперь ваша очередь внести свою лепту в революционную борьбу! Вы – будущие борцы с тиранией в Европе! Вам выпала историческая роль! Мы научим вас действовать по‑ленински и побеждать! Вы понесете рабочим слово правды, вы объедините и организуете их, вы поднимете их на бой с буржуазными угнетателями! Вы – та искра, из которой возгорится пламя!
Я искоса глянул на Оскара, но он как раз изо всех сил вживался в образ крестьянина и не повернул головы. Когда речь закончилась, он вскочил и бешено зааплодировал.
Преподавали нам на нашем родном языке такие же военнопленные, как и мы сами, убежденные коммунисты. Среди них были прославленные в будущем революционеры, например Бела Кун. Начали мы с основ, с марксистского анализа причин и следствий социального неравенства, приведшего к классовому расслоению общества, потом плавно перешли к рассмотрению механизмов, позволивших жалкой кучке сосредоточить в своих руках несметные богатства. Учился я очень хорошо, тем более что материал представлялся мне обоснованным и логически бесспорным. Но хотя я знал наизусть десятки страниц из работ Маркса и Ленина, не лежала у меня душа к марксизму. Между книжным знанием и реальной жизнью лежала пропасть. Я своими глазами видел, как национализация и насильственная уравниловка очень скоро породили некий новый класс, совсем уж нищий, и новое угнетение (куда хлеще прежнего), когда немногочисленная сытая верхушка решает за тебя все, вплоть до того, на каком языке тебе говорить и какие убеждения иметь. Нет, марксисты тогда решительно не пользовались моим расположением. Другое дело сейчас. Ведь только они отважно боролись с Гитлером, а либералы и демократы просто умыли руки. Если его когда‑нибудь кто и свергнет, то это будут коммунисты.
На курсах мы с Оскаром почти не общались, впрочем, он ни с кем особенно не разговаривал, все больше помалкивал, ссутулившись и засунув руки в карманы. К тому же нас постоянно окружали люди, слушателей навезли с избытком, и у нас просто не было возможности поговорить наедине. Нам оставалось только всячески демонстрировать свой энтузиазм и преданность делу революции, аплодировать каждому оратору, наружно радоваться продвижению красных частей на восток. С каждым днем Оскар сутулился все сильнее, словно сгибаясь под непосильной ношей. А вот прочие военнопленные, из простых, пушечное мясо, обретали достоинство.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|