
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Из «Пермской синематеки». Василий Чепелев
Из «Пермской синематеки»
***
за тем деревянным домом
тропинка сойдет на нет
мы были тебе знакомы
прохожий, смотри нам вслед
вон там васильки дневные
цветут как сто лет назад
мы психи но не больные
а нам доктора грозят
прохожий, как непохожи
мы нынешние на тех
и ты нас не видишь тоже
не слышишь ни крик ни
смех
идешь со своим айфоном
больничный модерн сними
мы там, за лесистым
склоном
мы тоже были людьми
мечтай о кофе с корицей
о теплом своем жилье
заброшенной психбольнице
недолго быть на земле
и дождик шуршащий в
травах
и дерево и стена
телесная их оправа
больной душе не нужна
и ты не ступай уныло
сквозь сумерки не смотри
лечебница не могила
мы все еще там, внутри
***
И вот восходит звезда и поет во тьму.
– Кому ты поешь? – я спрашиваю.
«Никому.
Это мое, присущее, музыка сфер.
Ты – родилась и выросла в СССР,
мама твоя – комсомолия, папа –
свердловский рок,
дороги твои на запад, окна все – на
восток,
ты в них видишь меня, говоришь со
мной –
отвечай: хорошо ли тебе одной?»
Что я отвечу звезде, если все – тщета:
совесть, любовь, истина, красота…
Если три четверти жизни живешь во
тьме,
если детей родишь, чтоб отдать зиме,
если вдыхаешь воздух, а в нем зола,
нет той страны, которая родила,
правды нет на земле и покоя нет.
Плохо ли мне одной? Не скажу, мой
свет.
Может быть, до меня и не было
ничего,
мыслю сей мир и так же убью его.
«Нет, – говорит звезда, – ты не
поняла.
Ты же спала, а я тут всегда была.
Я никому пою, я для всех горю,
но только с тобой отныне я говорю.
Слышишь меня?» – говорит, говорит,
поет.
Солнце встает, – отвечаю, – день
настает.
Май
Июнь
Июль
 Юрий Викторович Казарин
Юрий Викторович Казарин
***
Если я от тоски не умру,
я пойду постою на ветру,
прикрывая от ветра сопатку.
Время вывернет левую ру…
…и лопатку.
Тоже левую – слева сквозит
стужей, скрипом сиротских сандалий,
пустотой, где кончается стыд
за тоску, что ещё предстоит,
и так далее…
***
Не умирать, не исчезать –
о, как мне пелось и дышалось,
как я умел соединять
воды многоугольной гладь
и неба нежную шершавость,
и кружевных морозов шалость,
и мыслей горьких благодать,
и сети крепкие поленниц,
и сад уже чужой, как немец
немой, от неба отщепенец,
в ветвях щемящих и нагих,
и вечный шорох полотенец
густого инея на них.
***
От счастья содрогнёшься –
и снова не умрёшь.
А в пять утра проснёшься –
окно бросает в дрожь
от первого трамвая,
и странно ровно в пять –
от счастья умирая –
от жизни умирать.
Сердце болит во сне.
Значит приснится мне
детство: июнь, трамвай,
слышимый, словно край
моря, а здесь Урал
ночью куста боится;
дальше – зима, провал,
улица Орджоникидзе –
Сталина бывшая,
то есть б/у, а я –
пасынок алфавита,
губы сплошные – гусь…
Сердце мое разбито –
как я теперь проснусь.
***
Иди, не бойся темноты,
шумит трава, здесь всё – прохожий:
и сумрак, полный пустоты,
и дождь, и воздух непогожий.
Здесь что ни ангел – то Иван,
окрест в пустом, опухшем поле
всю ночь клубится не туман,
а белоглазый облик боли.
Идёт. Не окликай его –
прохожего, он часть погоды,
он сам – и соль и вещество
уже последних слёз природы.

 Вася Че, не ходи в "Кофебум".
Вася Че, не ходи в "Кофебум".

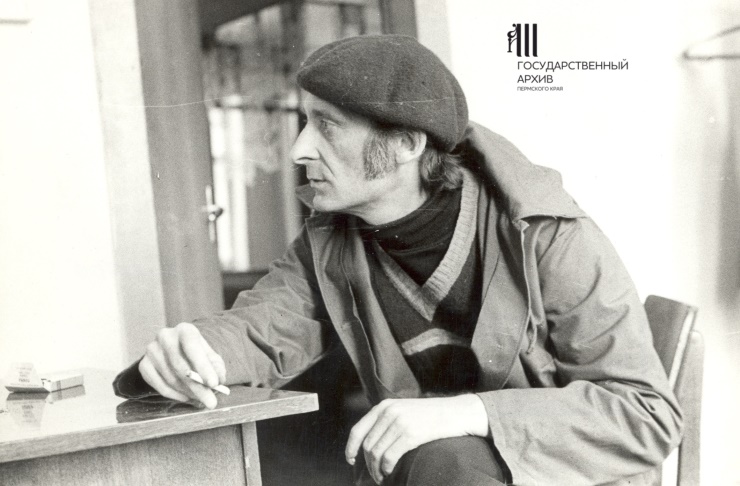 Алексей Решетов
Алексей Решетов Игорь Сахновский
Игорь Сахновский Сергей Гонцов
Сергей Гонцов Аркадий Застырец
Аркадий Застырец