
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Годфри Харолд Харди.. Апология математика. Г. Г. Харди. Апология математика. A Mathematician's Apology. G.H. Hardy. Cambridge. At the Untversity Press. Предисловие Ч. П. Сноу
Годфри Харолд Харди.
Апология математика
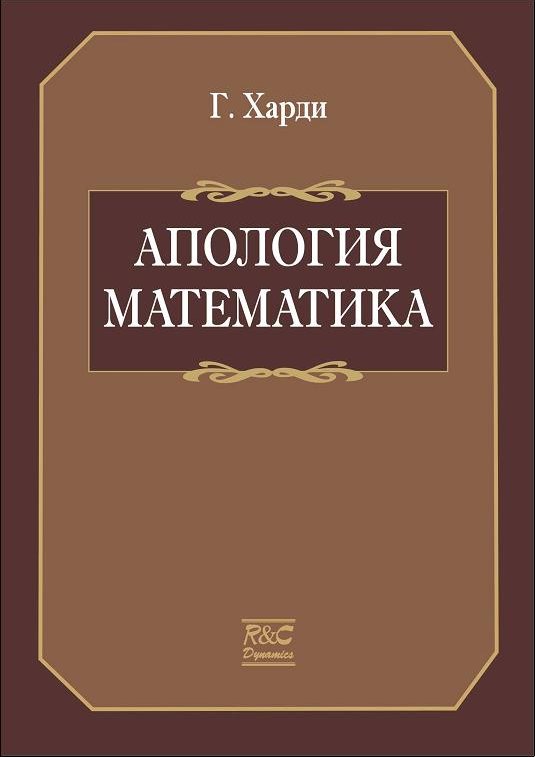
Г. Г. Харди. Апология математика
A Mathematician's Apology
by
G.H. Hardy
Cambridge
At the Untversity Press

Предисловие Ч. П. Сноу
Это был ничем не примечательный вечер за высоким столом[[1]] в Крайст‑колледже[[2]], если не считать того, что гостем был Харди. Он только что вернулся в Кембридж в качестве Садлеровского профессора[[3]], и мне доводилось слышать о нём от молодых кембриджских математиков. Они были в восторге от его возвращения: по их словам, он был настоящим математиком, не то, что все эти дираки[[4]] и боры[[5]], о которых без умолку толкуют физики. Харди был чистейшим из чистых математиков[[6]]. К тому же он был человеком неортодоксальным, эксцентричным, радикальным и охотно говорил буквально обо всём. На дворе стоял 1931 год, и выражение "звезда" ещё не вошло в английский язык, но позднее молодые кембриджские математики непременно сказали бы, что Харди наделён всеми качествами звезды.
Со своего места я снизу вверх наблюдал за Харди. Ему тогда было лет пятьдесят с небольшим. Волосы его уже поседели, но плотный загар придавал ему сходство с краснокожим индейцем. Лицо Харди было красивым: высокие скулы, тонкий нос, выразительные лучистые глаза, в которых, однако, время от времени пробегало насмешливое мальчишеское выражение. Глаза у него были тёмно‑карими, яркими, как у птицы, такие глаза не часто встретишь у тех, кто склонен к астральному мышлению. В Кембридже в ту пору было немало необычных, запоминающихся личностей, но Харди, подумалось мне в тот вечер, выделялся даже среди них.
Не помню, как был одет тогда Харди. Вполне возможно, что под мантией на нём была спортивная куртка и серые спортивные брюки. Подобно Эйнштейну, Харди одевался как ему нравилось, хотя в отличие от Эйнштейна он разнообразил свой повседневный туалет, отдавая явное предпочтение дорогим шёлковым рубашкам.
Когда мы сидели в профессорской, потягивая вино после обеда, кто‑то сказал, что Харди хотел бы поговорить со мной о крикете. Я был избран членом колледжа всего лишь за год до этого, но Крайст в то время был небольшим колледжем, и о том, как предпочитают проводить свой досуг даже младшие члены колледжа, вскоре становилось известно всем. Я пересел рядом с Харди. Меня никто ему не представил. Как я узнал впоследствии, Харди был человеком скромным и застенчивым во всём, что касалось этикета, и панически боялся официальных представлений. Харди слегка кивнул мне, как бы приветствуя старого знакомого, и без предисловий начал:
‑ Говорят, Вы неплохо разбираетесь в крикете[[7]]?
‑ Немного разбираюсь, ‑ ответствовал я.
Харди тотчас обрушил на меня град вопросов. Играл ли я сам? Какого класса я игрок?
Случайно я начал догадываться, что Харди опасался нарваться на "знатока" того типа, который особенно часто встречается в академических кругах: такие люди превосходно разбираются в теории игры, но сами совершенно не умеют играть. Я выложил ему все свои достижения, ничего не приукрашая. Мой ответ, судя по всему, удовлетворил его, по крайней мере отчасти, и Харди перешёл к более тактичным вопросам. Кого бы я выбрал капитаном на последнем матче в прошлом (1930) году? Если бы выборщики решили, что Сноу ‑ тот человек, который может спасти Англию, то какова была бы моя стратегия и тактика? ("Если Вы достаточно скромны, то можете действовать как неиграющий капитан".) И так далее и тому подобное до конца обеда. Харди был полностью поглощён размышлениями о крикете.
В дальнейшем мне не раз представлялся случай убедиться в том, что Харди не верил ни интуиции, ни впечатлениям как своим собственным, так и других людей. По мнению Харди, единственный способ убедиться в чьих‑то познаниях заключался в том, чтобы подвергнуть "испытуемого" экзамену. Предметом могла быть математика, литература, философия, политика ‑ что угодно. Если собеседник Харди от вопросов краснел, бледнел, а затем терялся и сникал, то это было его дело и Харди ничуть не трогало. В его блестящем уме, сосредоточенном на том или ином предмете обсуждения, на первом месте шли факты.
В тот вечер в профессорской Крайст‑колледжа Харди требовалось выяснить, гожусь ли я на роль чемпиона по крикету. Всё остальное не имело значения.
Так, подобно тому, как своим знакомством с Ллойд Джорджем[[8]] я обязан его увлечению френологией[[9]], дружбой с Харди я обязан тому, что в юности проводил непропорционально много времени на крикетных площадках. Не знаю, какую мораль можно извлечь из этого. Скажу только, что мне очень повезло. В интеллектуальном плане это была самая ценная дружба за всю мою жизнь. Как я уже упоминал, Харди обладал блестящим умом, способным сосредоточиться на рассматриваемой проблеме, и эти качества были присущи ему в столь высокой степени, что рядом с ним любой другой выглядел глуповатым, скучным и терялся. Харди не принадлежал к числу великих гениев, как Эйнштейн[[10]] и Резерфорд[[11]]. С присущей ему прямотой и ясностью Харди говорил, что если слово "гений" вообще что‑нибудь означает, то он не гений. В лучшем случае, по его признанию, он в течение короткого периода занимал пятое место среди лучших чистых математиков мира. Поскольку его характер отличался такой же прямотой и был не менее прекрасен, чем его разум, Харди всегда подчёркивал, что его друг и неизменный соавтор Литлвуд[[12]] гораздо более сильный математик, чем он сам, а его протеже Рамануджан[[13]] ‑ действительно природный гений в том смысле (хотя и не в такой степени и далеко не столь плодотворный), в каком можно считать гениями величайших из математиков.
Некоторые считают, что давая столь высокие отзывы о Литлвуде и Рамануджане, Харди недооценивал себя. Харди действительно был великодушен и далёк от зависти, насколько может быть чужд зависти человек. Всё же я полагаю, что те, кто не разделяет мнение Харди о самом себе, заблуждаются. Я предпочитаю с доверием относится к его высказыванию в "Апологии математики", в котором гордость удивительным образом сочетается со скромностью: "Когда я бываю в плохом настроении и вынужден выслушивать людей напыщенных и скучных, я говорю про себя: "А всё‑таки мне выпало пережить нечто такое, о чём вы даже не подозреваете: мне довелось сотрудничать с Литлвудом и Рамануджаном почти на равных"."
В любом случае точное определение ранга математического дарования Харди следует предоставить историкам математики (хотя это заведомо безнадежная затея, поскольку лучшие свои работы Харди написал в соавторстве). Но есть кое‑что ещё, в чём Харди обладал явным превосходством над Эйнштейном, Резерфордом или любым другим великим гением: над чем бы ни трудился его интеллект, будь то большая или незначительная проблема и даже просто игра, Харди превращал предмет своих занятий в подлинный шедевр. Мне кажется, что именно эта особенность, почти не осознанная, была для него источником интеллектуального наслаждения. Грэм Грин[[14]] в своей рецензии на первое издание "Апологии математики"[[15]] заметил, что наряду с "Письмами" Генри Джеймса[[16]] "Апология" даёт наиболее полное представление о том, что такое быть художником‑творцом. Размышляя над тем, какое воздействие Харди оказывал на всех окружающих, я склонен думать, что это важное замечание.
Харди родился в 1877 году в скромной семье педагогов. Его отец, магистр искусств[[17]], был казначеем в Кранли[[18]], в то время небольшой привилегированной частной школы для мальчиков. Его мать была старшим преподавателем в Линкольнском учебном колледже для учителей. И мать и отец Харди были людьми одарёнными и обладали математическими способностями. Как и у большинства математиков, необходимость в поиске генофонда у Харди отпадает. В отличие от Эйнштейна детство Харди во многом было типично для будущего математика. Как только он научился читать, а может ещё раньше, Харди стал поражать окружающих необычайно высоким IQ[[19]]. В возрасте двух лет он умел записывать числа до нескольких миллионов (обычный признак математической одарённости). Когда его стали брать в церковь, он развлекался тем, что разлагал на множители номера псалмов. С тех пор Харди всю свою жизнь играл с числами, и эта забава вошла у него в привычку, которая впоследствии привела к трогательной сцене у постели больного Рамануджана. Эта сцена широко известна, но далее я всё же не устою перед "искушением повторить её ещё раз".
Детство Харди проходило в изысканной, просвещённой и высоко интеллектуальной викторианской[[20]] атмосфере. Возможно, его родители были к нему излишне требовательными, но вместе с тем и очень добрыми. В такой викторианской семье к ребёнку относятся со всей возможной мягкостью, но в то же время ‑ и в интеллектуальном плане ‑ с чуть более высокой требовательностью, чем следовало бы. Харди был необычным ребёнком в двух отношениях. Во‑первых, он в необычно раннем возрасте, задолго до того, как ему исполнилось двенадцать лет, стал болезненно застенчивым. Родители Харди сознавали, что их сын необычайно одарён, и он действительно был вундеркиндом. По всем предметам Харди был первым в своём классе. Но из‑за своих успехов ему приходилось выходить перед всей школой при вручении наград, а этого он терпеть не мог. Однажды за обедом Харди признался мне, что иногда умышленно давал неверные ответы на вопросы учителей, чтобы избавить себя от невыносимой процедуры награждения. Но, должно быть, способностью к притворству Харди обладал лишь в самой малой степени: награды всё равно доставались ему.
В зрелые годы Харди удалось в какой‑то мере избавиться от застенчивости. Появилась жажда к состязанию или соперничеству. Как говорит сам Харди в "Апологии", "не помню, чтобы в детстве я испытывал какую‑то страсть к математике, и те чувства, которые я испытывал на протяжении моей карьеры математика, ‑ далеко не благородные. Я всегда думал о математике как о серии экзаменов и именных стипендий: мне хотелось победить других мальчиков, и математика представлялась мне той областью, где я смог бы сделать это наиболее убедительно". Тем не менее Харди с его сверхчувствительной натурой был вынужден соприкасаться с реальной жизнью. И трёх шкур было бы мало, чтобы защитить его от внешнего мира. В отличие от Эйнштейна, которому пришлось подавить своё мощное эго при изучении внешнего мира прежде, чем он смог достичь своего морального статуса, Харди пришлось усилить своё эго, которое не было особенно защищено. В последующей жизни эго заставляло Харди временами чрезмерно самоутверждаться (чего никогда не делал Эйнштейн), когда ему приходилось занимать ту или иную моральную позицию. С другой стороны, эго придавало Харди ясность в понимании своего внутреннего мира и завораживающую искренность, что позволяло ему говорить о себе с абсолютной простотой (чего никогда не мог Эйнштейн).
Полагаю, что это противоречие, или напряжённость, в темпераменте Харди было связано с одной любопытной особенностью его поведения. Харди был классическим антинарциссистом. Он терпеть не мог фотографироваться: насколько мне известно, существует всего пять фотографий Харди. В комнатах, где он жил, не было ни одного зеркала, даже зеркала для бритья. Когда ему случалось поселиться в гостиничном номере, он прежде всего завешивал все зеркала полотенцами. Всё это было достаточно странным, даже если бы лицо Харди напоминало горгулью[[21]], но на первый взгляд казалось ещё более странным, так как всю свою жизнь Харди выглядел просто замечательно. Но, разумеется, нарциссизм и антинарциссизм не имеют ничего общего с тем, как человек выглядит в глазах постороннего наблюдателя.
Поведение Харди казалось эксцентричным, и оно действительно было таковым. Однако и в этом отношении между ним и Эйнштейном было различие. Те, кому довелось много общаться с Эйнштейном, например, Инфельд[[22]], чувствовали, что чем дольше они его знают, тем более чуждым, менее похожим на них самих, он становится. Я совершенно уверен, что и у меня могло бы возникнуть аналогичное чувство. Но с Харди всё обстояло иначе. Его поведение часто отличалось, причём самым причудливым образом, от нашего, но казалось, что оно исходило от некоторой суперструктуры, наложенной на природу, ‑ суперструктуры, которая ничем не отличалась от нашей, разве что была более деликатной, менее погрязшей в суесловии и обладала более тонкой нервной организацией.
Вторая необычная особенность детства Харди носила более земной характер, и она означала, что на протяжении всей его карьеры с его пути были устранены все практические препятствия. Харди с его обезоруживающей откровенностью был бы несколько задет, если бы кто‑то стал ходить вокруг и около этого деликатного вопроса. Он знал, что такое привилегии, и знал, кто располагает ими. У его семьи не было денег ‑ только скромный доход преподавателей, но его родители поддерживали контакты с лучшими представителями образования в Англии конца XIX века и пользовались их советами и рекомендациями. В Англии такого рода информация всегда была более ценной, чем любое состояние. Стипендии за успехи в овладении науками были хороши, если знать, как их получить. У юного Харди, в отличие от юного Уэллса[[23]] или юного Эйнштейна, не было ни малейшего шанса затеряться. Начиная с двенадцатилетнего возраста перед ним стояла единственная задача ‑ выжить, а о его талантах не забудут.
И действительно, когда Харди исполнилось двенадцать лет, ему была предоставлена стипендия, дававшая право учиться в Уинчестере[[24]], лучшей по тем временам (и ещё долго остававшаяся таковой) математической школе Англии, только за то, что некоторые из выполненных им в Кранли математических работ были признаны заслуживающими внимания. (В этой связи уместно спросить, обладает ли подобной гибкостью какая‑нибудь из известных школ в настоящее время?) В Уинчестере Харди изучал математику в группе наиболее сильных студентов: по классическим дисциплинам он не уступал лучшим из лучших. Позднее Харди признавал, что получил хорошее образование, но делал это неохотно. Сам колледж Харди не нравился, иное дело занятия. Как и во всех частных школах, обстановка в Уинчестере была весьма суровой. В одну из зим Харди едва не умер. Он завидовал Литлвуду, жившему в школьные годы в уютной домашней обстановке и посещавшему в качестве приходящего ученика Сент‑Полз‑Скул[[25]], или другим друзьям, учившимся в наших классических школах[[26]], где нет условностей и ограничений привилегированных учебных заведений. Покинув Уинчестер, Харди никогда и близко не подходил к опостылевшему колледжу, но покинул он его стены, встав на твёрдый путь ‑ со стипендией, дававшей право на обучение в Тринити[[27]].
У Харди была своя особая причина обижаться на Уинчестер. Он обладал великолепным глазомером и от природы великолепно играл в любые игры с мячом. Когда ему было за пятьдесят, он обычно легко обыгрывал вторую ракетку университета в большой теннис, а в возрасте за шестьдесят на моих глазах потрясающе боулировал[[28]] на крикетной площадке. Тем не менее в Уинчестере у него не было тренера. Техника игры Харди страдала кое‑какими изъянами, и он полагал, что будь у него настоящий тренер, ему бы удалось стать настоящим бэтсменом[[29]], хотя и не первоклассным, но не слишком далёким от первоклассного. Мне кажется, что, как и в других суждениях о себе, Харди не ошибался. Странно, что в зените всеобщего увлечения играми в викторианскую эпоху такой талант был упущен. Думаю, что никому и в голову не пришло посмотреть на хрупкого и болезненного отличника, к тому же болезненно застенчивого, как на будущую спортивную звезду.
Для уикемиста[[30]] того периода было бы естественно отправиться для продолжения образования в Нью Колледж[[31]]. Для профессиональной карьеры Харди такой выбор не имел бы особого значения (хотя Оксфорд всегда нравился ему больше, чем Кембридж, и он вполне мог бы остаться в его стенах на всю жизнь, а тогда некоторые из нас понесли бы тяжелую утрату). Харди решил продолжить образование в Тринити по причине, которую он с юмором, но по своему обыкновению совершенно откровенно описывает в "Апологии". "Мне было около пятнадцати лет, когда мои амбиции взыграли по довольно необычному поводу. Некий "Алан Сент‑Обин" (в действительности миссис Фрэнсиз Маршалл) написал книгу "Член Тринити‑колледжа" ‑ одну из серии книг, якобы рассказывающей о жизни в кембриджских колледжах... В книге два героя: главное действующее лицо Флауэрс, почти всегда хороший, и персонаж второго плана Браун, человек менее благонадежный. В университетской жизни Флауэрса и Брауна подстерегает множество опасностей ... Флауэрс успешно преодолевает все препятствия, становится вторым ранглером[[32]], и его автоматически выдвигают в младшие члены колледжа (я надеялся, что с тех пор он стал членом колледжа). Браун не выдержал ниспосланных ему испытаний, довёл до полного разорения своих родителей, спился и был спасен от белой горячки только молитвами младшего ректора, вознесенными в сильнейшую грозу, с величайшим трудом окончил курс и, наконец, стал миссионером. Но все эти горестные события не ослабили дружбы героев, и когда Флауэрс на правах младшего члена колледжа впервые расположился в профессорской, потягивая портвейн и закусывая жареными каштанами, все его мысли были обращены к бедняге Брауну, которому он искренне сочувствовал.
Насколько можно было судить по образу, нарисованному Аланом Сент‑Обином, Флауэрс был довольно славным малым, но даже я, совсем ещё неискушённый мальчишка, не мог признать его умным. Но коль скоро он мог проделывать всё, о чём говорилось в романе, то почему бы всё это не проделать и мне? Особенно по вкусу мне пришлась заключительная сцена в профессорской, и с тех пор, покуда я не добился своего, заниматься математикой для меня стало означать стать младшим членом Тринити‑колледжа".
Заняв первое место на публичных экзаменах по математике ‑ знаменитом Математическом Треножнике[[33]], часть II, Харди в возрасте 22 лет стал младшим членом Тринити‑колледжа. Причём две превратности судьбы его всё же подстерегали. Первая носила религиозный характер в истинно викторианском духе. Харди решил (думаю, ещё до того, как он покинул Уинчестер), что не верит в Бога. К такому заключению Харди пришёл в своём духе, приняв "чёрно‑белое" решение, ясное и чёткое, как и всё, что выношено его мышлением. Посещение капеллы в Тринити носило обязательный характер. Харди сообщил ректору, несомненно, в своём неподражаемом стиле застенчивой непреклонности, что он сознательно намерен отказаться от посещения церкви. Ректор, должно быть, человек находчивый, настоял, чтобы Харди написал своим родителям и сообщил им о своём решении. Они придерживались ортодоксально религиозных взглядов, и ректор, а тем более Харди, знал, что такая новость причинила бы им боль ‑ такую боль, которую мы, живущие семьдесят лет позднее, не можем себе даже представить.
Харди пришлось пережить муки совести. Он не был достаточно искушён для того, чтобы вскользь упомянуть о столь важной проблеме. Он не был достаточно искушён даже для того, чтобы (как он поведал мне однажды в Феннерзе[[34]], когда рана ещё не зажила окончательно и давала о себе знать) последовать совету более опытных друзей, таких как Джордж Тревельян[[35]] и Джесмонд Маккарти, которые знали, как следует поступить. Наконец, он написал письмо родителям. Отчасти из‑за этого инцидента вопрос о религиозности и неверии остался для Харди открытым и достаточно острым. Он всегда отказывался посещать церковь при любом колледже даже по такому формальному поводу, как выборы ректора. У Харди были клерикальные друзья, но бог был его личным врагом. Во всём этом явственно слышалось эхо XIX века, но было бы ошибкой, как всегда в случае Харди, не верить тому, что Харди говорит о самом себе.
Но и свои разногласия с Богом Харди превратил в шумный спектакль. Вспоминаю, как однажды в тридцатые годы мне довелось видеть, как Харди наслаждается небольшим триумфом. Это случилось во время матча против игроков на знаменитом крикетном стадионе "Лордз"[[36]] в Лондоне. Игра происходила ранним утром, и солнце светило над павильоном. Один из бэтсменов, игравший за команду, которой солнце светило в спины, пожаловался, что его слепит отражение от какого‑то блестящего предмета. Озадаченные судьи, приложив руки козырьком ко лбу, принялись осматривать зрительские места и ближайшие окрестности. Автомашины? Нет. Окна? Но поблизости от крикетной площадки нет ни одного здания! Наконец, с понятным торжеством один из судей обнаружил предмет, дававший яркие блики: оказалось, что солнце отражалось от большого наперсного креста на груди рослого священника. Судья вежливо попросил его снять крест. Оказавшийся поблизости Харди был вне себя от охватившего его мефистофельского восторга. Когда наступило время ленча, Харди было не до еды: он безостановочно одну за другой заполнял открытки (открытки и телеграммы были его излюбленными средствами сообщения), извещая всех своих клерикальных друзей о происшествии.
Но в войне Харди против Бога и суррогатов Бога победа не всегда была только на одной стороне. Однажды примерно в тот же период в тихий прекрасный майский вечер мы играли в крикет на площадке в Феннерзе, когда до нас донеслись удары колокола, пробившего шесть часов. "Какое несчастье, ‑ заметил Харди с присущей ему прямотой, ‑ что некоторые из счастливейших часов моей жизни я вынужден проводить под звуки римско‑католической церкви".
Второе происшествие, нарушившее мирное течение студенческой жизни Харди, было связано с его будущей профессией. Почти со времён Наполеона и на протяжении всего XIX века в Кембридже царил культ доброго старого Математического Треножника. Англичане всегда с бо?льшим доверием, чем другие народы (за исключением, возможно, имперских китайцев), относились к состязательным экзаменам. Англичане, проводившие такие экзамены, нередко проявляли поразительную косность (чтобы не сказать одеревенелость). Такое положение дел сохранилось и поныне. Но в полной мере это проявилось в отношении Математического Треножника, когда эти экзамены переживали период своего расцвета. Задачи, предлагавшиеся на этих экзаменах, в техническом плане представляли собой значительные трудности, но, к сожалению, они не давали возможность кандидату проявить своё математическое мышление, интуицию или какое‑нибудь другое качество, необходимое творчески работающему математику. Претенденты на первые места (так называемые ранглеры ‑ этот термин, утвердившийся за ними и действующий поныне, означает "первый (т.е. высший) класс") располагались в соответствии с полученными оценками в строго "арифметическом" порядке. Те из колледжей, чьи питомцы становились старшим ранглером, устраивали празднества, первые два или три ранглера немедленно избирались членами колледжей.
Всё это было очень по‑английски. Математический Треножник обладал только одним недостатком, на который Харди указал с присущей ему полемической ясностью, как только стал знаменитым математиком и вместе со своим верным союзником Литлвудом включился в борьбу за отмену такой системы: Математический Треножник на протяжении более чем двух столетий разрушал в Англии серьёзную математику.
В первый же свой семестр в Тринити Харди оказался вовлечённым в систему Математического Треножника. Его готовили к экзаменам, как готовят к состязаниям скаковую лошадь, с помощью серии специально подобранных математических упражнений, бесполезность которых была ему ясна в его девятнадцать лет. Харди направили к знаменитому тренеру ‑ репетитору, готовившему всех потенциальных старших ранглеров. Этот тренер знал все препятствия, все трюки экзаменаторов, но проявлял полнейшее равнодушие к самому предмету. Против этого восстал бы и молодой Эйнштейн: он либо покинул бы Кембридж, либо не выполнил бы ни одной формальной работы в течение ближайших трёх лет. Но Харди родился в более суровом профессиональном климате Англии (что имело как свои положительные, так и отрицательные стороны). После размышлений на тему, не стоит ли ему сменить математику на историю, Харди достало здравого смысла подыскать себе в качестве наставника настоящего математика. Харди воздаёт ему должное в "Апологии": "Глаза мне открыл профессор Ляв[[37]], который учил меня несколько семестров и дал мне первое серьёзное представление о математическом анализе. Но более всего я признателен ему за то, что он, будучи по существу прикладным математиком, посоветовал мне прочитать "Курс анализа" Жордана[[38]]. Я никогда не забуду то изумление, которое охватило меня при чтении этой замечательной книги, ставшей источником первого вдохновения для столь многих математиков моего поколения, и я впервые понял, что такое математика в действительности. С тех пор я стал и остаюсь поныне ‑ на свой собственный лад ‑ настоящим математиком со здравыми математическими амбициями и подлинной страстью к математике".
В 1898 году Харди стал четвёртым ранглером. Как он неоднократно признавался, это вызвало у него слабую досаду. Природный дух состязательности, в достаточной мере присущий Харди, заставлял его считать, что хотя сама "гонка" смешна, он обязан её выиграть. В 1900 году Харди принял участие в части II Математического Треножника, экзаменах более почтенного уровня, завоевал первое место и был избран членом Тринити‑колледжа.
С того времени жизнь Харди протекала по существу в раз и навсегда установленном русле. Харди знал свою цель ‑ наведение строгости в английском математическом анализе. Он ни на йоту не отклонялся от исследований, которые называл "огромным непреходящим счастьем моей жизни". Не было никаких сомнений или беспокойства по поводу того, что ему предстоит сделать. Ни он сам, ни кто‑нибудь другой не сомневались в его большом таланте. В возрасте тридцати трёх лет Харди был избран членом Королевского общества[[39]].
Во многих отношениях Харди сопутствовала удача. Ему не нужно было заботиться о своей карьере. С тех пор, как ему исполнилось двадцать три года, у Харди было достаточно досуга, и он никогда не нуждался в деньгах. В начале 1900‑х годов дон[[40]] ‑ холостяк из Тринити‑колледжа мог чувствовать себя вполне комфортно. Харди знал счёт деньгам и расходовал их, когда, по его мнению, это было необходимо (иногда деньги тратились по довольно необычным "статьям", например, на пятидесятимильные поездки на такси), но когда речь заходила об инвестициях, Харди нельзя было считать человеком не от мира сего. Он играл в свои игры и оплачивал свои эксцентрические эскапады. Харди вращался в одном из лучших в мире интеллектуальных кругов: Д. Э. Мур[[41]], Уайтхед[[42]], Бертран Рассел[[43]], Тревельян, высшее общество Тринити, которое вскоре нашло художественное дополнение в Блумзбери[[44]]. (У Харди установились в Блумзбери отношения личной дружбы и симпатии.) И в этом блестящем кругу Харди был одним из самых блестящих молодых людей ‑ и, хотя это и не бросалось в глаза, одним из самых неугомонных.
Забегу вперед и предвосхищу то, что скажу позже. Вся жизнь Харди до преклонного возраста была жизнью блестящего молодого человека. Он был молод духом: его игры, его интересы несли на себе отблеск молодого дона. И, как у многих из тех, кто до шестидесяти лет сохранил интересы молодого человека, последние годы Харди были особенно тяжелыми.
Тем не менее значительную часть своей жизни Харди прожил счастливее, чем большинство из нас. У него было множество друзей, на удивление различного толка. Всем этим друзьям пришлось пройти личные тесты Харди: они должны были обладать особым свойством, которое он называл "подкруткой" (непереводимый крикетный термин, означавший наличие непрямого, подчас иронического, подхода; из публичных фигур недавнего времени высокие оценки за "подкрутку" получили бы Макмиллан[[45]] и Кеннеди[[46]], но не Черчилль[[47]] и не Эйзенхауэр[[48]]. Вмести с тем Харди был терпим, лоялен, великодушен и питал к своим друзьям искреннюю, не показную симпатию. Однажды мне пришлось навестить Харди в утренние часы, которые он неизменно отводил своим математическим исследованиям. Харди сидел за письменным столом и покрывал страницу за страницей своим красивым каллиграфическим почерком. Я пробормотал какие‑то обычные вежливые слова, что‑то вроде: "Надеюсь, я не очень побеспокоил Вас". Харди внезапно расплылся в своей озорной улыбке:
‑ Как Вы, должно быть, заметили, побеспокоили и даже очень. Но я всё равно рад Вас видеть.
За те шестнадцать лет, что мы знали друг друга, он ни разу не выразил своего дружеского отношения ко мне более демонстративно, разве что когда он лежал на смертном одре и выразил надежду, что я и впредь буду навещать его.
Думаю, что мой опыт общения с Харди разделило большинство его близких друзей. Но были у него на протяжении всей жизни два или три знакомства иного рода. Это были прочные привязанности, всецело носившие не физический, а возвышенный характер. Один из таких друзей Харди, о котором я знал, был молодой человек, чья душевная организация была такой же тонкой, как у самого Харди. Думаю, хотя об этом я могу судить лишь по случайным замечаниям, что то же самое можно сказать и об остальных его знакомых. Многие люди моего поколения сочли бы такие отношения либо неудовлетворительными, либо невозможными. Но они не были ни теми, ни другими, и если не принять такие отношения за данность, невозможно понять темперамент ни таких людей, как Харди (они встречаются редко, но всё же не так редко, как белые носороги), ни кембриджское общество того времени. Харди не получал удовлетворения от того, что приносит удовлетворение большинству из нас, но он знал себя необычайно хорошо и не чувствовал себя от этого несчастным. Его внутренняя жизнь была достоянием только его одного и отличалась богатством. Горечь пришла в конце жизни. Если не считать его преданной сестры, рядом с ним не осталось никого из близких ему людей.
С сардоническим стоицизмом он замечает в "Апологии", книге, проникнутой, несмотря на радостные интонации, отчаянной грустью, что когда творческий человек утрачивает способность или желание творить, то "это достойно сожаления, но в таком случае он немногого стоит, и было бы глупо беспокоиться о нём". Именно так Харди относился к своей личной жизни вне математики. Математика была оправданием всей его жизни. Находясь рядом с Харди, в ослеплении блеском его личности, об этом легко было забыть, как под влиянием моральных пристрастий Эйнштейна было нетрудно забыть о том, что для него оправданием всей жизни был осуществляемый им поиск физических законов. Ни Харди, ни Эйнштейн не забывали об этом. Математика для одного и поиск законов природы для другого были стержнем их жизни ‑ с юности до самой смерти.
В отличие от Эйнштейна Харди стартовал довольно медленно. Его ранние работы, выполненные с 1900 по 1911 гг., были достаточно хороши для того, чтобы обеспечить ему избрание в Королевское общество и снискать международное признание, но сам Харди не считал эти работы важными. И это было не ложной скромностью, а мнением мастера, до дюйма знающего, какая из его работ обладает ценностью и какая ценности не имеет.
В 1911 году началось сотрудничество Харди с Литлвудом, которое продолжалось тридцать пять лет. В 1913 году Харди открыл Рамануджана, и началось ещё одно сотрудничество. Все основные работы Харди написаны им в соавторстве с одним из этих партнёров, в большинстве случаев ‑ в соавторстве с Литлвудом. Это было самое значительное сотрудничество в истории математики. Ничего подобного не было ни в одной из наук и даже, насколько мне известно, ни в одной другой области творческой деятельности. Вместе они написали почти сто работ, многие из них ‑ работы "класса Брэдмена[[49]]". Математики, не общавшиеся близко с Харди в последние годы его жизни и далёкие от крикета, неоднократно повторяли, что у Харди высшей похвалой было зачисление в "класс Гоббса[[50]]". Но это неверно: очень неохотно, поскольку Гоббс принадлежал к числу его любимцев, Харди изменил свою шкалу заслуг и достоинств. Однажды, году в 1938, я получил от Харди открытку, на которой значилось: "Брэдмен на целый класс выше любого бэтсмена, который когда‑либо жил на Земле. Если Архимед, Ньютон и Гаусс остаются в классе Гоббса, то мне придётся признать возможность существования ещё более высокого класса, который мне даже трудно представить. Отныне их следовало бы перевести в класс Брэдмена".
Исследования Харди‑Литлвуда занимали ведущее положение в английской чистой математике и во многом определяли положение дел в мировой чистой математике на протяжении целого поколения. Сейчас ещё слишком рано судить, говорят мне математики, насколько они изменили развитие математического анализа и насколько важными их будут считать через сто лет. Но в том, что эти работы имеют непреходящее значение, нет никакого сомнения.
Сотрудничество Харди и Литлвуда было, как я уже говорил, величайшим из всех известных случаев сотрудничества. Но как именно они работали, неизвестно никому, разве что какие‑то детали стали известными со слов Литлвуда. Я уже приводил мнение Харди о том, что из них двух Литлвуд был более сильным математиком. Однажды Харди написал, что не знает "никого другого, в ком интуиция, техника и сила сочетались бы так удачно". Литлвуд был и остаётся поныне более обычным человеком, чем Харди, но столь же интересным и, возможно, более сложным. Литлвуд не разделял любовь Харди к особо утончённому интеллектуальному блеску и поэтому держался несколько в стороне от центра академической сцены. Это давало европейским математикам повод для различного рода шуток. Например, они утверждали, будто Харди придумал Литлвуда для того, чтобы возлагать на него вину, если в доказательстве какой‑нибудь из их теорем обнаружится ошибка. В действительности же Литлвуд был столь же яркой и самобытной личностью, как и сам Харди.
На первый взгляд ни один из них не был лёгким партнёром. Трудно представить себе, чтобы кто‑нибудь из них мог первым предложить сотрудничество другому. Тем не менее кто‑то из них взял на себя первый шаг. Никаких сведений о том, как они поладили, не сохранилось. В свой самый продуктивный период Харди и Литлвуд не работали в одном университете. По утверждению Харальда Бора[[51]] (превосходного математика, брата Нильса Бора), один из принципов их сотрудничества заключался в следующем: если один писал письмо другому, то получатель не должен был в обязательном порядке ни отвечать на письмо, ни даже прочитать его.
Мне нечего к этому добавить. За много лет Харди успел поведать мне о многом, но ни словом не обмолвился о своём сотрудничестве с Литлвудом. Разумеется, он говорил о том, что их сотрудничество было самой крупной удачей в его карьере как математика, о Литлвуде он всегда отзывался так, как уже было сказано выше, но ни разу не упомянул о том, как происходило их сотрудничество. Я недостаточно разбираюсь в математике, чтобы понять работы, но кое‑что из их языка я усвоил. Если бы Харди обронил хотя бы одно замечание о том, как строилось их сотрудничество с Литлвудом, то я бы не оставил его без внимания. Я ничуть не сомневаюсь, что такая секретность, совершенно нехарактерная для Харди в вопросах, носивших более интимный характер, была умышленной.
Наоборот, из своего открытия Рамануджана Харди не делал никакого секрета. По его собственным словам, это было романтическое приключение в его жизни. Как бы то ни было, история была действительно замечательная, причём такая, которая делает честь почти всем действующим лицам (за исключением двух). Однажды утром в начале 1913 года Харди обнаружил за завтраком среди утренней почты большой замызганный конверт с индийскими марками. Вскрыв его, Харди обнаружил несколько листков бумаги, измятых и измаранных, сплошь покры
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|