
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Дэнни Шейнман 6 страница
Моя любовь к тебе растет с каждым днем.
Твоя Лотта.
Возьми его… положи обратно в ящик… спасибо, Фишель.
Я бросился в нужник, снял шинель и гимнастерку и надел жилет. Он был в самый раз. Я провел пальцами по меху и представил себе, как Лотта спала под этой шкурой. Медведь был очень приятный на ощупь и теплый. Гимнастерка налезла с трудом, но я ее все‑таки застегнул. Перчатки тоже были замечательные – но слишком толстые. Стрелять из винтовки в них было невозможно.
Я уложил перчатки в ранец рядом с флягой и кинулся на поиски Ежи – мне не терпелось поделиться с ним новостями. Но тут за спиной у меня раздался знакомый пронзительный голос:
– Данецкий, ко мне!
Холодная дрожь пробежала у меня по телу.
Как, неужели он жив? А коли так, что ему здесь надо? Ему, лейтенанту Найдлейну, Длинной Венской Колбасе?
Ну и вид у него. Вылечили, называется. Вместо правого уха – обрубок, под глазом ямка, рот чудовищно искривлен в вечной ехидной улыбке, через всю щеку тянется красный шрам.
– С возвращением вас, лейтенант.
Найдлейн уставился на меня.
– Я рад снова оказаться в части. В госпитале скука смертная. На войне надо драться. И побеждать. Но сперва надо расплатиться по счетам.
С этой минуты мне не стало покоя.
Дорог в Западных Карпатах немного, а перевалов всего три, притом непроходимые в зимнее время. Нам была поставлена задача оборонять Лупковский перевал – средний из трех. Это еще полбеды, что горы высокие, хуже, что бока у них изрезанные и крутые. И на них толстым слоем лежит снег. На южных склонах как пчелки трудились мы, изнывая под тяжестью военного снаряжения, мешков с продовольствием и прочих необходимых грузов. А на северных склонах готовились к зимнему наступлению русские.
Я потерял счет, сколько раз Найдлейн гонял меня вверх‑вниз в первые несколько дней. Самая тяжкая работа неизменно доставалась мне. Спина прямо разламывалась. А вот Ежи Ингвер у лейтенанта не перетруждался, он стал вроде фаворита. Или мальчика на побегушках.
В первую же ночь в горах нашу палатку замело снегом. Ветер немилосердно трепал брезент, растяжки гудели, как струны, заснуть было невозможно. Доставшийся нам из пополнения сосед, поляк по фамилии Зубжицкий, оказался неистощим на сальные шуточки, мы с Ежи покатывались со смеху. Я пытался переводить балагура на немецкий, чтобы Кирали тоже посмеялся с нами, но попытка не удалась. То ли переводчик из меня был неважный, то ли по каким другим причинам, только Кирали, по‑моему, ни разу не улыбнулся. И все спрашивал меня:
– А соль‑то в чем?
А поутру нам пришлось откапываться, и с тех пор лопаты ночевали вместе с нами в палатке. Мы даже полюбили снег: в снегопад всегда тепло. Холоднее всего в чистые звездные ночи. В одну из таких ночей затворы наших винтовок прихватило морозом, и их пришлось отогревать у костра; даже вода во фляжках замерзла. Все горные тропы обледенели, снабжение оказалось нарушено, поди потаскай грузы по скользким склонам.
Что до боев, то успех нам по‑прежнему не сопутствовал. Правда, несколько сотен метров снега нам отвоевать удалось, – разумеется, ценой гибели многих тысяч солдат.
За сотни километров от нас, в ставке верховного командования, в тепле и безопасности, кучка генералов, попивая портвейн и попыхивая сигарами, склонилась над картой военных действий. Миллионы чужих жизней были для них разменной монетой, люди – пешками, которыми без зазрения совести жертвовали во имя спасения короля. И что толку? В Перемышле уже настал голод.
В безветренные ночи в горах было так тихо, что мы слышали голоса русских. Меня снедала ненависть к ним, она тяжестью ложилась на душу.
От холода спасения не было – он забирался в башмаки, впивался в пальцы, обжигал уши, леденил мозги. Даже часовые переминались с ноги на ногу и похлопывали руками. Мы старели на глазах, горбились, хрипели, с трудом передвигались. Считалось, что тебе повезло, если ты отморозил пальцы или схватил воспаление легких, ведь тогда тебя отправляли в тыл. Если бы не Лоттин меховой жилет, я бы, наверное, замерз до смерти одним из первых.
Не припомню сейчас, сколько мы уже проторчали в Карпатах, когда поднялся ледяной северный ветер. Ужасная метель загнала нас в палатки. Температура упала так, что термометры треснули. Даже весельчак Зубжицкий притих. У меня окоченели ступни, онемели пальцы ног, раскалывалась голова. Вялое безразличие овладело мной, я сжался в комок, прикрыл лицо воротником шинели и из последних сил старался не заснуть. Веки у меня все тяжелели… и я перестал бороться.
Очнулся я от ужаса: что‑то тяжелое навалилось мне на голову. Я приоткрыл один глаз.
На мне сидел Кирали и пытался содрать с меня перчатки. Спихнуть его у меня не было сил.
– Ты что творишь? – вот и все, что смог я прохрипеть.
Кирали с меня будто ветром сдуло.
– Господи, да ты жив!
На нем было три шинели, голова обмотана одеялом. Я приподнял голову – все наши товарищи лежали без шинелей и одеял.
– Конечно, жив. Что это ты затеял?
– Остальные‑то замерзли до смерти.
Я прищурился, чтобы лучше видеть. Лица у всех были синие, губы лиловые.
Я принялся у каждого щупать пульс.
Кельман – мертв.
Полисенский – мертв.
Зубжицкий – покойник.
Шонбрюн – без признаков жизни.
Ландау – покойник.
Ежи Ингвер…
Похоже, живой.
– У него есть пульс! – Я схватил с койки Кирали пару похищенных одеял и укрыл Ежи. – Когда ты забрал одеяла, они еще были живы!
– Вот уж не спросил! – фыркнул Кирали. – Сопротивления не оказали – значит, померли. Или при смерти.
Ну что такому сказать, как выразить свое презрение?
Лицо у Ежи было каменно‑холодное. Я стал трясти Ингвера, пытаясь привести в чувство, потом принялся лихорадочно растирать ему грудь, руки и ноги.
Кирали безразлично глядел на мои старания и молчал.
– Ну вот, теперь ты точно убил его, – наконец соизволил заговорить он.
– Как это? – не понял я.
– Если человек поморозился, его нельзя растирать – сердце не выдержит. Когда остывшая кровь попадет в сердце, оно остановится.
Я схватил Ежи за запястье.
Сердце не билось. Кирали оказался прав.
Проклятый венгр! Я готов был убить его.
– Сволочь, что ж ты мне раньше не сказал!
– Теперь мы оба убийцы. А то задрал нос. Если бы я не забрал одеяла, тоже бы в ящик сыграл. Ты бы один остался в своей паршивой теплой жилетке. Штука была в том, кто еще выживет, кроме тебя. Все, кроме меня, дрыхли, а я ждал. Хоть я и ненавижу жизнь, умирать мне совсем не хочется. Ненависть спасла меня. Так‑то вот, Данецкий. Да здравствует Франц Кирали! Не упрекай себя за Ингвера, он бы, скорее всего, так и так не выжил.
Небрежным жестом Кирали раскрыл ранец Ингвера, достал оттуда сигареты и чиркнул спичкой.
– Закуришь? – ехидно осведомился он.
Я его ударил.
Кирали усмехнулся, поднял с земли упавшую сигарету и глубоко затянулся.
– А вот это ты зря.
Забрезжил рассвет. Мертвецы оказались в каждой палатке. Лейтенант Найдлейн на ходу вносил изменения в списки. Мы выкопали неглубокие ямы в снегу и опустили в них окоченевшие тела товарищей.
Впоследствии нам еще не раз приходилось исполнять этот ритуал.
Ночью я написал родителям Ежи в Краков, куда они перебрались, рассказал о его храбрости, о том, как все его любили, как он спас жизнь лейтенанту Найдлейну, как его собирались произвести в ефрейторы. Только писать про обстоятельства его смерти у меня не поднялась рука. «Пал смертью храбрых» – вот как погиб мой лучший друг. И не надо подробностей.
Пожалуй, я мог бы спасти Ежи жизнь, если бы все сделал правильно или, на худой конец, позвал врача. Совесть до сих пор меня мучает. Я до сегодняшнего дня никому не говорил, что произошло на самом деле. Мы совершаем в жизни немало ошибок, Фишель, и большинство из них можно исправить. Но некоторые ошибки непоправимы. Как говорят, угрызения разъедают душу. Злость быстро проходит, ненависть с годами смягчается. Только чувство вины неподвластно времени.
Сказать тебе, что было самое страшное во всей карпатской кампании? Наш главный враг, холод, он был безжалостнее русских. Пополнения шли со всех концов империи. Многие ни слова не понимали по‑немецки, и у них даже времени не было выучить восемьдесят немецких команд, которые всем нам полагалось знать. Подчиненные не понимали командиров, боевой дух пал ниже некуда, целые части сдавались в плен при малейшей угрозе. В армии началось брожение. Чехи, которые всегда были далеки от верноподданнической преданности Габсбургам, в открытую обсуждали, как им обрести независимость, не исключая возможности перехода на сторону России, трансильванские румыны желали присоединиться к Румынии, русины симпатизировали России, а поляки мечтали о самостоятельном государстве. Какое уж тут доверие в бою!
Ко всему прочему, русские предприняли яростное наступление на Дуклинский и Лупковский перевалы и опять нас разбили. В конце марта пал Перемышль. А самое страшное, что в попытках прорваться к крепости мы потеряли восемьсот тысяч человек, и не только в боях. Значительную часть унес мороз.
Но, несмотря на ужасные потери, Конрад фон Гетцендорф и не думал отступать, он даже тактику менять не стал. Нам на фронте было ясно: этот болван решил драться до последней капли крови. Сначала положит молодых, а потом возьмется за их отцов. А когда народы истощат свои силы в войне, августейшие семейства Европы – все эти цари, кайзеры, императоры и просто короли – соберутся на званый ужин, поздравят победителя и дадут ему кусок территории.
Наутро после сдачи Перемышля на горы опустился густой туман. Я вместе с другими рыл окопы на южных подходах к Лупковскому перевалу. Настроение у всех было подавленное. Кирали просто клокотал от ярости, точно вулкан перед извержением. Одурманенные пропагандой новобранцы из прибывшего пополнения уже начали понимать, как далека настоящая война от криков о славе и доблести. Они‑то пришли освобождать Перемышль – а тут приходится копать траншеи и насмерть замерзать в своих палатках. Наши снаряды не взрывались, наши винтовки давали осечку, мы оказались ни на что не способны. А русские шли и шли вперед, и казалось, их не остановить. Мы знать не знали, что у них на исходе боеприпасы, что в их войсках полно революционеров и их агитация делает свое дело, что к солдатам у них относятся хуже, чем у нас, что у них насаждается жестокая палочная дисциплина, которая была в ходу в прусской армии еще в период наполеоновских войн, когда считалось, что хороший солдат должен бояться своих командиров больше, чем врага. Нам и в голову не могло прийти, что всего через четыре месяца русские оставят Галицию. Если бы у австро‑венгерского солдата спросили, где мы будем в июле 1915 года, он бы, верно, ответил: «Под Будапештом».
А пока мы брели длинной шеренгой сквозь туман от линии окопов к месту расположения части. Не было видно вытянутой руки – я ориентировался только по следам.
Тут из серой мглы вынырнул Кирали:
– Я заблудился.
Подошли и другие. Всего нас оказалось шестеро. Между нами возник спор, в какую сторону идти. Я и еще трое настаивали на том, чтобы, как нам подсказывал инстинкт, сохранять прежнее направление, но Кирали заявил, что, насколько он помнит, наши солдаты двигались совсем в другую сторону.
И мы пошли вслед за Кирали.
Через полчаса перед нами замаячили человеческие тени.
Мы подошли поближе и распознали серые шинели русских.
Не успели мы и слова сказать, как Кирали заорал: «Сдаемся!» – и принялся махать в воздухе белым носовым платком. Винтовку и лопату он швырнул в снег.
Русские прицелились в нас, и мы последовали примеру Кирали. По правде говоря, я испытал облегчение, освободившись от оружия.
Война для нас была кончена.
Через два дня Лупковский перевал оказался в руках врага. Перед русскими лежала Венгрия. Они держали нас за горло.
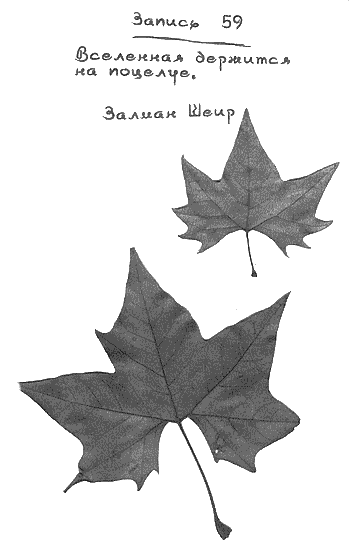
[14]
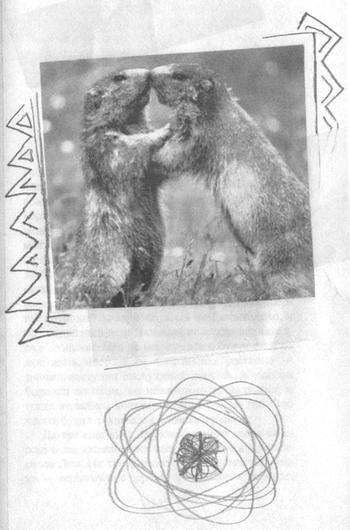
Уже около месяца Лео жил у родителей в Лидсе, но раны все не затягивались, с каждым днем ему становилось лишь хуже. Память превратилась в какой‑то замкнутый круг, мысли вертелись вокруг одного и того же. В первую неделю после смерти Элени пришлось заниматься организацией похорон, каждый день ставил перед Лео свою конкретную задачу. А после погребения все разом оборвалось – сиди у окна, выходящего в сад, и пережевывай все снова и снова. 2 апреля 1992 года Лео будто подвергся глубокой заморозке, все в нем окаменело, и тот страшный день, похоже, навсегда впечатался в сознание. Лео не мог думать о будущем и не мог жить настоящим. Стемнело… рассвело – значит, наступил следующий день. А ночью он боролся со сном, но неизбежно проигрывал, и тогда являлись кошмары столь дикие, что Лео часто будил родителей своими криками.
Да тут еще лиса. Глубокой ночью зверь забежал в сад, остановился напротив окна и уставился на Лео. На следующее утро объявилась белка – спрыгнула с дерева, прискакала к веранде, покрутилась направо‑налево, потом села на задние лапы и вперила в Лео взгляд. Наконец, прилетела голубка, опустилась на подоконник, склонила головку набок и засмотрелась на Лео.
– Элени, – услышал он свой голос.
– Привет. – Голубка внимательно оглядела сад. – Я всегда любила сад твоих родителей. – Голубка снова посмотрела на Лео. – Плохо выглядишь, вылитый труп. Ты ведь не одинок, Лео.
– Одинок, Элени.
Голубка встопорщила перышки, прошлась по подоконнику, покрутила головой, расправила крылья, словно желая взлететь, и опять сложила.
– Мне тоже одиноко, Лео. Но когда я вижу тебя таким, мне еще хуже.
И она вспорхнула, устремилась в небо и пропала.
Элени – везде, она в жуках, кошках, ежиках и воробьях, она в пробившемся из‑за тучи солнечном луче, что озарил старый бук, в порывах ветра, закручивающих пыль маленькими смерчами, в лужах после ливня, в предрассветных сумерках. Она вторгалась в каждую мысль, в каждый образ. Лео не пытался избавиться от нее. Да она и не отпустила бы. Они сплелись воедино на грани жизни и смерти, и отныне она навсегда с ним – незримая и неосязаемая.
Горе отравой расползалось по дому, высасывая энергию из родителей, внося напряжение в самые простые разговоры. Как Ева ни старается, достучаться до Лео не выходит. И она выплескивает раздражение на Фрэнка, который изо всех сил пытается делать вид, будто все идет как обычно.
– Горе не вылечить за день, – безучастно замечает он.
И однажды ночью Ева не выдержала:
– Почему бы тебе не поговорить с ним? Ради всего святого, он ведь и твой сын тоже. Прекрати избегать его. Как можно быть таким эгоистом. Уж ты‑то лучше других должен понимать, каково ему сейчас. Скажи ему правду. Неужели ты не видишь, как ты нужен ему?
– Со мной все было по‑другому. Я был совсем мальчишка, – холодно ответил Фрэнк.
– Ну чего ты так боишься?
Фрэнк резко сел в кровати:
– Что ты от меня хочешь, Ева? Я должен рассказать ему, что все свое детство оплакивал родителей? Рассказать про письмо из Красного Креста? Ты считаешь, ему станет легче, если я расскажу ему, что его отец – жалкое ничтожество? Я любил Элени, и я не могу видеть его страданий. Но мы сейчас не в силах ему помочь.
Ева поняла, что Фрэнк, никогда не повышавший на нее голос, сейчас на грани срыва и продолжать разговор не стоит. После их знакомства прошло немало лет, прежде чем Фрэнк собрался с духом и рассказал ей о себе. А Лео так ничего и не знает. Ему сказали, что его бабушка и дедушка умерли, когда отец был еще совсем маленький, и его усыновили чужие люди. Правда, Лео ни разу в жизни не видел приемных родителей отца.
Лео было лет десять, когда он спросил, как умерли бабушка и дедушка. И Фрэнк, окаменев на мгновение, ответил, что они погибли во время войны (что было правдой), на них рухнула стена (что было ложью).
Лео слишком мал, чтобы знать правду, убеждал жену Фрэнк. Ева была с ним не согласна и взяла с мужа обещание рассказать все сыну, как только подрастет. Но со временем ложь успела пустить корни, разрослась и укрепилась от повторов, и у Фрэнка уже не хватало духу поведать сыну истину. А Ева не проявила должной настойчивости.
– Прости, – прошептала она. – Я не хотела ворошить прошлое. Время, когда ты был так несчастен, давно прошло. И возможно, твоя история окажется полезной для него. Он ведь давно уже взрослый.
Фрэнк вздохнул. Похоже, час и вправду настал. Он уже не единожды мог рассказать сыну правду, но всякий раз говорил себе, что еще не время. Вот и теперь при одной только мысли о предстоящем разговоре Фрэнк почувствовал себя совсем больным.
– Хорошо, я поговорю с ним.
На следующий день отец и сын сидели в саду и молчали. Фрэнк не знал, с чего начать. Как мальчишка на первом свидании, он заранее придумал несколько вариантов и теперь отметал их один за другим. Лучше ничего не говорить, чем ляпнуть что‑то не то. Больше всего ему хотелось встать и уйти, он чувствовал, что молчать дальше нельзя. Но уйти, так и не сказав ни слова, – хуже всего.
И Фрэнк стиснул сыну плечо. Лео обернулся и мрачно посмотрел на отца. Фрэнку вспомнилось, как четырехлетний, с выгоревшими на солнце волосами Лео носился голышом по песчаному берегу, радостно взвизгивая, когда набегающие волны добирались до его ног. Как мог тот беззаботный мальчик превратиться в этого измученного мужчину?
«Говори, Фрэнк, говори. Поддержи его, обними, утешь. Скажи ему правду. Ведь это легко, надо лишь открыть рот. Скажи, как ты его любишь, как ты готов качать его на руках, будто в детстве, баюкать, пока боль не уйдет».
Но губы Фрэнка окаменели. Лео выжидательно смотрел на него.
– Ты что‑то хотел, папа?
Опять молчание.
– Послушай, Лео, – наконец произнес Фрэнк. – Мне надо сказать тебе кое‑что очень важное. Может, тебе станет легче.
– Да, папа?
– Только… с чего бы начать… это насчет того, что ты унаследовал…
– Унаследовал?
– Да… именно это слово употребил твой дед перед смертью.
– Папа, вопросы наследства меня сейчас совершенно не интересуют. К чему вообще этот разговор? Это все сейчас неважно.
– Да… Извини. Поговорим об этом в другой раз.
И Фрэнк унес свой стул в кухню и ушел к себе наверх, переполненный сожалением.
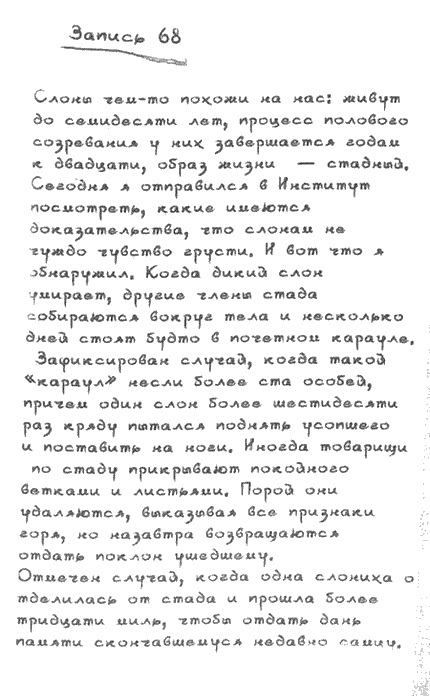
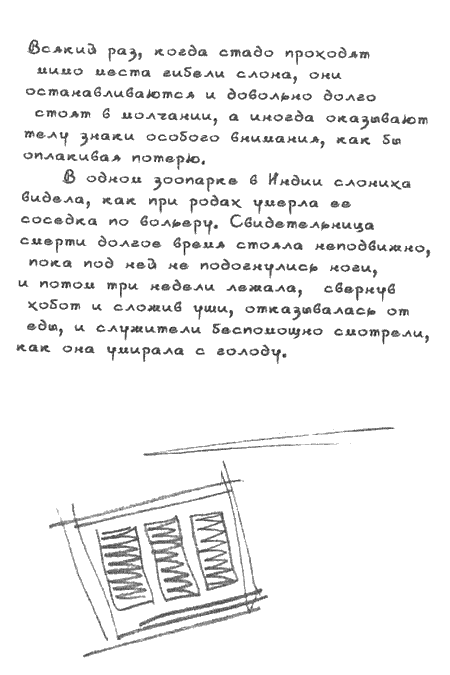
[15]
– Пойду прогуляюсь, – сказал Лео однажды после полудня. Голос его звучал глухо, бесцветно.
Мать глянула на него поверх газеты, которую не читала. Она теперь частенько садится поближе к нему с газетой или книгой в руках. Ева боится оставлять его одного, однако и наблюдать за ним в открытую тоже нельзя. Но если Лео вдруг захочется поговорить, она рядом.
– Составить тебе компанию? – спросила она.
– Нет.
– Мы бы чудесно прогулялись вдвоем.
– Нет.
– Ладно, иди развейся… Куда думаешь направиться? Может, возьмешь машину?
– Нет, спасибо. Я просто хочу пройтись.
Лео зевнул, спустился к двери, не развязывая шнурков сунул ноги в кроссовки, вышел на улицу и зашагал куда глаза глядят. Позади остались типичные для пригорода дома, скверы, небольшие магазинчики… Вскоре он понял, что ушел от дома очень далеко. Какие‑то заброшенные развалюхи, склады, пакгаузы. Но он все шел и шел вперед, пытаясь подавить нарастающую панику, которая не отпускала его с самого утра. Неужели эти боль и равнодушие, медленно разъедающие душу, никогда не пройдут? С каждым днем боль сильнее, а мир вокруг словно рассыпается, и не за что ухватиться. Даже время, этот верный целитель, против него.
Начало темнеть. Как внезапно спустились сумерки. Колено пронзила резкая боль – а ему‑то казалось, все давно зажило. Только шрам остался – память о поездке с Элени. Похоже, он заблудился. В конце улицы показался паб довольно сомнительного вида, и Лео вдруг осознал, что умирает от жажды. Должно быть, тихая, унылая забегаловка, пара грузчиков‑забулдыг, поникших за стойкой, да хозяин, для которого и пенни заработать – событие. Прежде ему и в голову не пришло бы заглянуть в такое заведение, но теперь в самый раз.
Лео толкнул обшарпанную дверь и пораженно замер: дым такой, что хоть топор вешай, зал забит горланящими мужиками, явно ускользнувшими из‑под опеки жен. Людей столько, что Лео с трудом протиснулся внутрь. Посетители со стаканами в руках стояли спиной к выходу и жадно тянули головы, пытаясь что‑то рассмотреть.
– Тютелька в тютельку подоспел, кореш, – проорал прямо в ухо какой‑то человек. – Представление как раз начинается. Протолкаешься к бару, с меня «Гиннесс».
Лео пробрался вперед. Вокруг ожесточенно топали и хлопали. На крошечную сцену выскочила молодая женщина в шубке из искусственного меха. Повернувшись к зрителям спиной, она расставила ноги, подбоченилась и замерла – секунд на тридцать, не меньше. Толпа свистела и улюлюкала. Женщина подняла руки и щелкнула пальцами. Зазвучала песня Мэрилин Монро «Я хочу, чтобы ты любил меня». Шубка соскользнула на пол, женщина надула губы и оглянулась через плечо. Старый трюк сработал безотказно. В пивной сразу воцарилась тишина. Мужики в молчании пожирали стриптизершу глазами. Она повернулась к залу: кружевная комбинация, пояс с чулками и туфли на высоком каблуке. Ей лет двадцать, не больше.
Вспотевший Лео с трудом, но пробился‑таки к бару. Дым ел глаза.
– Вот двадцатка, – крикнул Лео величественному бармену, – налей мне выпить.
– Задачка. Что предпочитаете, сэр, пиво, вино, что покрепче?
– Даже не знаю… пиво и чего покрепче.
– Как насчет пяти кружечек и пяти рюмочек?
– Отлично. Наливай.
Лео смотрел на стриптизершу и чувствовал присутствие Элени. Она снова с ним, парит над головой. Он принялся пить, рюмку за рюмкой.
– Уходи, – шептал он, – и не суди меня. Здесь мне самое место.
Но про себя он знал, что это неправда. Хотя… Может, в нем что‑то меняется? Жизнь без любви, так хоть с плотскими удовольствиями?
На девушке теперь только лифчик и трусики, она крутит грудью перед носом стоящих в первом ряду, явно призывая поделиться с ней наличностью. Зрители смущенно похохатывают и свистят, поглядывают друг на друга, роются в карманах. Наконец нашелся смельчак – юный веснушчатый коротышка с длинными жирными волосами протянул руку с зажатой в ней пятеркой. Приятели выпихнули его вперед. Стриптизерша цапнула банкнот и спрятала в лифчик. Сразу же еще несколько человек решились раскошелиться. Когда со сбором средств было покончено, зрители выдернули из толпы и положили на сцену к ногам девушки молодого парня. Лицо его было багрово от пива и разбушевавшихся подростковых гормонов, он вскочил и победно воткнул в воздух кулак. В ответ толпа затянула «С днем рождения». Юнец повернулся к девушке и принялся вихлять бедрами в нелепом подобии эротического танца. Она схватила парня за рубашку и, глядя прямо в глаза, обвила его правой ногой, прижала к себе и затряслась в конвульсиях фальшивого наслаждения. Парень попытался поцеловать ее в шею, но девушка резко отшатнулась, качнула головой, развернула свою жертву лицом к публике и заставила поднять руки. Палец ее коснулся губ парня, заскользил по шее, груди, животу, все ниже, ниже…
Толпа взорвалась восторженным воплем, и Лео вместе с остальными. Элени исчезла в клубах дыма.
Девушка задрала на юнце рубашку, обнажив безволосый, вислый живот, ухватилась за ремень. Парень инстинктивно прикрылся. Она отступила на шаг и приказала ему завести руки за спину. Зрители гоготали от души. Стриптизерша вытянула из брюк ремень и связала парню руки за спиной. Жертва (или герой?) нервно хихикал и плотоядно облизывался. Госпожа потянула за молнию, брюки упали. Публика орала все громче.
Происходящее захватило Лео, ему нравились эти раскрасневшиеся похотливые лица, горящие первобытным вожделением глаза, нравился проглянувший из‑под наносной цивилизованности хищник. Кулаки у Лео сами собой сжались, он не замечал, что одержимо колотит по стойке бара.
Сделай его, трахни. Здесь ему самое место. Продажные девки да низкопробные зрелища – все, что ему осталось. Он убийца, и это расплата. Давай лучше сядем впереди – этими словам он обрек Элени на смерть. Рана его обнажена, и он щедрой рукой посыпает ее солью, корчась от боли, – он заслужил это, заслужил. Все человеческое в нем умерло вместе с Элени, осталось лишь животное. Этим животным он и пребудет до конца жизни.
Лео опрокинул последнюю рюмку.
А стриптизерша явно знает свое дело. Ярко‑красный коготок скользил по черным трусам парня, медленно, вкрадчиво. Нет, наверное, ни одного человека в баре, кто не чувствовал бы этот палец на своей коже. Рука нырнула в трусы и сжала член. Встало, наверное, у всех. Только не у несчастного парня. Безжалостная мучительница спустила трусы, демонстрируя всем его вялый позор, и толкнула к краю сцены; бедняга споткнулся и повалился вперед, прямо в руки приятелей.
Лео отправился на поиски туалета. На душе было мерзко. Он протолкался мимо сцены (девушка как раз сняла лифчик), отыскал дверь в дальнем конце помещения. За дверью коридор. Он прислонился к стене, вытер пот со лба. К горлу подступила тошнота. Согнувшись пополам, Лео толкнул первую попавшуюся дверь.
Это не туалет, а гримерка. Лео сглотнул и, часто дыша, привалился спиной к двери. Подавив приступ тошноты, нащупал выключатель. Столик, заваленный косметикой, стул с перекинутыми через спинку джинсами. В зеркале отразились пустые глаза, бледное лицо, наморщенный лоб, обвислая кожа. Куда подевалась его молодость? Или здесь просто слишком яркий и безжалостный свет?
Из бара неслись аплодисменты и восторженные вопли.
Он выбрался в зал, проковылял к выходу и вывалился на улицу. От холодного воздуха закружилась голова, через миг содержимое желудка изверглось на тротуар. Проклиная все на свете, Лео отлепился от стены. Он знает, кто во всем виноват.
Впереди показался белый грузовик.
Водилы, скоты, разрушили его жизнь. Вина лежит на них.
Лео шагнул на проезжую часть.
«Сейчас в нас врежется грузовик!» – вскрикивает Элени. Прямо на них несется машина. За лобовым стеклом мелькает перепуганное лицо водителя, не совладавшего с управлением. Слышны два крика: Элени и чей‑то еще. Наверное, его собственный.
– Убийца, – прохрипел Лео, глядя на стремительно надвигающийся белый фургон. – Надеюсь, вы все сдохнете.
Машина резко вильнула в сторону, подпрыгнула на бордюре и остановилась. Из кабины выскочил водитель, налетел на Лео, толкнул на тротуар и вцепился в шею.
– Мудак, ты что творишь? Ты думаешь, что творишь?! – заорал он Лео в лицо.
– Ты убил Элени… убил Элени… – забормотал Лео.
– Кого? Нажрался, козел. Это я тебя чуть не убил. Одним мудаком на свете было бы меньше! – Водитель как следует тряхнул Лео.
– Нет, это ты нажрался, – просипел Лео, – доктор сказал, ты был пьян… поэтому все и произошло… что ты наделал… ты разрушил мою жизнь.
Волна ненависти придала Лео сил, он вырвался из рук шофера и ударил. Но силы не равны, несколько тычков – и Лео уже на асфальте.
Собралась толпа, но вмешиваться никто не торопился.
Очнулся Лео в камере, избитый и изумленный. Его вывели из камеры, отконвоировали вниз по лестнице, в комнату, где его осмотрел врач, приказал дохнуть в пробирку. Затем принялись задавать вопросы. В шесть утра ему сообщили, что подано заявление о его исчезновении. Заявление поступило от Фрэнка Дикина.
Лео разрешили позвонить домой.
В восемь ему сказали, что никаких обвинений ему предъявлено не будет и он свободен. В приемной его ждали родители.
– Мы думали, ты убил себя, – произнесла Ева на пути к машине.
Лео скрючился за кухонным столом. Отец стоял рядом, но Лео его не замечал.
– Заварить тебе чаю?
– Нет, я бы выпил воды.
– Со льдом?
– Господи ты боже мой, стакан чертовой воды, и все.
– Извини, – мягко сказал Фрэнк и протянул Лео стакан.
Тот осушил одним глотком и вернул пустой стакан. Фрэнк безропотно налил еще.
– Как насчет бутерброда?
– Можно я сам о себе позабочусь?
Второй стакан воды Лео выпил в молчании.
– Мама просила меня поговорить с тобой, – начал Фрэнк и тут же пожалел, что приплел Еву. Следовало сказать: «Мне надо поговорить с тобой». – Она хочет, чтобы я рассказал тебе свою историю. Она считает, тебе это поможет. Я… Я знаю, каково тебе сейчас… Я сам потерял близких, когда был совсем маленький…
Но Лео не слушал. Его терзало похмелье, он не спал всю ночь. Его потряс вчерашний инцидент. Впервые в жизни он напился как свинья, да еще едва не отправился на тот свет. И опять грузовик, вот ведь ирония судьбы. Элени его дурость точно разъярила бы. Лео было стыдно. Так нельзя, пора прекратить потакать своим прихотям и заняться делом. Вот что излечит его. Дело, а не время уврачует его раны.
Наконец он заметил смущенного отца.
– А тебе на работу не пора?
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|