
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
За культурное обслуживание. 19 страница
Словом, Линда Николаевна была выбита из колеи и старалась поскорее вернуть себе присутствие духа. Семенов искал верный тон, чтобы побыстрее снять собственную напряженность и взяться за самое существо дела, которое свело его с этой спесивой особой.
На улице в потоке людей не очень-то удобно вести конфиденциальный разговор, но кое-что все же сказать можно.
– Я знаю расписание ваших электричек, – миролюбиво сказал Семенов, когда они подошли к стоянке, где человек пять-шесть ожидали такси.
Линда Николаевна и на этот раз промолчала. Семенов иного и не ожидал.
– Нам нужно успеть на тринадцать пятьдесят восемь, – сказал он уже вполне благодушно.
Она молчала. Тогда он спросил строго:
– Нас ждут к определенному часу? Или как придется?
– Это все равно, – изрекла наконец Линда Николаевна, и Семенов тотчас понял, что она врет, и сразу ей об этом сказал:
– Неправда.
– Если вы все знаете, зачем спрашивать?
– Я знаю много, но не все. И вам и мне будет лучше, если вы станете говорить правду.
Со стороны они, наверно, были похожи на тетку с племянником, обсуждающих какую-то семейную неприятность.
– Я даже не знаю, с кем имею честь… – Она сказала это слишком громко, так, что могли слышать стоявшие рядом.
Семенов наклонился к ней.
– Говорите, пожалуйста, тише. Я покажу вам документы, только чуть позже.
Ему вдруг пришла в голову мысль, что Линда Николаевна, если пожелает, может устроить вот тут, на стоянке, истерику, выйдет публичный скандал, и тогда все задуманное полетит к чертям. Но, к счастью, она органически не была способна на истерику, даже деланную.
Подошла их очередь. Оба поместились на заднее сиденье.
– Курский вокзал, – сказал Семенов шоферу.
Потом он показал Линде Николаевне свое служебное удостоверение. До вокзала, куда приехали без десяти два, они молчали.
Семенов купил себе билет (Линда Николаевна сказала, что у нее билет есть, но забыла сказать, что она ради экономии времени купила, отправляясь в Москву, билет и для Воробьева).
Едва вошли в электричку – она тронулась. Вагоны были полупустые, и они сели в третьем от хвоста, у окна на теневой стороне, друг против друга.
– Мы пойдем к вам домой? – спросил Семенов, возобновляя прерванный разговор.
– Дома у меня делать нечего, там никого нет.
– Я ведь серьезно, Линда Николаевна. Мы же с вами вроде договорились.
Вот теперь Линда Николаевна была спокойна уже по-настоящему. Словно что-то для себя окончательно решила и не испытывала колебаний. Но и Семенов обрел то ровное настроение, которое сам он называл рабочим.
– Я тоже не шучу, – сказала она.
– Где должна произойти встреча?
– У рынка. На автобусной станции.
– Во сколько?
– От четырех до пяти.
Линда Николаевна говорила чистую правду, и ей было хорошо и спокойно.
– Чтобы не задавать лишних вопросов, может, вы сами объясните, как все это должно произойти? – сказал Семенов.
– Ничего особенного. Я вас приведу к станции и уйду. А он вас сам увидит и подойдет.
– И больше никаких паролей?
– Нет, представьте.
Про сумочку она говорить не собиралась.
– С вокзала мы на чем поедем? – поинтересовался он.
– Там рядом.
Она откровенно его разглядывала, а это всякому неприятно.
– На мне что-нибудь написано? – спросил Семенов.
– Да нет, – отвернувшись к окну, сказала она. – Рядовой труженик.
– Кстати, как это вы определили, что я не тот, кого вы ждали?
– Не так отвечали.
– А как нужно?
– Многого хотите.
– Но это не имеет значения, раз уж мы едем вместе.
– Как знать…
Она смотрела в окно, и Семенов тоже позволил себе разглядеть ее хорошенько. Моложавость облика все же не могла обмануть – перед ним сидела старая женщина. Но держалась и выглядела она великолепно. Светло-лиловый костюм из плотного крученого шелка, дымчатая кружевная кофта со стоячим воротничком, скрывающим шею. На голове серая шляпа из рисовой соломки с пучком лиловых цветков… Серая кожаная сумочка лежала у Линды Николаевны на коленях, поддерживаемая обеими руками…
Рассматривал он Линду Николаевну не из пустого любопытства. Детали одежды, как известно даже школьникам, тоже могут служить условными знаками для посвященного. Простейшее рассуждение: если она ведет на – свидание к Брокману его, контрразведчика, то у них должен быть какой-то знак, которым она даст Брокману сигнал об опасности. Но какой? Может, у нее есть миниатюрный передатчик для работы на близком расстоянии?
– Разрешите, я посмотрю вашу сумочку, – сказал Семенов.
Не меняя позы, она отдала сумочку.
Ничего похожего на радиоаппаратуру он не обнаружил.
Говорить больше было не о чем. Оставшиеся полтора часа в жарком вагоне показались бы в другое время невыносимо скучными. Но у каждого из них было о чем подумать, и два десятка станций мелькнули быстро, словно электричка шла без остановок.
В 15.53 они приехали. От вокзала Линда Николаевна повела Семенова по прямой тихой улице, обсаженной по бокам старыми липами и застроенной невысокими, в большинстве двухэтажными домами дореволюционной архитектуры. Потом повернули на улицу с оживленным автомобильным движением, и еще метров за сто Семенов увидел деревянную арку с выцветшими красными буквами:
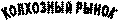
Слева от арки – полукруглая площадь, заставленная автобусами, и в глубине ее – белый павильон автостанции.
– Где он будет? – спросил Семенов.
– Не знаю. Я вам уже объяснила.
Семенов все еще безуспешно ломал голову над вопросом: каким образом Линда Николаевна сообщит Брокману, что ведет чужого? Платочек, что ли, достанет из сумочки? Или шляпу снимет?
Строя предположения, Семенов тут же их и отвергал, ругая себя нехорошими словами. Если у них условлен знак, то непременно такой, чтобы не был заметен постороннему. Семенов ни на секунду не сомневался, что знак есть, но не мог его найти.
Он шагал рядом с Линдой Николаевной, искоса на нее поглядывая. До рынка оставалось каких-нибудь полсотни метров, когда ему пришла мысль, что единственной вещью, которая может служить сигналом, нужно считать сумочку. Ничего другого нет.
Линда Николаевна держала ее в правой руке – от самого вокзала. Семенов решил так: если она, придя на рыночную площадь, переложит сумочку из правой руки в левую, он прикажет этого не делать. И наоборот: если Линда Николаевна не станет этого делать, он прикажет взять сумочку в левую руку.
Дошли до рыночной арки, которая была на той стороне улицы, и остановились, чтобы пропустить машины. И тут Семенов сказал:
– Возьмите сумку в левую руку.
Линда Николаевна как бы не расслышала, следя за потоком транспорта.
– Я говорю: возьмите вашу сумочку в левую руку, – повторил Семенов.
– Что это вы нервный такой? – спросила Линда Николаевна.
– Прошу вас, – уже сквозь зубы сказал Семенов.
Она взяла сумочку в левую руку.
Поток машин прервался. Они пересекли улицу и пошли мимо арки, потом краем площади по ее широкой дуге – справа магазинчики и мастерские, слева заставленная автобусами, пышущая масляно-бензинным смрадом асфальтовая жаровня.
– Где мы с вами должны расстаться? – тихо спросил Семенов.
– Вон там, на автовокзале.
– Вы отсюда идите прямо к себе домой. Так будет лучше.
– Неужели одну отпускаете? – Вопрос Линды Николаевны был полон иронии.
– Не беспокойтесь, у вас будет подходящая компания. Только очень прошу: когда мы расстанемся, сумочку из руки в руку не перекладывайте.
Она ничего не ответила.
У здания автовокзала Семенов остановился в тени широкого козырька над входом, а Линда Николаевна продолжала путь по дугообразному тротуару, окаймлявшему площадь. Вслед за ней пошел один из товарищей Семенова. Отойдя метров на двадцать, она все-таки взяла сумочку в правую руку. Семенов провожал ее злым взглядом, пока она не достигла улицы и не скрылась за угловым домом. Он переглянулся с другим своим товарищем. Тот дал знак, что понял.
Тут же он услышал за спиной спокойный голос:
– Товарищ Воробьев?
Обернувшись, он увидел перед собой Брокмана и спросил:
– Вы Никитин?
Вместо ответа Брокман сам задал вопрос:
– Привезли для меня что-нибудь?
Семенов похлопал по карману переброшенного через руку плаща.
– Четыре тюбика. И кое-что на словах. Где бы нам поговорить?
– Отойдем.
Брокман повел его за автовокзал. Семенов, следуя в двух шагах сзади, обратил внимание, что Брокман был налегке. В руке свернутая трубкой клеенчатая сумка, но не совсем пустая, что-то в нее было завернуто.
Обогнув здание, они очутились на маленькой, посыпанной песком площадке, окруженной чахлыми молоденькими тополями, не дававшими тени.
– Отдать? – спросил Семенов.
– Подожди, не здесь. Что такое ты хочешь передать на словах?
Семенов опять похлопал по карманам плаща.
– С этим надо обращаться осторожно.
– Хорошо. Что еще?
– Там волнуются – от тебя нет сообщений.
– Кто волнуется?
– Монах.
– Та-а-ак… Все?
– Сказано: ты должен что-то передать.
– Что именно?
В интонациях Брокмана слышалась двусмысленность. Не поймешь, то ли он принимает этот разговор всерьез, то ли просто не мешает валять дурака. Но дело начато – надо пробовать дальше.
– Какие-то расчеты ждут, – сказал Семенов. – А о чем речь, не знаю.
Брокман задумчиво поглядел на него.
– Так-так-так… Вот что, Воробьев, прокатимся за город.
Минут через десять они ехали в душном, скрипящем и стонущем автобусе по шоссе к селу Пашину, недалеко от которого Брокман в мае заложил под дубом тайник.
Сошли на той же остановке и зашагали к лесу. Брокман шел сзади.
– Мы далеко? – спросил Семенов, когда до леса оставалось совсем ничего. – У меня, знаешь, времени в обрез.
– Пошли дальше, – сказал Брокман и показал рукой, чтобы Семенов, как и прежде, следовал впереди. Семенов заметил: сумки в руке у него уже нет, вероятно, бросил по дороге, но рука не пустая, что-то зажато в кулаке.
– Ты что, конвоируешь меня? – пошутил Семенов.
– Давай-давай.
Надо было кончать… Продолжение не имело смысла. Брокман вел его в лес не для того, чтобы делиться секретами.
Семенов дал сигнал своему товарищу, а сам резко швырнул свернутый плащ в лицо Брокману, чтобы ослепить, приемом дзюдо свалил его на землю. Подоспевший товарищ помог обезоружить Брокмана и скрутить ему руки.
Глава 26
Очная ставка
Как и следовало ожидать, на допросах Брокман признался только в том, чему имелись убедительные доказательства. Происходило это постепенно, от меньшего к большему. Причем полковник Марков с самого начала придерживался такой тактики: задавая вопросы, он как бы исходил из того, что допрашиваемый обязательно должен от всего отказываться, а на каждый отрицательный ответ тут же предлагал ему совместно разобраться, почему ответ неверен и в чем заключается слабость позиции допрашиваемого. Подобная система требует много времени и терпения, зато не оставляет места недомолвкам и неясностям.
В основе тактики, избранной Марковым, лежало преднамеренное самоограничение: допрашивая Брокмана, он не использовал для его изобличения никаких сведений, полученных ранее от Михаила Тульева. Это ставило обе стороны в равные условия, и, таким образом, каждое добытое признание было результатом открытой борьбы и потому имело особую доказательную силу.
Если бы Маркову сказали, что одним из мотивов, побудивших его избрать именно такой образ действий, послужило желание показать самому себе, что он по-прежнему предпочитает идти по линии не наименьшего, а наибольшего сопротивления и тем самым успокоить свое профессиональное самолюбие, задетое батумским эпизодом, – если бы кто-то высказал такое мнение, Марков, положа руку на сердце, наверное, не стал бы его опровергать. Но все-таки главным мотивом его действий было совсем другое, гораздо более важное соображение; предвидя поведение Брокмана, он берег факты, собранные Михаилом Тульевым, для последнего удара. Пусть Брокман пропитается иллюзией, будто следствию известен только маленький отрезок его жизни – с 28 мая по 5 июля 1972 года. Тем сильнее он почувствует шаткость своего положения, когда перед ним выложат всю его жизнь и когда сам Тульев поглядит ему в глаза.
А пока следствие развивалось таким порядком.
Для начала Брокман заявил, что послан в Советский Союз с единственным заданием – дождаться и встретить человека по фамилии Воробьев, который должен передать ему нечто, а он, Брокман, это нечто должен спрятать в укромном месте, например, закопать в землю. О содержимом тюбиков он не имеет никакого понятия. Допускает ли, что это «нечто» может быть химическим или биологическим средством войны? Об этом он не задумывался.
При Брокмане найден пистолет, стреляющий оперенными иглами, острия которых несут смертельный яд. Для чего ему нужен был пистолет? Для самообороны. А микрофотоаппарат? Так, на всякий случай. А домашний секач, завернутый в клеенчатую сумку? Для того, чтобы с его помощью сделать ямку в земле и закопать посылку, – это был правдивый ответ.
Когда Брокману показали «Спидолу», он заявил, что впервые ее видит. На вопрос, считает ли он неопровержимыми данные дактилоскопической экспертизы, Брокман ответил утвердительно. Марков спросил: «Держали вы когда-нибудь этот приемник в руках?» Брокман сказал: «Нет». Тогда у него взяли отпечатки пальцев и ладоней и в его присутствии проявили на корпусе «Спидолы» оставленные на ней следы, которых было очень много. Затем на экране совместили отпечатки со «Спидолы» и отпечатки Брокмана. Они совпали так точно, что Брокман, перебив эксперта, начавшего давать технические объяснения, признал, что «Спидола» с 17 мая по 6 июня находилась у него.
После такого водевильного пролога Марков показал Брокману документальный фильм о его приезде в город К. и посещении квартиры академика Нестерова. Брокман признал, что у него было не одно, а два задания.
Затем Марков показал ему кадры, на которых была запечатлена Линда Николаевна Стачевская и дипломат с таксой. Брокман заявил, что ничего по этому поводу сказать не может, так как не имеет к этому никакого отношения. Ему совершенно непонятен смысл действий его хозяйки и назначение пустой сигаретной коробки. На вопрос, куда девалась пленка, отснятая в квартире Нестерова, Брокман заявил, что она засветилась и он ее выбросил.
На этом первый сеанс с Брокманом кончился.
Линда Николаевна вела себя несколько иначе. На первом допросе она заявила, что является принципиальным противником Советской власти, которую считает незаконной, и готова нести за это любую ответственность, но никаких практических действий, наносящих ущерб государству, не совершала. На вопрос о Брокмане сказала, что познакомилась с ним случайно, а впоследствии, проникшись к нему симпатией, исполняла кое-какие мелкие его поручения. Сознавала ли она, что эти поручения связаны с его нелегальной деятельностью? Нет. Они, эти поручения, не заключали в себе ничего преступного. Получала ли она плату за свои услуги? Нет. Только за квартиру.
Марков сказал, что контрразведке известно прошлое Линды Николаевны, и подтвердил это документами. Она от прошлого не отказывалась, но сделала оговорку, что и во время войны не совершила ни одного поступка, который мог бы служить основанием для суда над нею. Свое поведение она не считала изменой Родине – опять-таки по той причине, что не признавала Советскую власть законной.
Марков сказал, что это экстравагантное объяснение служит великолепным доказательством того, что у нескольких управляемых на расстоянии маленьких диктаторов, управляющих маленькими государствами и не признающих Советский Союз, имеется в лице Линды Николаевны Стачевской верный союзник, но что ему, Маркову, это абсолютно неинтересно.
Для Линды Николаевны тоже был организован документальный киносеанс. Однако это ее не разубедило: она продолжала утверждать, что исполняла поручения своего жильца, не усматривая в них ничего криминального.
Чтобы избавить себя от лишней траты времени, Марков устроил Брокману и Линде Николаевне очную ставку и сделался свидетелем малоприятной сцены. Нет, он не обольщался относительно моральных качеств тех людей, против которых боролся по долгу чести и службы, по убеждению, но наблюдать вблизи неприкрытую человеческую скверну ему было противно.
Линда Николаевна, увидев в кабинете Маркова своего жильца, постаралась не показать удивления, но огорчения не скрывала. Вероятно, у нее до последнего момента все-таки теплилась надежда, что ее сигнал тревоги (сумочка, переложенная в правую руку) был замечен и помог ему избежать встречи с мнимым Воробьевым, то есть с чекистом.
Прежде всего Марков, которому помогали Семенов и Павел Синицын, уточнил и закрепил показания, касавшиеся встречи с Воробьевым. Тут Брокман и Линда Николаевна друг другу не противоречили и подробно изложили все детали, в том числе и о пароле, которого не знал Семенов.
Затем Марков сказал, обращаясь к Брокману:
– Итак, вы по-прежнему утверждаете, что Стачевская ездила в Москву и звонила в посольство по своей собственной инициативе?
– Да, – отвечал Брокман.
– Номер телефона вы ей не давали?
– Нет.
– Пустую сигаретную коробку, которую она бросила на Первой Брестской улице, вы ей не давали?
– Нет.
– Следовательно, эти действия Стачевская предприняла без всякого вашего участия? Вы о них ничего не знали?
– Да, это так.
Линда Николаевна сидела на стуле очень прямо, в струнку, глядя перед собой лихорадочно блестящими немигающими глазами. Но при последних словах Брокмана вся как бы оплыла. Плечи опустились, спина ссутулилась.
– А что скажете на это вы, Линда Николаевна? – спросил Марков.
– Все это ложь и пошлость, – голосом, полным брезгливости, отвечала она.
– Такие формулировки хороши для романа, а мы пишем протокол очной ставки, – сказал Марков. – Ответьте на вопросы. Первый: почему вы звонили в посольство?
– Меня просил этот гражданин. Но я не знала, куда и кому звоню.
Вот так, в один миг, изменилось ее отношение к обожаемому жильцу, которого она именовала теперь «этот гражданин».
– Кто сообщил вам телефон?
– Он, конечно.
– Вам ваш жилец известен под фамилией Никитин. Так его и называйте, – сказал Марков.
– Хорошо. Номер телефона мне дал Никитин.
– Где вы взяли пустую сигаретную коробку?
– Мне ее дал Никитин.
– Благодарю вас. – Марков вызвал конвойного, и Линда Николаевна покинула кабинет. Она даже не взглянула на своего бывшего повелителя. Она его презирала…
Юридически эти показания Линды Николаевны на очной ставке в данный момент не имели такой силы, чтобы сбить Брокмана с его позиции в части, касающейся эпизода с дипломатом. Свои задания Линде Николаевне он давал наедине, без свидетелей, и утверждения Стачевской весили ровно столько же, сколько и утверждения Брокмана. А он категорически отрицал причастность к истории с сигаретной коробкой. Но впоследствии, когда дело Брокмана обретет контуры законченного строения, эта очная ставка ляжет в него необходимым кирпичиком.
Сейчас Марков хотел побеседовать с Брокманом об эпизоде, которого Брокман не отрицал, – о посещении квартиры Нестерова. Тут были моменты, не вязавшиеся с представлениями Маркова о квалификации тех заочно знакомых ему деятелей разведцентра, которые разрабатывали операции против Советского Союза, и о методах, применяемых их агентами в повседневной практике. Откровенно говоря, Марков был до случая с Нестеровым более высокого мнения о разведцентре и его агентуре. Полезно было разобраться в деталях, чтобы понять, чем объясняются неувязки и сбои, которые он обнаружил в действиях Брокмана.
– Скажите, Никитин, как вы сами считаете: в эпизоде с академиком Нестеровым у вас не было ошибок? – спросил Марков.
Брокман еще не избавился от раздражения, вызванного свиданием с Линдой Николаевной, поэтому не мог сразу переключиться совсем на иную тему и иной тон.
– Моя ошибка, что я сижу здесь, – сказал он довольно резко.
– Это лирика. Такие слова более подходят Линде Николаевне, а вы мужчина, – заметил Марков. – Будем разговаривать конкретно. О поездке к Нестерову.
– Я все сделал по обстановке.
– Но вы действовали, мягко говоря, очень опрометчиво. Позвонили несколько раз по телефону, никто не отвечает – вы решили, что квартира пуста, можно идти. Но телефон мог быть просто неисправен. Вы даже не проверили на телефонной станции. А что касается звонка на работу – сами понимаете…
– Да, это глупо.
– И вообще, как же проникать в квартиру, не имея точных сведений, где ее хозяева?
– С телефоном моя ошибка, но в остальном я все делал по инструкции.
– В незнакомом городе без всякого помощника – как же так?
– Я работал по аварийной схеме. Мне был приготовлен помощник, но он выпал. Почему – не знаю.
– Фамилия помощника?
– Кутепов.
– Когда вы получили приказ работать по аварийной схеме?
– Число не помню. Это было дня через три после того, как у меня оказались ключи.
– Ключи Линда Николаевна доставила вам двадцать восьмого мая. А кто и как передал приказ?
– По радио.
Вероятно, квалификация разработчиков из разведцентра все-таки не понизилась. Аварийный вариант применяли вынужденно. Маркову было известно то, чего не знал Брокман: неожиданный приезд в город К. Пьетро Маттинелли заставил Кутепова спешить, и в спешке он совершил непоправимые ошибки. И выпал из операции, в которой должен был помогать Брокману. Кончики сходились.
– Теперь скажите, Никитин, как вы должны были действовать не по аварийной схеме? Какая ставилась задача?
– Задача одна – получить рукопись Нестерова, – сказал Брокман и замолчал.
– Вы не ответили на первый вопрос, – напомнил Марков.
– Ну, если бы все шло нормально, я разыгрывал бы из себя племянника Кутепова. Ухаживал бы за дочерью Нестерова. Подходы как будто были готовы.
У Маркова опять возникло ощущение, что план разведцентра выглядит несолидно, если все расчеты строились на «племяннике».
– Послушайте, Никитин, – сказал Марков, – вы отмежевываетесь от дипломата – я вам не мешаю. Но будьте же последовательны там, где вы сильно наследили. Вы о многом умалчиваете. Племянник, ухаживания – это, знаете ли, молочный кисель.
Брокман усмехнулся.
– Ладно, скажу. Племянник – тоже правда, но потом я и Кутепов должны были действовать по поручению иностранного разведчика. Он итальянец, девчонки его знают. И обе уже замазаны…
– Вместе с ключами вам передали письмо Светланы Суховой. Для чего?
– Обычный шантаж. Это никогда не мешает.
– Вы надеялись получить рукописи Нестерова. А если бы он отказал?
– Я мог применять силу.
– Что это значит?
– Что угодно.
– Подождите, мы это запишем подробно, – сказал Марков и встал, чтобы взять из шкафа свежую кассету для магнитофона.
А потом он услышал от Брокмана то, что уже слышал от Кутепова. И все концы этой истории окончательно сошлись…
Казалось бы, после совершенно открытого разговора о Нестерове от Брокмана можно было ожидать большей открытости и во всем остальном. Но Марков на это не рассчитывал и был прав.
На седьмой день после ареста Брокмана при очередном допросе Марков наконец тронул стержневую, самую страшную для Брокмана тему. Сказав, что для прояснения некоторых моментов необходимо вернуться к эпизоду с Воробьевым, Марков спросил:
– Вы не подозревали, что в тюбиках может содержаться что-нибудь ядовитое?
– Подозревать можно что угодно.
– Спросим прямее: вы знали?
– Нет.
– Лабораторный анализ показал, что содержимое тюбиков – составная часть сильнодействующего, стойкого отравляющего вещества. Так сказать, одна из его половин. Наши химики знают приблизительный состав второй половины. Обе они сами по себе, отдельно друг от друга, почти абсолютно безвредны и обладают высокой инертностью. Только соединившись, они становятся страшными.
– Я не химик, но охотно верю всему этому.
– Тюбики Воробьев вез вам. Мы имеем право думать, что вторая половина была у вас.
– Это вы на меня не нацепите, – решительно заявил Брокман. – Не знаю никаких половин. Ничего ни от кого не получал. Воробьев до меня не доехал.
Дав ему выговориться, Марков продолжал:
– Стачевская показала, что с девятнадцатого мая, то есть со дня вашего приезда к ней, и до четвертого июня, то есть до поездки к Нестерову, вы ни разу не отлучались из ее дома. Это верно?
– Верно.
– Стачевская добавила, что где-то между девятнадцатым и двадцать восьмым мая вы все-таки уходили из дому как-то днем и отсутствовали несколько часов. Это тоже верно?
Брокман впервые ответил не сразу, а после короткой паузы:
– Не помню.
– А вы вспомните. Она еще снабдила вас закуской. Вы и секач с собой брали.
– Не помню, – повторил Брокман.
– Но вы по крайней мере помните свои слова по поводу того, почему при задержании у вас оказался этот секач?
– Помню.
– Повторите, пожалуйста. Я забыл их.
– Чтобы зарыть то, что привез Воробьев. Если бы привез.
Он прочно окопался за этим «если бы». И ничего тут не сделаешь…
– А в тот, первый раз – для другой цели? Дров нарубить?
– Не было того раза. Не ловите меня, гражданин начальник.
Никогда Марков не позволял прорываться наружу чувствам, которые он испытывал по отношению к своим противникам. Он остался спокоен и сейчас.
– Кто вас научил такому обращению – гражданин начальник?
– У меня были хорошие инструкторы.
– Прошу не употреблять этого выражения. Ваши начальники остались там. А насчет «того раза» мы еще побеседуем.
Это было 12 июля. Вызванный на допрос 14-го, Брокман заявил, что больше никаких показаний давать не будет, так как все ему известное уже сообщил.
Марков оставил Брокмана в покое. Он ждал Михаила Тульева, который вот-вот должен был вернуться после долгой жизни за рубежом.
Не тревожимый привычными вызовами в кабинет полковника, Брокман начал проявлять нервозность.
Глава 27
С поличным
Психологи и социологи, занимающиеся изучением различных пенитенциарных систем, принятых в разных странах в разные времена, расходятся – порою очень сильно – в оценке того или иного типа тюрем, установленного в них режима и эффективности разнообразных методов перевоспитания правонарушителей. Но все исследователи согласны в частном вопросе, касающемся одиночного заключения. Признавая его самым тяжким видом наказания и констатируя, что не все одинаково его переносят, специалисты установили прямую взаимосвязь между уровнем интеллекта заключенного и степенью приспособляемости к одиночному заключению. Чем ниже интеллект узника, тем быстрее и разрушительнее действует на его психику одиночка. Приученный к размышлению ум, удовлетворяющийся самопознанием дух несравненно более стойко переносит полное отсутствие контактов с людьми.
Брокман не обладал высоким интеллектом. Выражаясь изящным слогом, сады его воображения заросли дремучим чертополохом и не плодоносили, а в темные заводи его души не проникал животворный солнечный свет. И хотя камера, где он содержался, скорее напоминала обыкновенную комнату – ничего лишнего, но все необходимое есть – и имела площадь не менее двенадцати квадратных метров, и несмотря на то, что предыдущая жизнь сделала из него законченного индивидуалиста, Брокман, запертый в четырех стенах впервые за тридцать семь лет своего существования, испытывал такое чувство, словно его телу тесно в собственной оболочке, и ощущал острую потребность хотя бы молчаливого общения с живым существом.
Уже не с каждым днем, а буквально с каждым часом все нетерпеливее он ожидал, что его позовут на допрос. Но его не звали. Он начинал злиться, но тут же говорил себе: сам виноват, не надо было заявлять, что отказываешься давать дальше какие-нибудь показания. Он жалел, что, решив отращивать бороду, отказался от парикмахера, а менять решение считал малодушным.
Он пробовал отвлечься, вызывая в памяти картинки из прежней жизни. Но картинки невозможно было остановить и разглядеть, они мелькали, наползали друг на друга и сливались в серое пятно. Он стал просыпаться по ночам по пять-шесть раз. Наконец – чего уж он никак не предполагал – от него ушел аппетит. Тут он понял, что может стать одним из тех неврастеников, которых, как сказано выше, презирал. Всегда тщательно заботившийся о своем здоровье, ибо хорошее здоровье при его профессии было первейшей необходимостью, Брокман с нараставшим беспокойством отмечал, что день ото дня все больше худеет. С ним произошла еще одна странность: ему противен стал дым табака, и он бросил курить.
Он отмечал сутки царапинами на стене. С 14 июля таких царапин уже накопилось одиннадцать. 26 июля в неурочный час между обедом и ужином, когда Брокман лежал на койке, закинув руки за голову, – в двери камеры неожиданно загремел ключ. Именно загремел, хотя в обычное время, когда приносили еду, звук открываемого замка, который был хорошо смазан, воспринимался совсем не громким.
Брокман рывком вскочил на ноги и застыл, вытянув руки по швам и сжав кулаки. В его позе не было воинственности – одно напряжение.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|