
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Глава 5. РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Обработка, ОЦР: http: //ldn-knigi. lib. ru, Leon Dotan, 06. 2009
Текст прислал кандидат философских наук, доцент СГТУ (Саратов)
Александр Павлович Новиков.
{Х} - Номера страниц соответствуют началу страницы в книге.
(2) – примечания см. в конце текста.
ldn-knigi: наши пояснения и дополнения - шрифт меньше, курсивом
Анна Гейфман «В сетях террора, Дело Азефа и Русская революция»
Москва, 2002 г.
из книги, глава 5 - «Разоблачение»
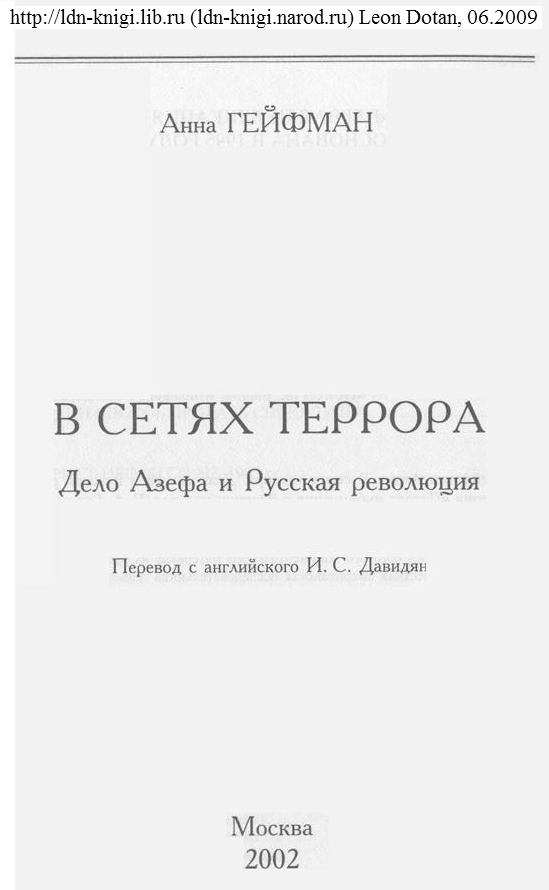
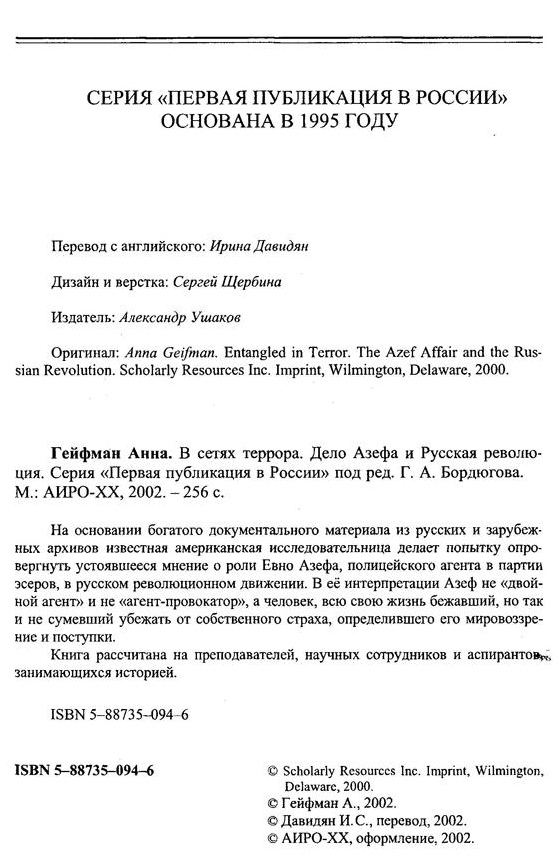
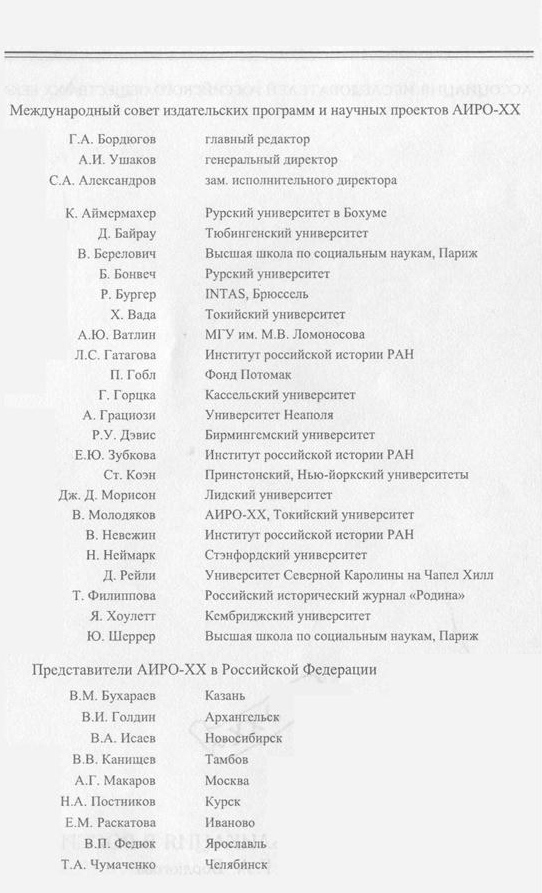
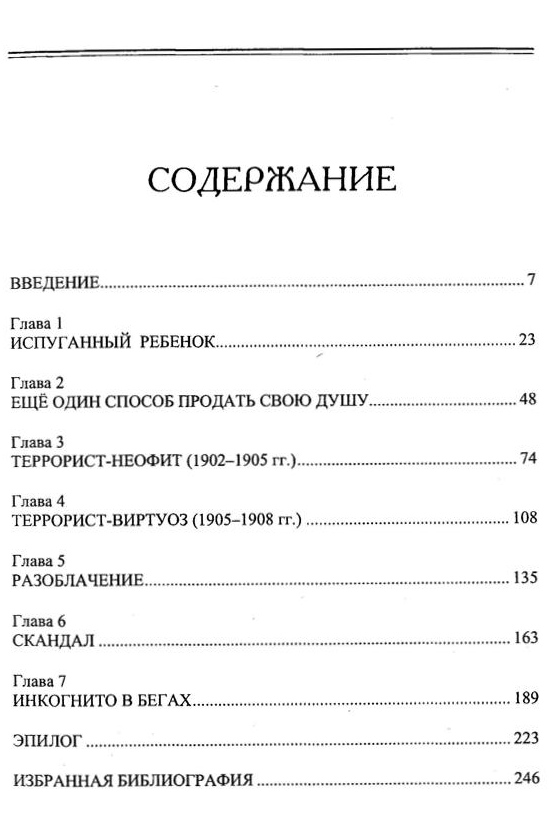
{135}
Глава 5
РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Я не знаю в русском революционном движении ни одного более громкого имени, чем имя Азефа. Его имя и его деятельность более блестящи, чем имена и деятельность Желябова, Созонова, Гершуни, но только при одном условии: если он честный революционер.
Владимир Бурцев (1).
За 15 лет службы Азефа в качестве полицейского агента в самом сердце ПСР революционеры не один раз подозревали его в сношениях с полицией (2), но по разным причинам ему всегда удавалось избегать разоблачения. В 1893 г. в Германии члены студенческого революционного кружка просто не стали предпринимать серьёзного расследования ходивших слухов о его связи с царскими властями. В 1903 г. левый писатель Н. А. Рубакин, одно время состоявший членом ПСР, в письме Михаилу Гоцу в Женеву назвал Азефа полицейским осведомителем, но старый революционер лишь отмахнулся от этих обвинений, посчитав их полным вздором (3). В 1905 г. анонимный «доброжелатель», оказавшийся впоследствии бывшим полицейским служащим Леонидом Меньшиковым, в своём «петербургском письме» сообщил революционерам, что Азеф и Татаров являются полицейскими шпионами в ПСР, хотя и не представил достаточно убедительных доказательств (4). Без труда поверив в предательство Татарова, новичка в ПСР, эсеры, однако, даже не подумали начать расследование в отношении Азефа, снискавшего уже славу героя-террориста после убийства министра внутренних дел Плеве и великого {136} князя Сергея. «Признать, что кумир всей партии — провокатор, было для эсеров совершенно немыслимо» (5). Михаил Гоц однажды сообщил Плеханову, лидеру российских социал-демократов, о том, что Азефа обвиняют в провокации, на что тот равнодушно ответил: «Обо мне и о Лаврове говорили то же самое» (6). В марте 1906 г. Татаров, в отношении предательства которого уже велось расследование, сообщил Савинкову, что полицейский шпион в ПСР — это «Толстый» (Азеф), однако глава террористов ни на минуту не усомнился в том, что это утверждение — всего лишь отчаянная попытка Татарова оправдать себя, переложив вину на другого (7). Тем временем ЦК ПСР получил свидетельства из ряда других источников, указывающих — прямо или косвенно — что полицейским осведомителем внутри партии, возможно, является Азеф, и некоторых эсеров стали тревожить смутные опасения (8).
Впрочем, большинство из них и особенно члены ЦК продолжали верить в непогрешимость Азефа, хотя порой и их поражала та самоуверенность, с какой он относился к возможности ареста. Он демонстративно игнорировал даже самые общие правила конспирации, но при этом ему всегда «везло» и он в течение многих лет оставался неуязвимым для полиции (9). Несмотря на все заслуги Азефа, многие эсеры не могли не считаться с фактом его некоторой чужеродности в среде революционной интеллигенции, с его недостатком культуры, с его «грубостью и даже жестокостью».
Кроме того, хотя Азеф всегда старался производить впечатление человека, едва сводившего концы с концами, многие эсеры отмечали также его склонность к излишествам и жадность к деньгам. Всё это противоречило царившему в эсеровской среде духу самоотверженного и бескорыстного служения делу революции. Нелестно, с точки зрения некоторых революционеров, характеризовали Азефа также «скудость, мысли» и «отсутствие эмоционального порыва». «Словом, весь его... облик не вызывал симпатию и резко отрицательно отличал его от товарищей» (10). И если эсеры-ветераны были готовы закрывать глаза на его недостатки, то новичков его мелкобуржуазные привычки и грубые манеры, вкупе с откровенно неприятной внешностью, просто отталкивали — вплоть до того, что некоторые из них начинали склоняться к мысли о том, что распространенное мнение о талантах и революционных заслугах Азефа явно преувеличено (11).
{137} Особенно трудно давались Азефу первые встречи — они неизменно производили на людей негативное впечатление и даже могли вызвать инстинктивное подозрение, что, в свою очередь, заставляло Азефа переживать неприятные моменты. Один профессор Политехникума в Карлсруэ, где Азеф был студентом, однажды так прямо и отозвался о нём, когда кто-то упомянул его имя: «Ах, этот шпион! »(12). В другой раз, будучи впервые приглашён в дом Виктора Чернова на чай, Азеф насмерть перепугал няню детей, открывшую ему дверь. Бедная женщина, увидев его, поспешила предупредить хозяйку, что «её хочет видеть какой-то тип из полиции». Уже через несколько минут жена Чернова вместе с гостями весело смеялась над забавным «недоразумением», но громче всех смеялся сам Азеф: он просто «давился хохотом», и «всё его тучное тело колыхалось при этом из стороны в сторону» (13). Ольга Чернова вспоминала потом ещё один похожий случай. Как-то компания эсеров села играть в карты. Внезапно в комнату вошла Вера Фигнер, эта «Жанна Д'Арк русской революции», как называл её Анатоль Франс (14). Зная, как эта аскетичная женщина, отсидевшая двадцать три года в страшной Шлиссельбургской крепости, презирает карточные игры, и не желая обидеть её, гости быстро спрятали карты под стол. В этот момент всеобщей неловкости и замешательства Азеф поднял скатерть и воскликнул: «Поглядите, Вера Николаевна! Эти люди играют в карты, пока вы не видите». Ольга Чернова, разгневанная крикнула: «Как не стыдно! Вы настоящий провокатор! » Истинно так, должно быть, подумал шпион, заливаясь истерическим смехом. «Провокатор, провокатор! » — повторял он между приступами хохота (15).
В 1907 г., когда удачными оказались многие теракты, о которых Азеф ничего не знал, а те, о которых он знал, окончились полным фиаско, слухи о предателе в ЦК ПСР стали особенно сильными. В начале 1908 г. полиция, явно руководствуясь данными, полученными от своего источника внутри ПСР, разгромила в Петербурге Северный летучий боевой отряд Трауберга. Это поражение подстегнуло многих эсеров потребовать от ЦК ПСР проведения срочного расследования с целью выявить шпиона в своих рядах. Особую решительность в этом вопросе проявляли члены так называемой Парижской группы социалистов-революционеров, или «группы инициативного меньшинства», {138} некоторые из которых поспешили обвинить центральный комитет в беспечности, пагубной для интересов партии (16).
Постепенно тучи стали сгущаться над головой Азефа, особенно после того, как несколько уцелевших после арестов членов Северного боевого отряда не только приписали свой провал присутствию в ПСР полицейского осведомителя, но и впрямую называли его имя: некий «Женя» (от «Евгений» — русский эквивалент Евно) (17). Однако престиж Азефа как террориста был столь высок, а его положение в партии столь незыблемо, что лидеры партии отметали любые разговоры о шпионе в их рядах как часть полицейской интриги, цель которой — опорочить честное имя выдающегося революционера, парализовать его деятельность и тем самым бросить тень на партию в целом.
Такое отношение к Азефу, казалось, делало безнадежными любые попытки высказаться со стороны ещё одного обвинителя, Владимира Бурцева. Не будучи формальным членом ПСР, Бурцев был тесно связан с эсерами благодаря личному знакомству со многими из них. В мае 1908 г. он обратился к центральному комитету партии с поразительным заявлением. В течение многих месяцев он шёл по следу полицейского осведомителя в самом центре ПСР и теперь у него в руках имеется достаточно доказательств, чтобы с полной ответственностью заявить: человеком, много лет предававшим партию, был не кто иной, как Азеф.
Открытое обвинение Азефа в предательстве, да ещё человеком со стороны, заставило руководителей эсеров забыть свои собственные подозрения на его счёт и выступить в защиту чести и достоинства «оклеветанного товарища». С редким единодушием они отметали все обвинения в адрес человека, «который, благодаря своим необыкновенным способностям, огромным услугам, оказанным им партии и революции, поставил себя выше Гершуни и рядом с Желябовым». «Если Азеф — провокатор, так мы все — провокаторы», — вторили, как один, члены ЦК, а некоторые добавляли: «Если Азеф — провокатор, то нам пришлось бы всем пустить себе пулю в лоб» (18). Не сомневаясь ни минуты в абсурдности подозрений против Азефа, его коллеги из руководящего органа ПСР колебались лишь в одном: как расценивать это заявление Бурцева — как обыкновенную глупость или как часть нелепой полицейской игры, затеянной для дискредитации лично Азефа и всей партии эсеров?
{139}
Впрочем, нашлись люди (из числа заграничных членов ПСР), готовые поддержать выпад Бурцева против ЦК и потребовать официального расследования всех обстоятельств дела, «несмотря на отсутствие весомых доказательств против Азефа» (19). ЦК был вынужден уступить давлению и создать специальную «комиссию по расследованию слухов о провокации внутри партии». Результат проведённой сю поверхностной проверки фактов оказался абсолютно предсказуемым и подтверждал мнение ЦК: возможно, в партии действительно есть высокопоставленный полицейский агент, но это не Азеф, слухи о провокации которого оказались совершенно безосновательными (20).
Бурцева выводы комиссии, естественно, не удовлетворили. На состоявшейся в августе 1908 г. в Лондоне конференции ПСР он распространил среди делегатов открытое письмо к эсеру Алексею Теплову, в котором подтвердил свои предыдущие обвинения в адрес Азефа, и тем самым спровоцировал общую дискуссию. Отныне разговоры о предателе в центре ПСР стали «темой дня» (21). Видя, что по-хорошему заставить Бурцева замолчать не удается — он явно не собирался бросать свой донкихотский поход и продолжал настаивать на точности имеющихся у него сведений — члены ЦК решили, что пора поставить на место этого упрямого, зарвавшегося фанатика, подрывающего авторитет всего эсеровского движения (22). Чтобы раз и навсегда покончить с этим неприятным эпизодом, они решили вызвать Бурцева на тайный революционный суд чести, где были намерены обвинить его в клевете (23). Отчаянные попытки Бурцева, с помощью всё новых доказательств, заставить ослепленных эсеров поверить в виновность Азефа привели лишь к ухудшению отношений между журналистом и лидерами ПСР. Человек, позволивший себе оскорбить одного из самых прославленных членов ЦК партии, вызывал у них возмущение и враждебность (24).
Эсеры настолько были уверены в исходе процесса, что решили проконсультироваться с самим Азефом, предоставив ему все данные, собранные комиссией по расследованию. Изучив эти материалы, шпион мог вздохнуть с облегчением. Хотя ему и пришлось объяснять некоторые не состыковывающиеся факты, в целом революционеры не имели ничего, что могло бы сделать его преступником в их глазах. Тем не менее, Азеф выглядел довольно взволнованным {140} в эти дни, вызывая у товарищей сочувствие и поддержку. Даже те, кто никогда не любил Азефа, спешили утешить его и продемонстрировать ему своё доверие (25). «Бурцев будет разбит, — не сомневался Чернов. — Ему придётся покаяться перед судом» (26). По мере того как конфликт принимал всё более скандальный характер, некоторые эсеры даже стали предлагать убить Бурцева, если он не предоставит стопроцентных доказательств предательства Азефа (27).
Бурцев безусловно понимал, в какой сложной ситуации он ока-
зался. Понимал он и то, что все его обвинения выглядят бездоказа-
тельными, так как почти целиком основаны на непроверенных данных
бывших полицейских служащих и агентов, а также на его собствен-
ных умозаключениях и голой интуиции. Его главным информатором
до этого момента был Михаил Бакай, полицейский перебежчик, уво-
ленный со службы в охранном отделении за должностные преступ-
ления (28). В 1907 г. он прибыл в Париж, где предоставил себя вместе
с известными ему тайнами охранки в полное распоряжение Бурцева.
Действуя на основании указаний последнего, Бакай также пытался,
с помощью взяток и угроз, склонять к сотрудничеству с революцио-
нерами своих бывших коллег-полицейских. Одновременно он писал
мемуары и сенсационные статьи для прессы, полные фантастиче-
ских подробностей о работе царской тайной полиции, которую он
представлял шайкой заговорщиков и преступников (29). Что касает-
ся Азефа, то о нём у Бакая имелись только косвенные данные, кото-
рые никак не могли служить однозначным доказательством ви-
ны (30). Для суда чести, назначенного на конец октября 1908 г.,
Бурцеву срочно нужны были более веские аргументы и более надёж-
ный источник информации (31). И судьба предоставила ему такой
источник в лице отставного директора Департамента полиции Алек-
сея Лопухина.
Впоследствии Бурцев много раз рассказывал, как долго и трудно он шёл к разоблачению Азефа. Это была подлинная эпопея, кульминацией которой стало подтверждение с трудом и по крупицам добытых сведений отставным сановником. К публичным заявлениям Бурцева, однако, следует относиться с осторожностью, поскольку в бесконечных интервью и газетных статьях, он оказался более чем склонен выдавать за истину не только непроверенные, но и явно не соответствующие действительности и извращённые факты.
{141} По словам Бурцева, недоверие к Азефу в нём зародилось уже в момент их первой встречи в 1893 г. В отличие от других революционеров, он был якобы поражён «грубостью, жестокостью и цинизмом» Азефа по отношению к женщинам, а также «его вульгарностью в политических вопросах», — словом, желания общаться с этим «грязным и подозрительным типом» у Бурцева тогда не возникло (32). В последующие годы он продолжал испытывать антипатию к Азефу, всё же почему-то не выпуская его из поля зрения (33). Особое внимание Бурцева Азеф привлёк в 1906 г., когда журналист пришёл к выводу, что недавние провалы Боевой организации эсеров есть результат провокации. По его собственным словам, он начал анализировать ситуацию в руководстве ПСР и остановился на Азефе. Бурцев утверждал потом, что в тот момент он ещё не был уверен в том, что Азеф — провокатор, скорее он полагал, что шпионом может быть кто-то из окружения этого неприятного человека (34). Заподозрить самого Азефа, по словам Бурцева, его заставила случайная встреча с Азефом в 1906 г., когда глава Боевой организации не таясь, в открытой коляске, ехал с женой по Английской набережной в Петербурге, словно ничуть не опасался быть узнанным полицией.
О своих подозрениях Бурцев не говорил никому ни слова до осени 1907 г. (35). Первым человеком, с которым он поделился, был Карл Трауберг, глава Северного летучего боевого отряда, который якобы заявил в ответ (о причинах этого заявления Бурцев предпочел не распространяться), что он тоже «знает» или «почти убежден», что Азеф провокатор (36). Заручившись, таким образом, поддержкой влиятельного террориста (который, к слову сказать, был казнён в конце 1907 г. и не мог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию), охотник за шпионами продолжил собирать данные против Азефа, пока не получил убедительное свидетельство его вины от Лопухина.
Как рассказывал Бурцев, с Лопухиным он столкнулся случайно в поезде, когда ехал из Кёльна в Берлин.
(ldn-knigi: не случайно! См. у наскнигу«Александр Исаевич Браудо», 1864-1924, Париж 1937г., Вл. Бурцев – стр. 95:
«{95}В августе 1908 г. в Париже на мою квартиру эмигранта, который несомненно находился под бдительным надзором русской полиции, неожиданно явился Браудо. Он, конечно, понимал опасность этого визита ко мне для него, находящегося на правительственной службе. Он меня ни о чем не расспрашивал, и мы вообще говорили на общие темы. Но он только как будто мимоходом сообщил мне адрес Лопухина и указал точно день, когда он уезжает в Poccию, и когда у него будет пересадка в Кельне на поезд, идущий в Берлин. Я понял, что ему ясна важность для меня этого сообщения. Я поблагодарил его за сообщение, но мы не говорили, почему для меня встреча с Лопухиным так важна.
Через несколько дней я был в Кельне и стал осматривать все поезда, на которых мог приехать Лопухин. И, действительно, в одном из этих поездов я встретил Лопухина, и мы вместе доехали до Берлина. Дорогой у меня произошел с Лопухиным очень важный разговор об Азефе... »)
Они были знакомы: будучи главным редактором журнала «Былое», издававшегося в 1906-1907 гг. в Петербурге, Бурцев дважды предлагал Лопухину опубликовать его воспоминания, но оба раза получал категорический отказ (37). Встретившись в поезде, Бурцев завёл разговор с Лопухиным — сначала на нейтральные темы, а затем быстро переключился на предмет, который занимал его больше всего. Поразив Лопухина своим знанием {142} полицейского мира, которым Бурцев был обязан, очевидно, своему общению с Бакаем, он пересказал бывшему шефу полиции всё, что ему было известно об одном агенте по имени «Раскин», который действовал в самом сердце ПСР и чьё подлинное имя, по мнению Бурцева, было Азеф.
По бурцевской версии событий, Лопухин поначалу молча слушал, сразу осознав, что шпион «Раскин» не только поставлял информацию полиции, но и лично принимал участие в организации политических убийств, что делало его предателем государственных интересов и двойным агентом. В конце разговора Лопухин уже не скрывал своего гнева и возмущения и, в ответ на настойчивые просьбы Бурцева раскрыть личность человека, скрывающегося за псевдонимом «Раскин», якобы заявил: «Никакого Раскина я не знаю, но инженера Евно Азефа я видел несколько раз» (38). Для Бурцева это заявление означало, пусть и косвенное, но очевидное подтверждение его подозрений.
В конце октября 1908 г. Бурцев предстал перед эсеровским судом чести, собравшимся в частной библиотеке на улице Ломонд (rue Lhomond) в Париже, откуда судьи вскоре перебрались на квартиру Савинкова на улице Лафонтен (rue La Fontain). В состав суда входили влиятельные представители русского революционного движения, такие как ветеран-народоволец, бывший узник Шлиссельбурга, Герман Лопатин, прославленный анархист Пётр Кропоткин и, пожалуй, самая знаменитая женщина-революционерка — Вера Фигнер, а также члены ПСР Марк Натансон, Борис Савинков и Виктор Чернов.
Ни один из присутствовавших не пожелал подать руки «клеветнику». Гнев соратников Азефа по Боевой организации, однозначно принявших сторону своего лидера в конфликте, усугублял эмоциональную напряжённость процесса. Но даже в такой невыгодной для себя ситуации Бурцев решил попытаться сдержать данное Лопухину слово сохранить его инкогнито (по крайней мере, на время) и, не раскрывая революционерам своего главного источника информации, поразить их разнообразием фактов предательства Азефа. Эта тактика, однако, потерпела полное фиаско: суд отверг все его аргументы как несостоятельные. После семнадцатого заседания суда Фигнер, выходя, сказала Бурцеву: «Вы ужасный человек, вы оклеветали героя, вам остаётся только застрелиться! ». Не дрогнув, Бурцев ответил: «Я и застрелюсь, если окажется, что Азеф не провокатор! » (40).
{143}
А затем состоялось восемнадцатое и последнее заседание суда, в ходе которого судьи категорически отвергли все утверждения Бурцева, вертевшиеся, по мнению революционеров, вокруг показаний Бакая и других, не менее сомнительных источников. Только тогда, в последней попытке защитить свою позицию, своё достоинство, а, возможно, и свою жизнь — т. к. сам он считал, что ведёт борьбу не на жизнь, а на смерть (41) — Бурцев выдвинул последний аргумент — рассказал своим онемевшим судьям о разговоре с Лопухиным и о том страшном признании, которое он у него вырвал (42).
В комнате воцарилось тяжёлое молчание, сметённое через мгновение шквалом эмоций. Чинное собрание мгновенно превратилось в бедлам: все вскочили со своих мест, отчаянно крича и жестикулируя. Старик Лопатин, председатель суда, «подошёл к Бурцеву, положил ему руки на плечи и, глядя прямо в глаза, сказал: «Дайте честное слово революционера, что вы слышали эти слова от Лопухина... ». Бурцев начал ему отвечать, но Лопатин отвернулся, глаза его наполнились слезами. «Да чего тут говорить... — он безнадежно махнул рукой. — Дело ясное! " » (43).
После того как первый шок, вызванный сообщением Бурцева, прошёл, революционеры — ошеломлённые, смущённые, упавшие духом, но старающиеся не подавать вида друг перед другом, — договорились не принимать поспешных решений и начать действовать постепенно. В первую очередь надо было оправдать Бурцева, снять с него обвинения в клевете и подрыве эсеровского движения (44). Хотя Чернов и Савинков продолжали ревностно защищать Азефа, несмотря на все улики, а другие судьи склонялись к мнению о полицейском заговоре, жертвой которого мог пасть Бурцев, полностью игнорировать заявление Лопухина революционеры не могли. «На основании таких улик убивают», — заметил Лопатин. Таким образом, суд над Бурцевым обернулся его частичным триумфом: по крайней мере, «презумпция невиновности Азефа исчезла» (45), и судьи признали необходимость дальнейшего расследования.
Прежде чем нарушить данное Лопухину слово сохранить втайне его показания, Бурцев взял аналогичное обещание с революционеров: он не хотел, чтобы Азеф раньше времени узнал о том, кто его скомпрометировал. Члены суда пообещали не разглашать услышанную от Бурцева сенсационную информацию, но кто-то из них, скорее {144} всего Чернов или Савинков, не сдержал слова, и очень скоро Азефу стало известно, что главной уликой против него являются показания Лопухина. Азеф также узнал, что члены суда вместе с Бурцевым решили организовать встречу с Лопухиным, на сей раз в Петербурге, с тем чтобы он подтвердил всё сказанное им в присутствии представителя ЦК ПСР. Миссия допросить Лопухина выпала на долю Андрея Аргунова, что было весьма символично, так как Аргунов, сам о том не подозревая, был одной из первых жертв в полицейском послужном списке Азефа (46).
В надежде помешать своему окончательному разоблачению Азеф немедленно выехал в Петербург. Встретившись с эсерами, он представил им не выдерживающее никакой критики объяснение своего отсутствия: он якобы уезжал из Парижа на десять дней в Германию, чтобы навестить старого партийного товарища. Исполненный страха и беспокойства, которые он изо всех сил старался сдерживать, Азеф был на грани истерики — иначе чем можно было объяснить, что он впервые в жизни изменил своей почти инстинктивной привычке не оставлять следов и всегда иметь стопроцентное алиби? «Когда Бог хочет кого-либо наказать, — писал он позднее о своём поведении Герасимову, — то отнимает у него разум» (47).
Очутившись в Петербурге, Азеф поспешил увидеться с шефом охранки, чтобы сообщить ему о разговоре Бурцева с Лопухиным и о предстоящей встрече последнего с эсерами. Герасимов принял Азефа в своей квартире на Большой Итальянской улице. Внимательно выслушав взволнованный рассказ шпиона, он нашёл его абсурдным: он знал Лопухина уже семь лет и был убеждён, что тот не может быть предателем или государственным преступником. Бурцев просто блефовал, когда ссылался на Лопухина, и чтобы убедиться в этом, Азефу следует самому увидеться с отставным директором Департамента полиции и расспросить его (48). Спокойная уверенность Герасимова подействовала на Азефа. Больше всего на свете желавший в тот момент вернуть утраченное доверие своих товарищей-эсеров, он отбросил свойственную ему осторожность и 11 ноября 1908 г. лично объявился в квартире Лопухина на Таврической, 7. Он умолял своего бывшего начальника сказать ему правду, говорил ли он что-нибудь Бурцеву о их взаимоотношениях, и если да, то не мог бы он взять свои слова обратно и заявить эсерам, что они никогда не были знакомы.
{145}
Этот шаг, оказавшийся впоследствии роковым для Азефа, ничего не дал. Лопухин, хотя и заявил, что Бурцеву он ничего не рассказывал, тем не менее, отказался давать какие-либо обещания впредь покрывать Азефа перед революционерами. В отчаянии, Азеф спросил Лопухина напрямую, что тот намерен делать, если эсеры обратятся к нему за показаниями против шпиона в ЦК ПСР. Ответа не последовало (49).
На следующее утро Азеф снова был у Герасимова. Рассказ шпиона о встрече с Лопухиным несколько поколебал уверенность Герасимова в том, что инцидент не стоит выеденного яйца. Шеф охранки решил переговорить с Лопухиным лично. Он обещал также передать Лопухину письмо Азефа, в котором шпион напоминал о своей безупречной службе и умолял спасти его жизнь, как когда-то он спас жизнь Лопухину, которому революционеры вынесли смертный приговор в отместку за арест Гершуни в 1903 г. 21 ноября Герасимов нанёс визит Лопухину, оказавшийся, впрочем, столь же безуспешным, как и предыдущее посещение самого Азефа. Герасимов просил Лопухина подумать об интересах полиции и государственной безопасности, напоминал о присяге, взывал к чувству сострадания (50), но всё было напрасно. Лопухин заявил, что «не может и не будет ничего делать для... этого негодяя». Герасимов, разумеется, не знал, что к тому моменту Лопухин действительно уже не мог ничего сделать для Азефа, потому что тремя днями ранее, 18 ноября, отставной начальник полиции имел тайное свидание с эсеровским представителем Аргуновым, которому и сообщил о визите Азефа (51).
По сути, это был конец игры великого шпиона, но поскольку авторитет Азефа в глазах рядовых революционеров был чрезвычайно высок и в партии ему «доверяли так, как, быть может, доверяли только Гершуни» (52), многие известные эсеры, включая Чернова и Савинкова, по-прежнему отказывались верить в предательство Азефа. Поразительно, но не убедили их и результаты произведенного вскоре допроса самого Азефа, когда было однозначно установлено, что в день предполагаемого визита к Лопухину он действительно находился в Петербурге, а вовсе не в Берлине, как он прежде утверждал (53).
«Если бы против моего родного брата было столько улик, сколько их есть против Азефа, я застрелил бы его немедленно», — заявил Савинков, а затем добавил: «Но в провокацию Ивана {146} я не поверю никогда» (54). Несмотря ни на что, эсеры продолжали цепляться за призрачную надежду, что всё происходящее — это результат полицейской интриги, и требовали, чтобы Лопухин лично подтвердил им всё сказанное Бурцеву и Аргунову, — причём как устно, так и письменно (55).
16 декабря 1908 г. Лопухин прибыл в Лондон. Там, в отеле «Вальдорф» 23 декабря и произошла его встреча с тремя представителями ЦК партии эсеров: Черновым, Савинковым и Аргуновым, — во время которой он рассказал им о ноябрьском визите Азефа, а также всё, что ему было известно о его деятельности в качестве агента полиции (56). Так как Азеф не сумел предоставить сколько-нибудь вразумительного объяснения своего присутствия в Петербурге, сомневаться в словах Лопухина не приходилось, и перед Новым годом группа эсеровских лидеров вынесла шпиону тайный смертный приговор. За квартирой Азефа было установлено наблюдение.
Но даже и тогда руководство ПСР, придавленное тяжестью и неопровержимостью улик против Азефа, но всё ещё не готовое их окончательно осознать и принять, большинством голосов решило дать Азефу ещё один шанс спасти свою жизнь.
5 января 1909 г., около семи часов вечера, Чернов, Савинков и Суховых (один из членов Боевой организации, известный также, как «Николай» и «Панов») нанесли неожиданный визит Азефу в его парижской квартире на бульваре Распай (Boulevard Raspail), 243 (57). Открыв им дверь, Азеф даже не побледнел, а «ужасно пожелтел». Эсеры же без церемоний вошли внутрь, отказались пожать руку хозяину и, пройдя за ним в его кабинет, загородили выход из комнаты. Азеф, должно быть, решил, что его немедленно убьют, но Чернов заявил: «Мы предлагаем тебе условие: расскажи откровенно о твоих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить твою семью» (58).
Узнав, с облегчением, что эсеры пока всё ещё настроены мирно, Азеф разыграл мелодраматическую сцену, отчаянно возмущаясь «гадким подозрением» и решительно настаивая на своей невиновности. Впрочем, лишённая сколько-нибудь серьёзных аргументов, лебединая песня профессионального лжеца звучала сбивчиво и неубедительно (59). Последние надежды эсеров на то, что всё это, в конце концов, окажется ошибкой, разбились в прах. И тем не менее, они {147} вновь — впоследствии они назвали это «коллективным гипнозом» — оказались не способны сделать решительный шаг. Революционеры дали Азефу ещё один срок — до 12 часов следующего дня — чтобы обдумать их предложение. Меньше всего они хотели лишить своего бывшего товарища последней возможности оправдать себя, хотя к тому времени сомнений на его счёт у них уже не осталось. Азеф поспешил по-своему воспользоваться предоставленной ему возможностью; похоже, он почувствовал, что эсеры колеблются, и это придало ему уверенности. Как только визитеры удалились, Азеф вышел из квартиры и скрылся (60).
Долгие годы оставалось загадкой, почему Лопухин, выходец из древнего дворянского рода (к которому, например, принадлежала Евдокия Лопухина — первая жена Петра I), бывший член правительства и богатый человек, согласился сотрудничать сначала с политическим преступником Бурцевым, имевшим за плечами тюремный срок, а затем с лидерами антиправительственной, террористический партии эсеров. Бурцев считал (и это мнение стало общепринятым), что Лопухин помог эсерам разоблачить Азефа, прежде всего, чтобы предотвратить случаи провокации в будущем, а также потому что чувствовал себя уязвлённым предательством своего агента, который за его спиной строил заговоры вместе с террористами и тем самым способствовал краху его карьеры. Это объяснение, однако, не выдерживает серьёзного анализа.
Доверие к рассказу Бурцева подрывает, прежде всего, тот факт, что самая его встреча с Лопухиным едва ли была случайной. Действительно, несколько раз, рискуя показаться непоследовательным, Бурцев даёт понять, что, зная о маршруте поездки Лопухина заранее из своих петербургских источников, он специально поджидал бывшего директора Департамента полиции в Кёльне в течение нескольких дней. Шесть долгих часов затем Лопухин был вынужден выслушивать своего незваного попутчика, который твердо был намерен не отстать от него до тех пор, пока не получит необходимую информацию об Азефе (61).
Вряд ли можно сомневаться, что «встреча в поезде была Бурцевым заранее подготовлена», хотя ей был придан характер неожиданной (62).
Многие черты характера и аспекты политической биографии Лопухина говорили о том, что этот сорокачетырёхлетний бывший {148} высокопоставленный чиновник далеко не был идеалистом, готовым искоренять зло провокации даже путём сотрудничества с революционерами — за что ему, несомненно, грозило серьёзное наказание от российских властей (63). Как директор Департамента полиции, он полностью поддерживал тактику Зубатова по вербовке шпионов из числа членов революционных организаций и, что бы он потом ни говорил, в своё время вполне одобрял «самые возмутительные методы провокации» (64). Более того, именно Лопухину Плеве поручил внедрить Азефа в самый центр ПСР, поэтому он не мог не знать о той активной роли, которую последний играл в партии (65). По всей видимости, Лопухин знал и о том, что Азеф сообщает полиции далеко не всю информацию, доступную ему благодаря его партийному статусу (66).
Только много позже Лопухин вдруг неожиданно вспомнил о «честности» и решил продемонстрировать твёрдость принципов в этом вопросе (67). Но даже если предположить, что он действительно искренне раскаялся и пожелал искупить свои прошлые ошибки (которые он так внезапно осознал), покончив с провокационной деятельностью своего бывшего сотрудника, остаётся неясным, почему он прибег для этого к помощи революционеров (68). Даже после отставки у него оставалось достаточно контактов в высших сферах царской администрации, чтобы возбудить официальное расследование по делу Азефа.
При этом правительственное расследование лично для Лопухина было бы более выгодно. Оно помогло бы обнаружить злоупотребления ряда лиц в царской администрации 1908 г., тремя годами раньше приложивших руку к его отставке. Тогда, в разгар революции 1905 г., царь выразил недовольство работой Департамента полиции, которая, по мнению ряда государственных деятелей (особенно Герасимова), превратилось в «карикатуру» на тайную полицию. Лопухину не оставалось ничего другого, как подать в отставку. В результате он оказался единственным директором Департамента полиции, который не сохранил после отставки своего жалованья и не получил места сенатора.
Во время драматических событий 1905 г. у Лопухина также произошёл конфликт с генерал-губернатором Петербурга Дмитрием Треповым. Узнав об убийстве эсерами великого князя Сергея Александровича, {149} Трепов публично назвал Лопухина убийцей, посчитав его лично ответственным за смерть члена царской семьи, случившейся по причине недостаточной полицейской бдительности. Лопухин всегда помнил это оскорбление. Презрение и враждебность питал он и к Петру Рачковскому, поэтому вскрытие факта участия Рачковского в скандале с двойным агентом не могло не принести ему известного удовлетворения — как, впрочем, и проблемы, возникшие бы в этом случае у Герасимова и премьер-министра Столыпина: последний, знавший Лопухина со школьной скамьи, весьма критически отзывался о его административных талантах (69).
Возможно, у нас было бы больше оснований рассуждать о мотивах действий Лопухина, если бы нам удалось установить, прежде всего, почему он согласился на свой первый разговор с Бурцевым в поезде. Многое в этой истории до сих пор остается тёмным и загадочным, начиная с точной даты события.
Сам Бурцев был весьма непоследователен в этом вопросе и в разных описаниях называл разные числа, от декабря 1904 г. до сентября 1908 г. (70). Однажды он поведал нечто, что не повторял потом больше никогда и нигде, а именно, что Лопухин согласился раскрыть имя шпиона не из душевной щедрости, а в результате шантажа. Бурцев якобы всю дорогу угрожал ему в противном случае опубликовать в своём журнале «Былое» некие компрометирующие бывшего директора Департамента, полиции документы (71). Это заявление Бурцева, сделанное им в присутствии нескольких эсеров, значимо в двух отношениях: во-первых, оно делает неуместными все последующие ссылки на добровольный союз Бурцева и Лопухина в этом деле, а во-вторых, впервые намекает на то, что для получения информации от Лопухина были использованы незаконные методы. В этом смысле важное значение приобретают факты, выпавшие из сферы внимания всех последующих исследователей поведения Лопухина, но оказывающиеся незаменимыми для понимания его истинных движущих мотивов.
В своих неопубликованных воспоминаниях А. С. Лопухин, двоюродный брат Алексея Лопухина, приводит разговор, состоявшийся между двумя родственниками по поводу выдачи бывшим главой полицейского ведомства своего агента Азефа революционерам. Согласно этим мемуарам, Алексей Лопухин, находясь за границей, получил извещение о том, что его дочь была похищена в Лондоне. Он {150} немедленно выехал в Англию и по дороге, в поезде, встретил Бурцева, который предложил ему сделку: имя полицейского агента в ЦК ПСР в обмен на освобождение девушки. Лопухин выдал Азефа и днём позже забрал дочь из лондонского отеля, куда её доставили целой и невредимой (72).
Легко понять, что автор воспоминаний не очень сведущ в деталях и хронологии событий. Однако эта история находит подтверждение в полицейских документах. Так, 27 октября 1907 г. Департамент полиции в Петербурге направил своим представителям за рубежом шифротелеграмму, в которой сообщил о том, что дочь действительного статского советника А. А. Лопухина Варвара, восемнадцати лет от роду, пропала, когда в сопровождении своей английской гувернантки Маргариты Ивановны Россель (или Руссель) выходила из театра (73). Директор Департамента полиции М. И. Трусевич лично связался со своим британским коллегой сэром Генри, прося его о помощи в организации срочного расследования (74). История эта даже попала в английские газеты, произведя мимолетную сенсацию (75). Как рассказывала потом журналистам гувернантка, в толпе выходивших из театра людей несколько неизвестных оттеснили её от дочери Лопухина и втолкнули девушку в поджидавший их экипаж. Затем похитители отвезли Варвару в укромное место, где и продержали, не причинив никакого вреда, несколько дней, пока она не получила разрешения вернуться к отцу. Лопухин прибыл в Лондон всего за шесть часов до этого, очевидно, с единственной целью освобождения дочери (76).
Таким образом, факт похищения Варвары Лопухиной не вызывает сомнения, однако, кто стоял за ним, до сих пор остаётся загадкой.
Поскольку это вряд ли было делом рук руководителей ПСР, логично было бы предположить, что похищение совершили какие-то независимые террористы из окружения Бурцева — особенно, если учесть, что Бурцев сам приветствовал террористические методы и ещё в 1903 г. рекомендовал использовать захват заложников как средство достижения революционных целей (77). В пользу этого предположения говорит тот факт (нашедший отражение в полицейском источнике), что в 1907 г. Бурцев и ряд его сторонников, в том числе Юделевский, Краков и Крюгер, создали тайную «Народовольческую группу» с целью организации «грандиозного террористического акта» (78).
{151} Похитителями Варвары Лопухиной могли быть также другие, менее известные революционеры, например, члены «Парижской группы», первыми в эсеровских кругах заговорившие о необходимости разоблачить тайного агента в ПСР (79). Для этой цели они были готовы использовать любые средства, среди которых похищение и принуждение были явно не самыми предосудительными, с точки зрения революционной этики и партийной дисциплины. Как вспоминал Бурцев, кое-кто из эсеров даже предлагал ему не тратить попусту время на убеждение революционного суда, а просто убить Азефа и тем самым положить конец этому делу (80)... »
Вопреки маловероятному утверждению Бурцева о каких-то личных отношениях, связывавших будто бы его с отставным директором Департамента полиции, выходит, что Лопухин согласился открыть известному революционеру имя Азефа только под давлением обстоятельств, касающихся его дочери. И эта информация была, скорее всего, не последним аргументом в цепи доказательств, с помощью которых Бурцев намеревался изобличить агента-провокатора, а первым и единственным достоверным фактом, придававшим смысл всем его предположениям. Именно разговор с Лопухиным послужил Бурцеву толчком для начала полномасштабного расследования (81). Косвенным подтверждением тому может считаться факт, что к моменту «разговора в поезде» все обвинения, выдвигаемые Бурцевым против Азефа, не имели под собой никаких оснований. Он явно не мог предоставить Лопухину каких-либо документальных или просто даже конкретных доказательств, подтверждающих двойную игру Азефа или его участие в террористических актах (82).
Бывший руководитель полиции вряд ли поверил бы голословным утверждениям, да ещё сделанным человеком, о котором из предыдущих встреч он вынес впечатление как о мечущемся энтузиасте, называющем себя убежденным народовольцем (83). Не менее важным является тот факт, что свой поход против Азефа Бурцев начал только в самом начале 1908 г. (84), а значит, только к этому времени он получил первые сколько-нибудь серьёзные улики против предателя — возможно, в конце октября или начале ноября 1907 г. (ldn-knigi, так в книге! ), когда и произошла его встреча с Лопухиным. (ldn-knigi, «1907» - наверно опечатка?! На основании данных, см. книги В. М. Чернов, В. Бурцев, А. И. Спиридович (84) - суд над Бурцевым начался не раньше начала октября 1908 г., разговор в поезде (Бурцев-Лопухин) мог состоятся не позже сентября 1908 г., по данным В. Бурцева - в начале сентября 1908 г., А. И. Спиридович – «осенью 1908 г. »)
Как нам уже известно, однако, признание Лопухина не означало полного и окончательного разоблачения Азефа в глазах эсеров.
{152}
Поскольку бывший глава полицейского ведомства не предоставил Бурцеву ни одного документа или какого-либо иного свидетельства, однозначно подтверждающего связь Азефа с полицией, революционеры имели все основания подозревать в его словах полицейскую интригу, направленную против Азефа и ПСР (85). Следовательно, и после встречи с Лопухиным у Бурцева всё ещё не было «железного» аргумента против Азефа, поэтому в последующие месяцы он сделал всё возможное, чтобы выстроить систему доказательств вины Азефа.
Можно только догадываться о том, почему Лопухин решил не
ограничиваться беседой с Бурцевым и вступить в сотрудничество
с эсеровскими лидерами с целью разоблачения Азефа, хотя в добро-
вольность такого сотрудничества, как и в бескорыстную искрен-
ность Лопухина верится с трудом (86). С самого начала Лопухин
предпочитал оставаться в тени и не афишировать результаты своего
разговора с Бурцевым (а затем с Аргуновым). Если бы бывший
полицейский начальник хотел перейти на сторону революционеров
или жаждал публичного скандала от разоблачения им агента-прово-
катора, он вёл бы себя, очевидно, по-другому. Кроме того, Лопухин
явно не спешил поделиться с Бурцевым или эсерами другими секре-
тами того мира, к которому он принадлежал до отставки; помимо
личности шпиона он не раскрыл революционерам ничего (87).
А судя по тому, что свои контакты с эсерами в Петербурге он объяс-
нял «давлением фатальной необходимости» (88), он не слишком-то
стремился к продолжению этих контактов. Наконец, в разговоре
с Герасимовым в Петербурге Лопухин, хотя и предупредил шефа
охранки, что не станет покрывать Азефа, если революционеры при-
грозят ему оружием, но пообещал, что перед революционным судом
он не предстанет ни за что, «вне всякого сомнения» (89).
Однако именно это он и сделал 10 (23) декабря 1908 г. в Лондоне, практически не надеясь на то, что эсеры захотят сохранить эту встречу в тайне, если другие члены партии потребует от них открыть источник информации об Азефе (90). Он был также абсолютно уверен, что по возвращении в Петербург ему придётся отвечать перед законом за пособничество государственным преступникам (91). Согласно полицейскому источнику, ЦК партии эсеров предпринял меры к тому, чтобы обеспечить дальнейшее сотрудничество с Лопухиным (92). {153} Эсеры даже не считали нужным скрывать свою решимость любым способом добиться от Лопухина содействия (93), которое сам он весьма туманно оправдывал тогда «обычным человеческим здравым смыслом» (94).
После того как он проявил слабость перед террористами и выдал государственные секреты, Лопухин оказался уязвимым перед принуждением и, возможно, даже шантажом со стороны революционеров. Он пытался, как мог, противостоять давлению, например, когда отклонил предложение Аргунова пригласить Азефа якобы для беседы и, позволив свидетелям из числа революционеров спрятаться в соседней комнате, уличить его в предательстве (95). Однако в целом эсеры могли быть относительно спокойны насчёт поведения Лопухина, который, по их выражению, был «у них в руках» (96).
Несмотря на предупреждения Азефа, сделанные им во время разговора с Лопухиным 11 ноября 1908 г., что эсеры не колеблясь прибегнут к силе, чтобы добиться от него нужного им заявления (97), Лопухин всё ещё надеялся избежать явки на революционный суд. Поэтому он согласился предоставить эсерам документ, который можно было предъявить публике в качестве решающего доказательства вины Азефа. Таким документом стала заверенная копия письма Лопухина Столыпину от 21 ноября 1908 г. (день посещения его Герасимовым); аналогичные копии получили товарищ министра внутренних дел А. А. Макаров и директор Департамента полиции М. И. Трусевич. В этом письме Лопухин описал оба визита — Азефа и Герасимова — в его квартиру и, протестуя против вторжения в его личную жизнь, просил оградить его впредь от подобных посещений (98).
Скорее всего, и это письмо было написано Лопухиным не добровольно, а с подсказки или даже под прямым нажимом со стороны эсеров. После того как был дан старт «делу Азефа», в русской и зарубежной прессе ходили упорные слухи, что в ноябре 1908 г. трое известных социалистов-революционеров «вторглись в квартиру Лопухина, приставили к его груди револьвер и потребовали письменного, ясного и обстоятельного ответа на вопрос, был ли Азеф агентом царской тайной полиции. Лопухин против воли предоставил требуемое объяснение» (99). Подобные журналистские предположения, конечно, были лишены сколько-нибудь серьёзных доказательств, но, как известно, дыма без огня не бывает.
{154}
Прежде всего, вне всякого сомнения, Лопухин сообщил революционерам о содержании письма до того, как отправить его адресатам. Впоследствии он признавал, что показал письмо двум доверенным лицам, чьи имена он отказался открыть, однако не секрет, что «Аргунов читал письмо в подлиннике» сразу после его написания (скорее всего, во время второй встречи с Лопухиным 23 ноября) (100). Следует также отметить, что хотя письмо и было написано 21 ноября 1908 г., отправлено адресатам оно было 24 ноября, через день после отъезда Лопухина в Москву. Перед отъездом Лопухин передал письма в незапечатанных конвертах Аргунову, а доставила их, по всей видимости, Вера Гоц, вдова Михаила Гоца, прибывшая в Петербург отчасти в связи с делом Азефа (101).
В самом начале письма Лопухин открыто заявлял, что знал полицейского агента Азефа в 1902-1905 гг. Как бывший полицейский, он не мог не понимать, что сообщение в письме столь конфиденциальных сведений должно сопровождаться определёнными мерами предосторожности, которые он нарочито проигнорировал. В пользу того, что письмо Лопухина было ему именно продиктовано, говорит и слишком формальный тон письма, позволяющий предположить, что оригинал был рассчитан на более широкую аудиторию, нежели бывший одноклассник, с которым Лопухин был всегда на ты (102).
Судя по некоторым признакам, на решение Лопухина сотрудничать с революционерами могла в определённой степени повлиять его жена, Екатерина Дмитриевна Лопухина (урожденная княжна Урусова). Согласно эсеровскому источнику, мадам Лопухина, движимая «моральными соображениями», угрожала сама поехать за границу и свидетельствовать против Азефа перед революционным судом, если её муж откажется сотрудничать с эсерами (103).
В письме Лопухину от 7 января 1909 г. Бурцев счел необходимым принести отставному начальнику полиции свои извинения за те неудобства, которые он ему причинил, сделав их отношения публичным достоянием, а также выражал искреннюю признательность не только Лопухину лично, но и его жене (104). Конечно, совершенно невероятно, что Екатерина Лопухина настолько желала изобличить преступные деяния царской администрации, что готова была сделать это, даже ценой тюремного заключения своего мужа. Скорее всего, напуганная случаем с похищением дочери, она просто упросила мужа уступить революционерам.
{155}
Вопреки надеждам Лопухина, его уступка революционерам в виде предоставления центральному комитету ПСР копии его письма трем высшим чинам в Министерстве внутренних дел не избавила его от необходимости лично предстать перед судом революционеров в Лондоне. Неизвестно, как именно эсерам удалось добиться согласия Лопухина на очное интервью, но очевидно, что это не было так просто, как они потом утверждали: «Бурцев написал ему письмо с просьбой приехать для этого допроса за границу» (105). Аргунов сообщал, что ещё в Петербурге Лопухин дал согласие встретиться с ним и Савинковым в Лондоне, и, поскольку в этой поездке в декабре 1908 г. его сопровождала жена, можно предположить, что она вновь повлияла на его решение ещё раз вступить в контакт с революционерами (106).
Тот факт, что эсеры силой принудили Лопухина дать им показания, развенчивает один из главных мифов, связанных с «делом Азефа», — утверждение Бурцева о том, что Лопухин якобы помог изобличить шпиона из альтруистической любви к истине. Угрозы, которым подверглась семья Лопухина, превращают его из добровольного союзника революционеров в их жертву. Как бы то ни было, письмо Лопухина Столыпину вскоре появилось на первых полосах ведущих европейских газет, произведя сенсацию. Это единственное письменное свидетельство против Азефа положило начало грандиозному политическому скандалу, в котором оказались замешены высшие представители царской администрации и, в первую очередь, премьер-министр (107).
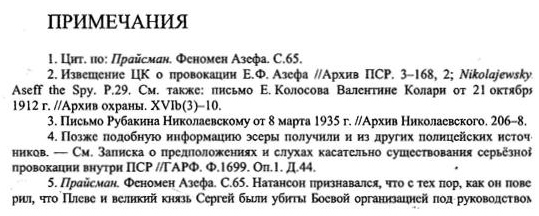
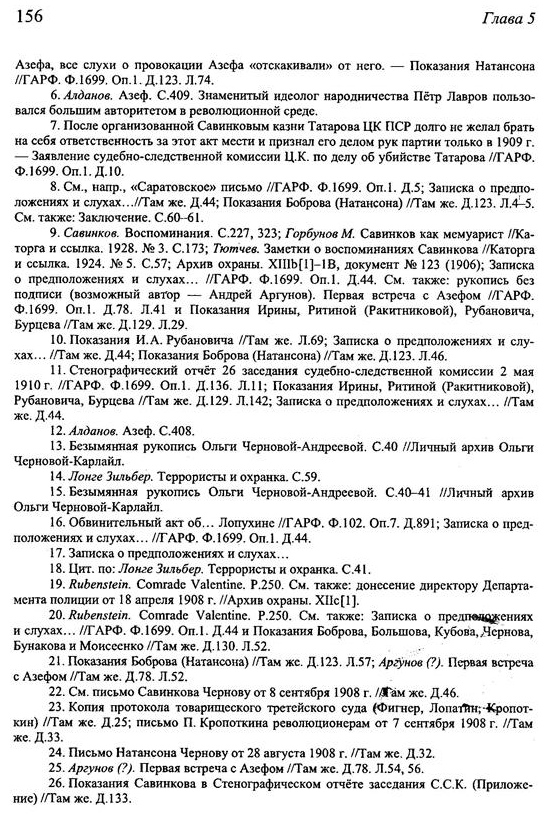
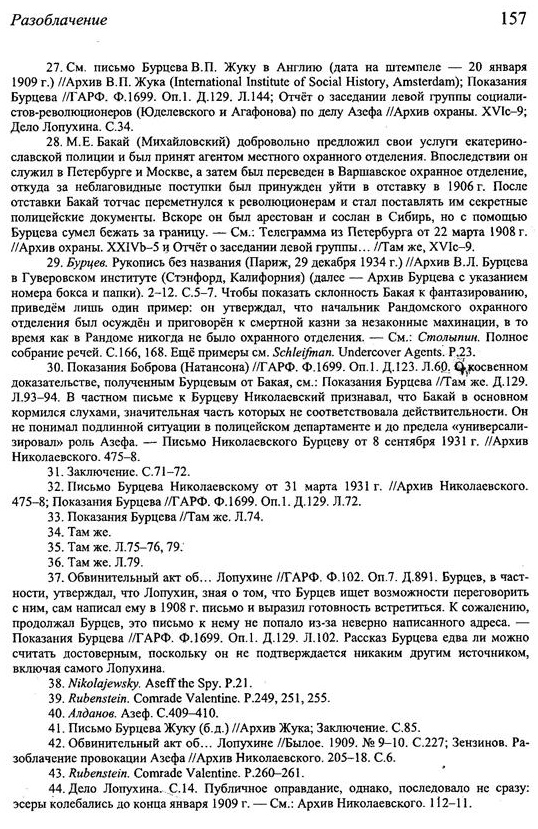
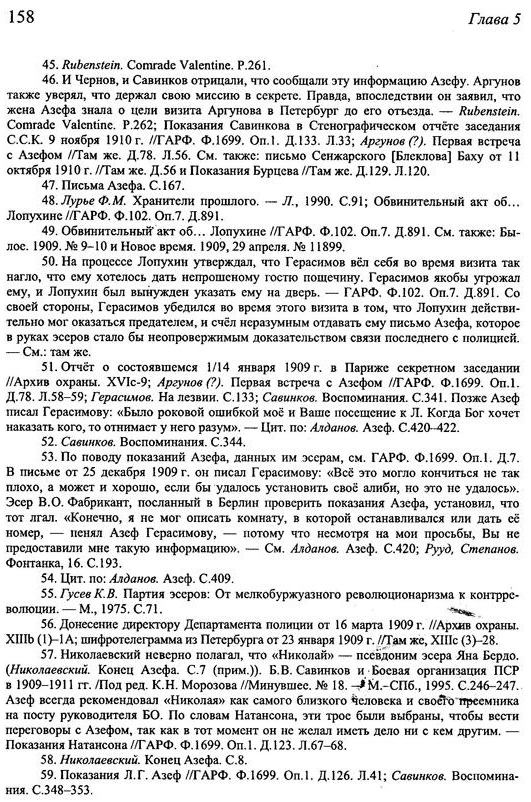
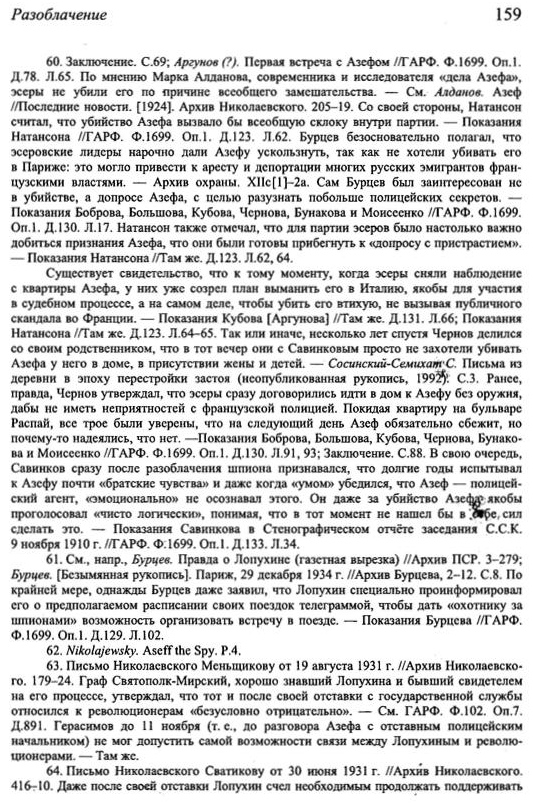
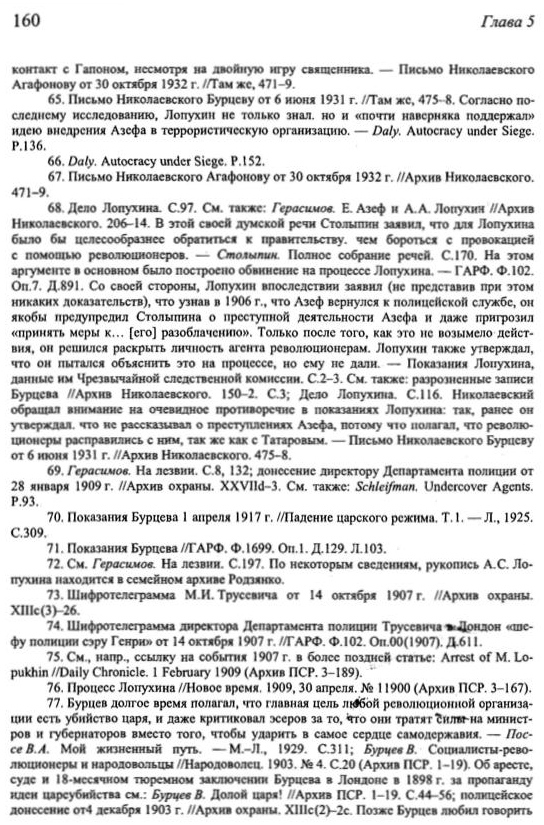
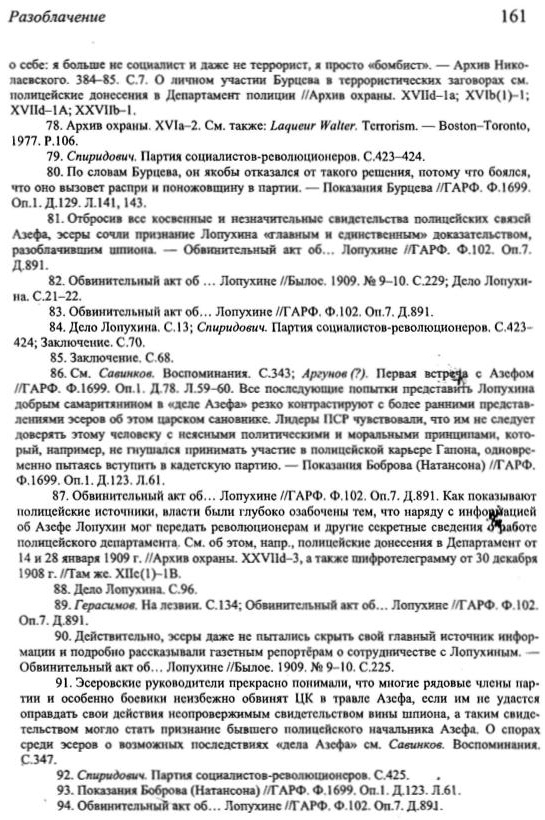
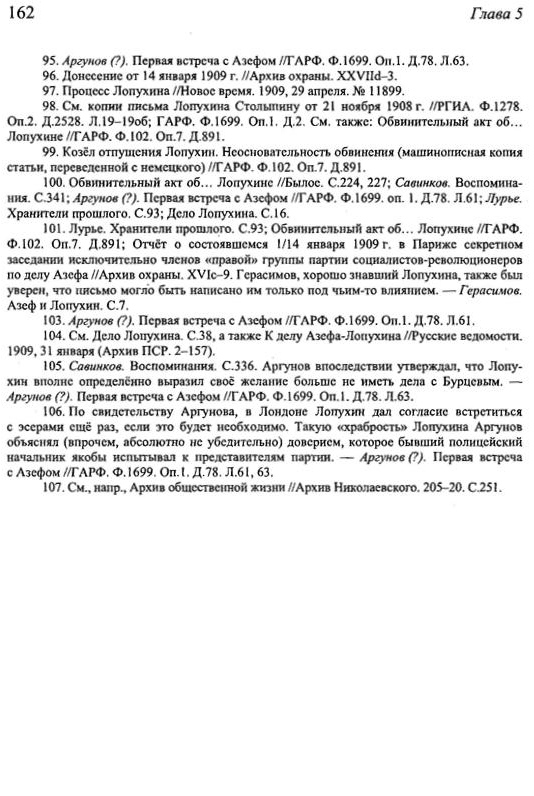
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|