
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Наталия Михайловна Терентьева. Похожая на человека и удивительная. Наталия Терентьева. Похожая на человека и удивительная
Наталия Михайловна Терентьева
Похожая на человека и удивительная
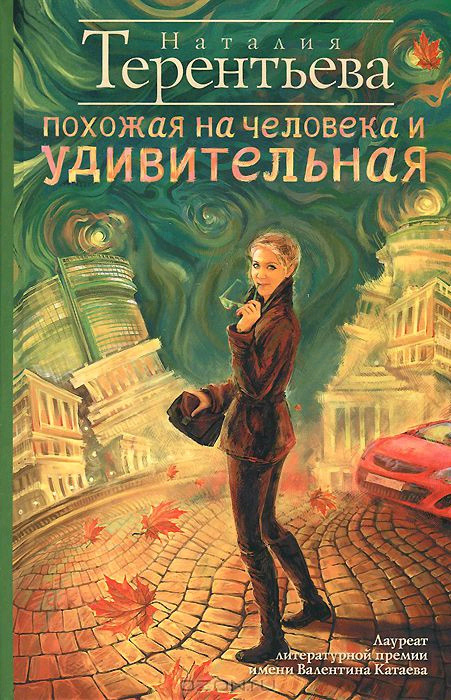
Наталия Терентьева
Похожая на человека и удивительная
Моей маме, с бесконечной любовью, посвящается
Глава 1
«Тот, кто надзирает над этим миром на высшем небе,
Только он знает. А может быть, и он не знает? »
Ригведа. «Гимн о сотворении мира»
Это случилось внезапно. И я точно знаю, когда это произошло. Мне ничего не остается, как верить в это и жить с этим, потому что иначе не получается.
Я пытаюсь восстановить события того утра. Точнее, не события, а ощущения, поскольку я лежала неподвижно, с ногой, привязанной на растяжке.
В ту ночь мне приснился папа. Папа пропал без вести десять лет назад и, как и положено покойникам, снился мне ночами, когда шел дождь и мокрый снег. Но в ту ночь не было ни дождя, ни снега. Ночь была прохладная и сухая, обычная апрельская ночь. Папа в моем сне звал меня поехать на море, а я объясняла: «Да как же я поеду, ты же знаешь, если я сяду в самолет, он обязательно разобьется! А там, кроме меня, будет еще много людей…»
Проснувшись, я первым делом посмотрела в окно. Да нет, никаких признаков плохой погоды. Думать, почему должен разбиться самолет, в котором именно я полечу, я не стала. В палату вошел Константин Игоревич, мой лечащий врач.
И еще до того, как он, тяжело вздохнув, собрался спросить меня, как дела, я поняла, что у него очень сильная изжога. Она мучила его ночью, мучает и сейчас. Изжога у него бывает всегда, когда он ест тяжелые, толстые котлеты, которые жарит его теща, теперь уже бывшая. Но вчера он навещал сына и съел вместе с ним котлету. И теперь ему нехорошо и тошно, тянет желудок, печёт пищевод, и вдобавок остро, резко дергает печень. Все это за секунду пронеслось у меня в голове, одной, очень понятной и простой картинкой.
– Откройте, – кивнула я на бутылку «Ессентуков», стоявшую у меня на столике у кровати. – С пузырьками гораздо лучше, врачи просто не понимают. Сразу все пройдет.
– А… – начал было Константин Игоревич и осекся.
Секунду помедлив, он подошел к моему столику, открыл бутылку минеральной воды и с удовольствием выпил сразу полбутылки.
– Сейчас будет лучше, – сказала я. – Больше их не ешьте.
Константин Игоревич стоял передо мной. В одной руке у него была бутылка, в другой – металлическая крышечка. От растерянности врач замер с поднятыми руками. Потом не глядя поставил бутылку на столик, на самый край, чуть не уронив ее, пытаясь приспособить как‑ то на место крышечку, и стал отступать к выходу, бормоча:
– Ага, ну вот… Сейчас мы только… Прекрасненько…
Я подумала, что, если он вернется с психиатром, ничего удивительного не будет. Но он просто в тот день ко мне больше не зашел. Зато зашла медсестра Зоя Павловна.
Обдав меня довольно крепким запахом рижских духов (где она только их сейчас покупает? ), Зоя Павловна решительно прикрепила мне тонометр и спросила:
– Как спалось?
– Нормально, – ответила я, понимая, что хуже, чем сегодня рано утром поступил с Зоей Павловной ее любовник, молодой татарин Рафаэль, поступить с женщиной просто нельзя. Конечно, она же христианка, для него – неверная, с которой можно делать все, что угодно, ни бог, ни люди не осудят. Вспоминать это невозможно, а забыть просто нельзя. Вот и как теперь жить, ощущая себя… Да нет! И слов‑ то таких нету! И никто не поймет, как ей тошно смотреть теперь на мужчин! И на женщин, с которыми так не поступали, как с ней…
Мне захотелось сказать Зое Павловне что‑ нибудь хорошее, несмотря на то что она туго перетянула мне ноющую после аварии руку и, померив давление, резко сдернула рукав тонометра.
– Зоечка Пална, а вы в восьмидесятом году, когда в Москве была Олимпиада, еще в школе учились? – спросила я невзначай.
– Я? – оторопела Зоя Павловна. – Нет… То есть… А что? – тут же подобралась она, подозрительно глядя на меня.
– Ничего… Просто… Думаю, может, мы в одной школе учились, вы похожи на одну девочку, на год старше меня была. Зойка… Красивая, гордая такая…
Зоя Павловна коротко засмеялась. Плечи расправила, но всё же спросила потом:
– Что? Попросить чего‑ нибудь хочешь? Принести тебе чего‑ нибудь? Купить коньячка? Или окошко открыть, покурить хочешь?
– Да я не курю вообще‑ то, – вздохнула я.
– Вот и не кури, – Зоя Павловна похлопала меня по здоровой ноге. – Школу я на десять лет раньше тебя закончила. А если что надо, так и скажи.
Она одним движением сгребла скомканные салфетки с моего столика и пошла к выходу.
Сама не знаю, почему я взяла и сказала ей вслед:
– Я думаю, лучше быть одной, чем такое терпеть…
Зоя Павловна вздрогнула и обернулась:
– Что?
Я закрыла глаза, понимая, что лучше мне сейчас больше ничего не говорить.
Глава 2
Утро было тихое и прозрачное. Нормальное апрельское утро, каким оно, наверно, и должно быть. Таких дней в апреле наберешь – раз, два и обчелся, – когда весна кажется весной, а не муторно и бесконечно тянущимся, промозглым ноябрем, имеющим право на среднерусской равнине длиться полгода.
Откуда я, собственно, знаю, что такое нормально? Почему‑ то мне кажется, что в моем детстве все было по‑ другому. По‑ другому шло время, и весны хватало, чтобы вдоволь надышаться прелым снегом, насмотреться на пронзительное синее небо с резкими силуэтами черных веток на нем, готовых взорваться новой жизнью…
Я осторожно нажала ногой, с которой только что сняли гипс, на педаль. Нормальная моя нога. И ничего, что маленький кусочек моего сустава сделан теперь из какого‑ то металла с гибкой пластиковой скобой. Металлопласт, иными словами. Как немецкие трубы «Рехау» в моей новой квартире. Новая квартира, новая нога… Что еще приготовила мне жизнь в этом году, так хорошо, весело начавшемся и вдруг резко затормозившем вместе с моей машиной, потерявшей равновесие на небольшом сугробе во дворе и плюхнувшейся на собственный бок? Плюхнувшейся тяжело, всей своей двухтонной массой, и замершей в неудобной, странной позе?
Я помню все отлично. Как сидела, точнее, лежала на правом боку и не могла понять, где же земля – где верх, а где низ. Куда смотреть и откуда вылезать. Потом резко потянуло ногу, и во рту стало горячо и липко, и сильно запахло кровью. И почему‑ то больше я ничего не помню. Врач позже сказал, что из‑ за болевого шока я потеряла сознание, но я‑ то никакой сильной боли не помню – только металлический вкус во рту и странную, перевернутую картинку перед собой. И еще морду какой‑ то рыжей собаки, которая, прижавшись носом, смотрела на меня сквозь треснувшее мелкими брызгами стекло…
Дома меня ждал засохший цветок, моя любимая строманта, «молельщица», с красными полосатыми листьями, поднимающая и опускающая свои тонкие стебли каждое утро и вечер. Она выпила всю воду из поддона, стояла‑ стояла с поднятыми вверх листьями, словно моля меня хоть о капельке воды, и не выдержала. Я аккуратно обре´ зала все засохшие листья, кроме одного, в котором, мне показалось, еще теплилась жизнь. И загадала – если выживет строманта, то и я поправлюсь окончательно. Буду играть в теннис, висеть вниз головой на тренажере, который недавно купила, и ходить в пешие походы по карельским каменным разломам, фотографируя древние наскальные рисунки прямо у себя под ногами, – по крайней мере, так до аварии я планировала провести будущий отпуск. Я включила побольше света и телевизор, чтобы ощутить себя дома. Дома – в новом доме, к которому я еще не привыкла. Переехав, прожила две недели и попала в больницу почти на два месяца.
Диктор, молодая хорошенькая журналистка, рассказывала о том, что на Дальнем Востоке в каком‑ то поселке нет света вот уже восемь дней. А я смотрела на нее и понимала, что журналистка еле сдерживает слезы. Сегодня утром ей сказали, что у нее никогда не будет детей.
Я понимала ее, мне когда‑ то тоже такое сказали, правда, с оговорками, что дети могут быть не только рожденные тобой. Ведь столько брошенных или осиротевших детей, которым нужна забота и любовь. Но я так и не пришла ни за одним из них в приют. Даже не пыталась. И этой журналистке тоже кажется, что страшнее горя, что она не сможет никогда сама родить, – нет. Почему вот только я это знаю? Не рано ли я вышла из больницы? Не нужно ли мне было сказать о своих странных ощущениях после аварии лечащему врачу и попросить консультацию хотя бы психолога, если не психиатра?
Я решила для спокойствия проверить как‑ то свои ощущения, а пока не паниковать. В конце концов, у меня была какая‑ то двоюродная прабабка или даже родная, которая видела и слышала то, что другим не было слышно и видно. Ворожила, лечила… Может, у меня проклюнулись ее гены? Только я никак использовать это не собираюсь. Оно и рассосется наверняка, если не обращать на это внимание.
Просмотрев подряд новости по всем каналам и кое‑ что еще поняв про журналистов и ведущих программ, с некоторыми из которых я была и так знакома, но не знала подробностей их жизни, я позвонила своей маме.
По первому звуку ее голоса я уже знала, что результаты маминых последних анализов хорошие, что ее сын Валерик, мой сводный брат, вчера приводил очень милую девушку, показывал ее маме, чтобы та, наконец, одобрила его избранницу, что маме хочется именно об этом со мной поговорить, а вовсе не о моей сломанной и сросшейся ноге.
– Она действительно будет его слушаться или только пока такая покладистая? – с ходу спросила я маму.
– Вот и я думаю, может, просто притворяется пока… – подхватила мама и тут же осеклась. – Кто? Ты откуда знаешь? Тебе звонил Валерик?
– Нет, мам… То есть… Ну да, почти. Неважно. Ты лучше скажи, тебе, наконец, можно чай пить с сахаром и конфетками, правда? Анализы хорошие, я очень рада. И фрукты сладкие можно есть. Я к тебе приеду сегодня, хорошо?
– Хорошо… – растерянно ответила мама. – Нет. Не сегодня. Сегодня я в парикмахерскую иду! Давай завтра.
Собственно, я уже выяснила то, что хотела. С мамой я предпочитаю общаться по телефону, чтобы в случае необходимости свернуть разговор и не поссориться по пустякам.
Я выяснила, что со мной после аварии что‑ то не в порядке. Я не привыкла сидеть сложа руки и ждать, пока проблема рассосется сама собой. А если я в который раз думаю о психиатре, это ведь проблема? Я полистала телефонную книжку и набрала номер.
– Можно мне срочно на консультацию к доктору? Я не записана, но он меня примет, я уверена. И даже будет очень рад.
– В одиннадцать тридцать вас устроит? – чуть помедлив, спросила секретарь.
– Вполне, – ответила я, допивая на ходу кофе и одновременно доставая из шкафа чистую блузку. – Уже еду.
Доктор Семирява, дорогой и респектабельный психиатр, был действительно мне знаком. Не знаю, сразу ли он узнает меня. Но я‑ то отлично помнила Костю Семиряву, потому что знала его с детства.
Черненький, симпатичный Костя влюбился в меня, когда я училась в первом классе, а он – в третьем. Костя был из хорошей семьи врачей, и родители отпускали меня к ним смотреть фильм «Семнадцать мгновений весны». У нас еще не было телевизора. И все двенадцать серий я с замиранием сердца провела в скромной квартире Семиряв, перед коричневым полированным телевизором, казавшимся мне просто огромным. Собственно, квартиру Кости я почти не помню, его самого, наверняка сидевшего рядом, тоже. А вот свое волнение от замечательного фильма и величественный, большой телевизор – помню прекрасно.
Костя мне нравился, но не сильно. И как‑ то быстро надоел. Мне стало скучно и даже неприятно от его влюбленного взгляда. И я перестала к ним ходить, тем более что у нас вскоре появился свой телевизор. Видя Костю во дворе, я делала вид, что увлеченно смотрю в другую сторону.
Зачем было идти сейчас именно к нему? Не знаю. Я не раз слышала от знакомых, что он хороший врач, даже как‑ то записала его телефон для брата Валерика, когда он тосковал полгода без видимых причин. И сейчас мне идти к врачу, с мамой которого я время от времени встречаюсь в булочной и здороваюсь, спрашивая о новостях в Костиной жизни, было спокойнее.
Костя меня, конечно, не узнал. Девочки, взрослея, сильно меняются, особенно те, которые так безнадежно нравились. Вряд ли сегодня во мне он увидит ту жестокую соседку, которая вдруг непонятно почему перестала с ним дружить двадцать шесть лет назад.
– Я – Лика. Помнишь, Костя? Мы жили в соседних подъездах. Я специально пришла к тебе. Потому что знаю, что ты хороший врач и отнесёшься ко мне внимательнее, чем кто‑ либо другой. Я права?
Костя удивленно и довольно прохладно посмотрел на меня. Не думаю, что он вспомнил меня и сейчас, но, собственно, какая разница? Мне все равно было спокойнее разговаривать с ним, чем с незнакомым врачом. Я села напротив него и в окрепшем, возмужавшем, на вид сегодня явно хорошо выспавшемся и с аппетитом позавтракавшем человеке увидела маленького мальчика, смущенно взглядывавшего на меня каждый раз, когда мы встречались во дворе.
– Я слушаю… вас, – сказал Костя. И отодвинулся от стола, на котором был включен ноутбук. – Готов выслушать и помочь.
Я посмотрела, как он откатился на большом кресле от стола, и уже все знала. Костя даже не мог предположить, как много я узнала, пробыв рядом с ним полминуты или даже меньше. Выспался‑ то и позавтракал он действительно неплохо. Но сегодня утром жена тяжело всхрапнула в тот самый момент, когда он потянулся к ее теплому, полному, так хорошо знакомому рукам бедру. И этот ее всхрап был совсем некстати. Минуту‑ две он лежал, пытаясь понять, стоит ли продолжать, и, поняв, что не стоит, резко встал.
«Костик? » – спросила жена за его спиной. Он ей не ответил, хотя она вовсе не была ни в чем виновата. И не ответил позже, за завтраком, когда она пыталась о чем‑ то с ним разговаривать. Ерунда, всё полная ерунда, такое бывало и раньше. Но сегодня почему‑ то ему было противно на нее смотреть.
Раздражал след от крохотных трусов, сильно впивавшихся в ее когда‑ то худенькие и трогательные, почти мальчишеские бедра, за годы ставшие квадратными, след, так сильно видневшийся под обтягивающими брюками цвета хаки… Странный цвет для женских брюк… Цвет, придуманный для маскировки солдат в грязной, пыльной траве… Зачем обтягивать такой тканью полные женские ноги, похожие на две тяжелые, мощные колонны?
Раздражали небрежные прядки плохо прокрашенных светлых волос… Неужели нельзя причесаться, перед тем как идти на кухню, готовить завтрак? Заколоть, что ли, как‑ то, убрать эти волосы… Или чаще мыть их, каждый день, например…
Раздражал запах пряных духов, непрозрачный, настойчивый… Духи он сам подарил Рите на день рождения, сам выбирал… Но в магазине они почему‑ то пахли просто ландышем, светлым, свежим и очень милым ландышем…
Может, так пахла молоденькая продавщица, стоявшая рядом и помогавшая ему выбирать духи? Пахла молодостью и желанием нравиться? Простым желанием обнять его, совсем незнакомого мужчину, и отдаться ему просто так, даже не знакомясь, ничего не спрашивая, не требуя, не ожидая продолжения?
Я услышала или увидела, или не ясно как, но поняла все Костины мысли и ощущения. И на всякий случай сказала, просто чтобы убедиться, что я не сошла с ума (или убедиться в обратном, не знаю):
– Духи надо на улице нюхать. На бумажку набрызгать и выйти. А то может оказаться совсем другой запах. Я тоже очень сложно к запахам отношусь. Иногда беру интервью у кого‑ нибудь и с ума схожу, начинаю задавать ужасные вопросы…
Костя молча смотрел на меня, ничего не говоря и не двигаясь. Он перестал крутиться на кресле и постукивать пальцами. Я понимала, что должна ему как‑ то помочь. Себе мне придется помогать самой, это уже очевидно.
– Я поэтому пришла, понимаешь? Что я все про всех теперь знаю.
– Ты ведь Лика, да? – наконец выговорил Костя. – Лика Борга? Или… Ты не меняла фамилию?
– Нет! Я даже замужем толком не была. Все выбирала‑ выбирала, да так и не выбрала. Костя… Я с ума не сошла, не знаешь?
Костя не очень уверенно качал головой, как‑ то странно на меня смотря. Но никогда бы раньше я не поняла смысл этого взгляда! А вот теперь понимаю. Костя увидел, как под тонкой трикотажной кофточкой округло и аппетитно расположилась моя не самая выдающаяся, но и не такая уж скромная грудь. В тесноватом лифчике, на бегу как‑ то схваченном в магазине, она приобретает недостающую до третьего размера тяжесть и объем. А когда я сейчас подняла руки, чтобы подтянуть сзади резинку на хвосте, Костя представил, что неплохо было бы, если бы он подошел сейчас ко мне, ничего не говоря и не объясняя, и я не стала бы ничего спрашивать, просто подалась бы навстречу…
– Да, наверное, было бы неплохо. Но я ведь не затем пришла, – ответила я.
Костя как‑ то странно повернул набок голову, открыл рот, чтобы что‑ то сказать, даже издал какой‑ то звук, но поперхнулся и стал кашлять.
– Вот и я говорю. Непонятно, как жить дальше, правда, Костик? Думала, ты мне как‑ то поможешь.
Я встала и решительно направилась к двери.
Костя, опомнившись, догнал меня уже у самой двери своего кабинета.
– Подожди, Лика! Что‑ то не так… Я… Ты прости меня… Я не сразу тебя узнал и… Расскажи спокойно о своих проблемах.
– Расскажу, конечно, – кивнула я. – Не сегодня. Я долго была в больнице, надо съездить на работу. Я еще приду.
«Досмотрю интересный фильм, – вдруг пронеслась в голове развеселившая меня мысль. – Про Риту, про продавщицу, про себя саму…»
Да, это было похоже на фильм. Только очень быстро идущий. За одну секунду я успевала увидеть и понять то, что на экране пришлось бы показывать минут пять. Как волновался Костя и как сердился, как желанны или отвратительны бывают одни и те же женщины…
Глава 3
Я решила все же заехать вечером к своей маме. После парикмахера она обычно пребывает в благодушном состоянии, красивая, помолодевшая. Меньше будет ревновать меня к отчиму, которого я всю жизнь считаю старичком. Даже когда ему было меньше, чем мне теперь, он казался мне дряхленьким и стареньким. А мама все ревнует и бдительно никогда не оставляет с ним наедине.
На работе меня первым делом остановил заведующий нашей редакцией.
– Борга! Ты выздоровела или просто так зашла?
– Выздоровела, Вячеслав Иванович! – ответила я, тут же с ужасом поняв, что Вячеслав Иванович рассчитывал, что я долго проболею, и взял на мое место свою племянницу. Взял временно, очень надеясь, что она задержится надолго. Может быть, даже займет мое место. И будет на моем месте спокойна и аккуратна. А я стану нервировать какого‑ нибудь другого шефа. – Прямо сейчас приступаю к работе. Уже созвонилась с Веденеевым, помните, мы говорили о нем? Сегодня еду брать у него интервью, он горит желанием рассказать о своих успехах в спорте и в политике…
– Да, но… Может, тебе еще полечиться? Поможем организовать хороший санаторий…
– Пойду на столе порядок наведу, – миролюбиво кивнула я. – Сгоню для начала вашу Верочку!
Вячеслав Иванович только крякнул, решив, что мне рассказали про Верочку сослуживцы. Перечить мне он не стал, зная, как любит меня хозяин всего нашего медиа‑ холдинга, а по‑ русски – нескольких газет, журналов и книжного издательства, объединенных под одним названием «Нооригмы» – странным и не очень благозвучным, но привлекающим внимание своей необычностью и отличающимся на слух от других журнальных изданий. Хотя означает всего лишь навсего – «Новая оригинальная мысль».
Я постепенно привыкала к своему новому состоянию, или ощущению, или новой способности, появившейся у меня после аварии. Я даже попробовала понять, от чего зависит, понимаю ли я вдруг, что происходит в душе у человека, или не понимаю. Сама я не прилагала к этому никаких усилий. Но, войдя в большую комнату, где стоял мой рабочий стол и, кроме меня, всегда сидело не меньше пятнадцати человек, я отчетливо поняла, что у моего соседа напротив, вяловатого Виталика, болит зуб, и весь мир в этой связи кажется неприятным и враждебным.
И что у соседки сбоку, журналистки с большим стажем, увлекшейся в последнее время теософией и религиозной подоплекой всего сущего, потерялась собака, и Лариса Ивановна вчера безуспешно искала ее целый вечер и потом печатала объявления и ночью расклеивала по району. А теперь судорожно хватает трубку телефона, в надежде что кто‑ то позвонит и хотя бы продаст ей ее собственную собаку, любимую и драгоценную Лялюшеньку, пушистую палевую пуделиху, которую Лариса воспитывает с тех пор, как уехал в Финляндию за жилистой и пьющей как мужик финкой единственный сын Васенька…
Я, кажется, поняла. Стоит мне повернуться к человеку, посмотреть на него, желательно в глаза, и я начинала ощущать мир вместе с ним. Хотя… Я даже вздрогнула, как будто меня толкнули в спину, и обернулась. Вот тебе и «в глаза»! Сзади меня сидела очень несчастная Верочка, племянница нашего шефа, и старательно копалась в ящике моего собственного стола, чтобы скрыть слезы.
Плакала она вовсе не оттого, что я пришла сгонять ее со своего законного журналистского места и со своего стола. Плакала она от несправедливых и ужасных слов, которые сказал ей только что по телефону ее друг, которого Верочкины родители упорно называют «женихом», чтобы не очень переживать, что их девятнадцатилетняя дочка живет с женатым мужчиной, снимающим ей квартиру. А друг ни много ни мало предложил ей попробовать что‑ то придумать к сегодняшнему вечеру, приготовить хороший сексуальный сюрприз, потому что обычного, рутинного секса у него и дома хватает в избытке.
Какой «секс»! При чем тут секс! Это у девчонок, у подружек, которые после трех коктейлей в клубе могут для удовольствия переспать с тем, с кем сегодня танцевали, – у них секс! А у Верочки никакой не секс, а любовь! Настоящая любовь! Это большая разница! И она сколько раз уже просила его просто вместе провести вечер, поужинать дома, поговорить, подержаться за руки! Разве не имеет она права просто посидеть рядом с ним, положив ему голову на такое родное плечо, послушать, какие у него проблемы на работе, как не слушаются подрастающие дети… Какой сюрприз она может ему приготовить, кроме своей любви? Например, пригласить подружку, сказал он. Например!.. «Можно и еще что‑ то… Посмотри фильмы какие‑ нибудь, что ты в самом деле!.. » Как он мог! Как? Разве грязные, похотливые дядьки и их подружки с истыканной блестящими колечками плотью в мерзких порнороликах имеют какое‑ то отношение к ней и к нему?
– Ты очень хорошая и милая девочка, – тихо сказала я Верочке, подойдя к ней и наклонившись, так же, как и она, к выдвинутому ящику. – И тебе этот трухлявый пень со своими потными фантазиями совсем не нужен. Ты просто хочешь кого‑ то любить. Поверь мне. Возвращайся домой, пореви недели две. И забудь его, – я положила руку на ее плечо, не давая ей ответить. – Хочешь, поедем вместе со мной на интервью? Я еду к Веденееву. Очень симпатичный персонаж. Я, по крайней мере, на это рассчитываю.
Не слушая, что отвечает Верочка, я выключила свой компьютер, на котором Верочка успела поменять заставку, и решительно взяла ее за плечо.
– Пойдем‑ пойдем. Нечего сидеть и реветь, да еще за моим столом. За моим столом не плачут. За моим столом положено писать жизнеутверждающие репортажи, можно смешные и даже хамские, но только не сопливые. Поняла? Умывайся и выходи, жди меня у машины. Я зайду в бухгалтерию и спущусь.
Я подтолкнула Верочку, ничего не понявшую, но плетущуюся за мной к выходу. И как только дядя ее, Вячеслав Иванович, хотел, чтобы она работала вместо меня? Не говоря уже о том, что она не только не закончила, но даже и не поступила на журфак и вообще никуда не поступила…
– Борга! Лика! – окликнула меня приятельница Таня. – Тебе дозвонились с радио?
– Пока нет, а что?
– Я им мобильный твой дала. Да хотят, похоже, чтобы ты там передачу какую‑ то готовила… Или вела… Я не поняла. Можешь сама позвонить, они оставили телефон.
Я только махнула рукой. Нужно – дозвонятся, это же понятно, из‑ под земли достанут – с радио‑ то! Особенно если хотят, чтобы я вела передачу.
Это было бы неплохо. Я давно думала об этом, даже как‑ то сочинила концепцию авторской передачи, но так ее пока никуда и не пристроила. А тут – сами приглашают. Вряд ли меня, с моими статьями, пригласят вести очень уж глупую передачу, «болтоманию», которых сейчас так много у нас на радио. Плохо выспавшиеся журналисты болтают между собой, особенно не заботясь о мыслях, о словах, а люди, стоящие в пробках, слушают их болтовню. Чтобы не думать, наверно. О том, почему который день поджимает губы жена и не хочет отвечать на вопросы, о том, почему от дочери так подозрительно пахнет табаком и еще чем‑ то, очень знакомым и неприятным, почему… почему… Да невозможно обо всем этом думать! Лучше слушать чужую болтовню, иногда остроумную, чаще скабрезную или неловкую…
Я ошиблась. Именно на такую болтоманию меня и пригласили. Да еще в пару с Геной Лапиком, стареющим, но молодцевато следующим всем колебаниям социальной моды, говорливым и беспринципным журналистом. С Геной я пару раз сталкивалась лоб в лоб на фуршетах и больших журналистских сборищах и сейчас была уверена, что вместе говорить с ним в эфире просто не смогу.
– Боюсь, я с первого раза скажу Гене, что он пустой болтун, недалекий и очень наглый, – ответила я звонившему мне директору передачи, одновременно трогая машину с места и показывая Верочке, чтобы она пристегнулась.
– Так вот и отлично! Мы за этим вас и зовем! За откровенной правдой, которую будет говорить умная женщина! – очень обрадовался директор.
Эту форму передач я тоже знаю: два журналиста собачатся в эфире ни о чем, старательно и ровно по времени – до очередной рекламы или музыкальной заставки, а остальные слушают этот мусор.
– Лика, не отказывайся, приезжай, поговорим.
Директор очень просто перешел со мной на «ты», обычное дело в нашей среде – очень добавляет к ощущению себя плохими мальчиками и девочками, которым разрешили говорить и писать всё, что на ум взбредет. У кого он есть, ум. А у кого нет?
– Хорошо, я заеду, – я взглянула на Верочку, снова приунывшую и доставшую очередную бумажную салфетку из сумки.
И тут же, очевидно вместе с ней, отчетливо увидела гладкую, почти безволосую грудь ее друга, такую приятную, теплую, на ней так хорошо засыпать, так надежно…
– Надежно? – вслух спросила я Верочку, вздрогнувшую и даже икнувшую от моего вопроса. – А что ж тут надежного?
– Не понял, – ответил мне директор передачи. – Я не говорил «надежно». Я говорил – приезжай. Хотя у нас платят четко, не сомневайся. У нас же газовики в тылу, ты в курсе. Все в шоколаде ходим.
– Я возьму с собой одно юное создание, оно может тоже что‑ то сказать в эфире, про женатых мужчин, например, какие они… гм…
– Если ты про меня, то я не женат, опять, – весело ответил мне директор. – Юное создание привози, испортим в момент.
Я коротким гудком прокомментировала лихой и очень глупый поворот с правого ряда налево курившей блондинки в красной машине и похлопала по коленке ревущую Верочку.
– Оставь в покое дверь, она все равно не откроется, выйдешь, когда я скажу. Раз твой дядя посадил тебя на мое место, будешь теперь везде со мной ходить, поняла? Всё лучше, чем бредить о своем… как его зовут? – Я вдруг поняла, что никак не могу понять имя Верочкиного любимого. Что‑ то вертится в голове, а что, я не уловлю. Ёжик какой‑ то. Что за имя? То ли Ёша, то ли Еся…
– Елик, – проговорила Верочка.
Не могу сказать, чтобы она была счастлива говорить со мной о нем.
– Елистрат, что ли?
– Елизар…
Елизар! Я знала одного Елизара, встречалась с ним как‑ то на вечернем сборище. Действительно, гладкий, сладкий, преуспевающий. Не им ли бредит Верочка?
В этот момент Верочка так отчетливо, так зримо услышала голос своего Елика, что мне даже показалось, что она говорит с ним по громкой связи. Вернее, говорит один он. И такие пошлости… Но громкая связь работала не в телефоне, а у меня в голове. Я невольно слушала чужие фривольные мысли и уже знала, что Верочке они доставляют большое удовольствие.
Я только вздохнула. Ну, пусть тогда плачет и ждет – раз есть в ее жизни такое удовольствие, такая, по‑ русски говоря, скоромная радость, о которой стоит плакать.
Глава 4
Слава Веденеев ждал нас, точнее меня, при полном параде. Я даже подумала, что он ждет кого‑ то другого. Но пока раздевалась в большой, ярко освещенной прихожей, успела все понять. Услышать, как важно ему предстать перед всеми неунывающим, нестареющим, вечным чемпионом, многообещающим политиком…
Наверное, трудно быть олимпийским чемпионом. Легче мечтать об этом. Ведь как только ты стал чемпионом, ты автоматически стал бывшим. Тем более, если ты больше не в спорте. На тебя уже не надеются, не делают ставку, в тебя не вкладывают силы и деньги. Ты – лишь воспоминание и некий образ. О тебе могут написать – о тебе вчерашнем. Но разве мы сами себе интересны вчерашние? Какая разница, что я чувствовала и желала вчера? Сегодня я и мечтаю о другом, и ощущаю себя совсем по‑ другому.
– Слава, это Верочка, познакомься. Хорошая девочка, ее дядя хочет, чтобы она стала журналисткой, и дал мне ее в ученицы.
Верочка с любопытством школьницы взглянула на Славу. Вот бы в кого ей влюбиться! Хоть есть за что. Подтянутый, волевой… Правда, тоже женатый.
Слава провел меня в кабинет, не обращая особого внимания на мою юную коллегу. Я кивнула Верочке, рассматривающей кубки, гордо выставленные в подсвеченной изнутри нише, чтобы она не отставала и шла за мной.
– Как ты себя ощущаешь в Думе? – задала я ему вовсе не тот вопрос, который собиралась задать.
Странно. Что же мне записывать? Точнее, стоит ли запоминать мгновенный ответ Славы: «Хреново», или честно дома вставить в интервью то, что Слава ответил вслух и автоматически записал за ним диктофон:
– Ты знаешь, Лика, я и не думал, что будет так интересно заниматься реальными проблемами людей, законотворчеством. Это сложно, но крайне увлекательно…
Я кивнула:
– Хорошо. А почему хреново‑ то?
– То есть как… Я не сказал «хреново», – удивился Слава.
– Не сказал. Извини. Это я так. Обычно все говорят, но просят это не писать. Говорят, что очень хреново. Бессмысленно. Чувствуешь себя обманщиком или идиотом. И только самые глупые чувствуют себя большими начальниками в кабинетах, обитых редкими породами дерева, и радуются.
– У меня еще госпаек хороший, – негромко заметил Слава.
– И я про то же. И в период заседаний устрицы на обед по сорок рублей за тарелку. А все остальные граждане, точнее очень многие, не знают, как дожить до зарплаты. С овсянки на пшенку перебиваются. Ладно. Скажи мне, что ты думаешь о перспективах российского футбола?
– Так я же не футболист, Лика! – удивился Слава. – Я – фигурист. Ты забыла? Ты что!
– Слава, я твой тройной прыжок на чемпионате мира, когда ты упал и потом еще раз прыгнул, не забуду никогда. Я тебя очень уважаю по‑ человечески за это. Но я просто спрашиваю, как ты думаешь, почему теперь наши футболисты проигрывают? А если выигрывают, то с большим скрипом и на ша´ ру. Если кто‑ то из сильных соперников случайно проиграл другим. Это скорее философский вопрос. Из области идей, если хочешь.
– Те, кто играют сейчас, – из потерянного поколения, у которого не было идеи Отечества, я так думаю, – пожал плечами Слава. – Каждый играет за себя, чтобы его заметили и взяли в хороший спортивный клуб – в любой, где платят много денег. А побеждает в результате идея – всегда и везде. Согласна?
Я отчетливо поняла, что он очень хочет, чтобы я спросила его про отношение к богатству и про воспитание сыновей. И, конечно, спросила. Я искренне думаю, что олимпийский чемпион вправе говорить на те темы, которые ему интересны. Уж хотя бы это право он точно заслужил своим многолетним трудом.
Когда Слава рассказал мне все, что хотел, а именно, что роскошь и богатство исторически гораздо более свойственны нашей стране, чем коммуна и всеобщая бедность, а сыновья должны научиться жить сами, без поддержки знаменитого папы, я задала свой любимый вопрос, который часто задаю успешным людям:
– Если бы у тебя была возможность прожить жизнь еще раз, ты бы как ее прожил? Снова стал спортсменом?
– Да, – ответил, не задумываясь, Слава и улыбнулся своей знаменитой улыбкой чемпиона.
«Нет, – услышала я его ответ и даже внимательно посмотрела в глаза, чтобы удостовериться, что мой внутренний слух меня не обманывает. – Нет, разумеется, нет! Порванные мышцы, переломанные колени, травма спины, годы тяжелых тренировок, отказ от нормальной жизни, операции, восстановительное лечение, гормоны, диеты, жесткий режим, не оставляющий выбора…».
– Да, – повторил вслух Слава. – Самое лучшее, что было у меня в жизни, – это победа на Олимпиаде. Я к этому шел всю жизнь.
– Но жизнь продолжается… – не удержалась я и в первый раз взглянула на молчащую позади Верочку. Интересно ли ей? Но она, похоже, ушла в свои мысли и не слушала нас. Вот так начинающая журналистка!
– Продолжается! – подтвердил Слава в образе инициативного заседателя Госдумы. – И мы постараемся…
Для чего ему нужна была моя статья? Для чего‑ то ведь он хотел, чтобы именно я написала. Сам заказал…
Я выключила свой крохотный диктофон, отодвинула его для верности и спросила:
– Все‑ таки кем бы ты стал, Слав, если бы можно было прожить жизнь еще раз?
– А ты? – вдруг спросил меня Слава.
– Я – многодетной мамой. Ну, хотя бы мамой троих детей, или двоих…
– А я – художником, – вздохнул Слава. – Пойдем, я покажу тебе картины, но это не для статьи. И даже помощницу твою не пущу. Фотоаппарат оставь здесь.
Я оставила и фотоаппарат, и мобильный, чтобы Слава не сомневался. Махнула рукой Верочке, чтобы та побыла пока в комнате, а сама пошла вслед за Славой.
Я часто хожу на выставки, и на концептуальные, и на всякие разные биеннале, где от искусства подчас остается только стандартный стенд и унифицированные таблички, а остальное – бред больного разума, тщеславия и уродливых социальных инстинктов. Года два назад вместе с другими посетителями Дома художников на Крымском Валу я видела даже серию экскрементов, каждый в своей коробочке, в отдельной ячейке. Это тоже образ, символ, и у художника не хватило других выразительных средств, чтобы рассказать миру о своей душе и ее переживаниях.
Поэтому на творения Славы я взглянула спокойно, готовая ко всему. Если бы меня предупредили заранее, что Слава – тайный живописец, и на спор спросили бы, что он пишет, я бы проспорила. Потому что такого я предположить не могла. Все что угодно – плохие портреты, среднерусские пейзажи, авангардистские зарисовки без начала и конца, верха и низа…
Но Слава рисовал просто жуков. Зеленых, коричневых, золотых. Олимпийский чемпион рисовал больших красивых жуков подробно, со знанием дела. Жук, увеличенный на картине до размера средней собаки, выглядел устрашающе, но очень выразительно. Тем более что Слава старательно и аккуратно выписывал все детали – сложные изгибы ножек, переливы хрупкого панциря. Особенно удавались ему глаза. Огромные, разноцветные – то темно‑ фиолетовые, то зеленовато‑ желтые, то антрацитово‑ черные – они сейчас смотрели на меня из какого‑ то другого мира, где, оказывается, живет временами депутат Госдумы и олимпийский чемпион Слава Веденеев. В мире огромных жуков.
– Красиво. Твой ночной кошмар? – задала я, думаю, не самый умный вопрос в своей жизни.
– Нет, – спокойно ответил Слава. – Мне просто нравятся жуки. Всегда нравились. Кажутся совершенными. И… и еще они у меня получаются. А другое – не очень получается. Я рыб пробовал рисовать. Но как‑ то не то… Я рыбу изнутри не чувствую. Когда рисую, мне неприятно становится. А когда жука – комфортно.
Да, Слава знал, кому показать. Большой комплимент мне как журналистке. Как бы можно было Славу выставить сейчас клиническим идиотом после такого откровения! Даже без фотографий. Мне бы поверили!
Но кому, как не мне, знать, что у каждого – своя пещера, в которой ему тепло и не страшно жить и куда не надо пускать равнодушную и любопытную толпу. А у кого нет такой пещеры, тому надо много пить, очень много, до чёртиков, чтобы размыть очертания реального пространства и времени, или очень много воровать, так много, чтобы постоянно захватывало дух, как от головокружительной высоты, чтобы каждый следующий шаг мог оказаться последним…
– Можно я сфотографирую одного жука? Просто на телефон, – попросила я, почти уверенная, что Слава из предусмотрительности откажется.
Черт нас знает, журналюг… Сегодня я честная, и это моя слава в нашем мире. А завтра – окажусь на центральном канале телевидения с громкими разоблачениями, расскажу все, что знаю обо всех, – и страшное, и смешное, и позорное…
– Какого? – спросил Слава.
– Вот этого, большого, зеленого. С темными глазами…
Слава чуть помедлил, посмотрел на меня, на картину… И неожиданно снял ее со стены.
– Возьми. Это хороший жук. Я когда его рисовал, у меня после травмы никак колено не сгибалось, я его не чувствовал вообще, и мне казалось, что жук мне помогает. С каждым мазком как будто жизнь в суставе пробуждалась. Бери‑ бери. Только…
– Не беспокойся, Слав. Я про него писать не буду, и фотографию в журнале не помещу, если ты не хочешь.
– Не хочу, – покачал головой Слава. – Напиши лучше, что я думаю ввести закон, по которому в каждом микрорайоне будет бесплатный тренажерный зал. Вот как тротуары пока бесплатные, так и спортивный зал чтобы был. И дополнительная ставка учителя физкультуры в каждой школе. Для факультативных занятий.
– Хорошо, – засмеялась я, прижимая к себе довольно тяжелую картину в добротной, со вкусом подобранной темно‑ золотой раме и физически ощущая, как доволен Слава.
Глава 5
– Мы тебя о‑ очень ждали! – встретил меня на радио с распростертыми объятиями директор передачи Леня Маркелов.
Леня, как многие теле– и радиожурналисты, был человеком абсолютно без возраста, одет, как подросток, в широкие приспущенные джинсы, красную толстовку с капюшоном, на лбу у него красовалась белая полоска с эмблемой их знаменитой радиоволны.
– Давай перекурим и сразу попробуем… Ты как? Морально готова прямо сегодня приступить?
– Морально не готова. Но почему бы и нет? Только я бы выпила кофе и девочку напоила, я с помощницей.
– Ли‑ ика… – Леня с преувеличенным восторгом осмотрел меня с ног до головы. – Да ты же сама такая юная журналистка! Какие тебе помощницы! Они тебя дискредитируют. И голос у тебя, кстати, очень молодой.
– Моложе, чем физиономия?
– У нас на передаче можешь сказать «рожа», не стесняйся.
– Это пусть Генка говорит. Я же с ним буду вместе чушь нести, да? – вздохнула я. – Сколько хотя бы заплатите? И давай тему обговорим, я просто так болтать не буду.
– Даже за большие бабки? – ухмыльнулся Лёня.
А я почувствовала, что он нервничает. Отчего, не поняла, не разобрала… А! Ясно. Боится, что я очень много денег попрошу. А я даже и не готова, не поинтересовалась, сколько сейчас за это платят. Помню, сколько было года три назад, но за это время так все изменилось, такими темпами пошла капитализация, особенно моей дорогой столицы…
Что такое зарплата полторы‑ две тысячи долларов теперь в Москве? Ничего. Не прожить безбедно, не поджимаясь то здесь, то там. Два таджика в месяц получают на хорошей строительной фирме столько, или один русский менеджер среднего звена – в большом магазине, в банке – и при этом считает себя бедным поденщиком. И в общем‑ то он прав – хозяин в среднем в день тратит столько, сколько платит «поденщикам» в месяц.
– А сколько вы хотите мне предложить? – спросила я. Как обычно в разговоре о деньгах чувствуя себя омерзительно.
Ведь в сущности, у меня всё есть. И хоть я и обеспечиваю себя сама, давно и постоянно, торговаться и набивать себе цену я не умею. Может быть, именно оттого, что последний раз я испытывала нужду очень давно, сразу после окончания журфака, когда год или полтора перебивалась случайными заработками и никак не могла отложить хотя бы рубль на черный день. И знала – если завтра мне не заплатят за колонку из пятнадцати строчек, то я не только половинку сливочного полена не смогу купить к чаю, но и сам чай буду заваривать из испитых и высушенных на всякий случай пакетиков.
Я на своей шкуре честно испытала все прелести переходного периода девяностых годов, поскольку была молодым специалистом, которого никуда «не распределили», то есть не нашли за меня работу. Идти было особо некуда – советские газеты и журналы доживали свой век, а новых еще не было. Но это было давно.
Сейчас мне хватает зарплаты и дополнительных заработков, у меня хорошая машина, я купила новую квартиру, продав старую, я сделала приличный ремонт, я регулярно покупаю модную одежду, езжу отдыхать на десять дней два‑ три раза в год… Так что же особо торговаться? Я просто стараюсь сейчас делать только то, что мне интересно, и делать это хорошо и честно.
– «Сколько‑ сколько»… – продолжал ухмыляться Леня.
А я уже услышала, или увидела, или, не знаю как, но поняла сумму, которой он боялся. И я бы такой суммы испугалась. Может очень связать руки… И назвала на треть меньше.
– Ох, ну ты даешь! – притворно испугался Леня, на самом деле облегченно вздохнув. – Где у нас такие бабки? Никто столько не получает! Генка, если услышит, родит в эфире… Он такое без нуля в конце имеет и рад… Да и ладно! – сам остановил себя Леня, видя, что я никак не реагирую на его сетования. – И чёрт с тобой! Ты дорогая журналистка, такого стоишь. Давай – кофейку, и вперед! Тему, говоришь, тебе надо? А вот о зарплатах и поболтайте! Кто больше получает – учитель или милиционер, то бишь полицейский, наш, российский, метр с кепкой полиционер. И почему. Как, по кайфу тебе такое?
Я поморщилась от Лёниных словечек. Но говорить ничего не стала.
– Нет, Лёнь. О чем тут говорить? Я же знаю, что сейчас Генка понесёт языком, как помелом…
– Это вы обо мне, девушка, так нелестно выражаетесь? – Незаметно подошедший Гена приобнял меня сзади.
Я в который раз удивилась чудесам природы. Настолько стареющий Гена не был похож на свой игривый, чуть хрипловатый и очень молодой голос. Слушая его, большинство женщин наверняка представляют тридцатилетнего, стройного, симпатичного, улыбчивого бонвивана, чуть с ленцой, приятного, вальяжного. А Генка был обрюзгшим, плохо побритым и очень несимпатичным на лицо сорокапятилетним дядькой с круглым тяжелым носом, неровным подбородком, тяжелым мешочком свисающим на одно Генкино плечо, тоже неравное второму, как и всё в Генкином облике.
– Нет, не о тебе. О том, что на тему бедности надо или изящно‑ философски шутить, или серьезно разбираться с экономистами. Но не болтать просто так. А еще о чем мы должны сегодня говорить?
– Еще… – Лёня сдвинул повязку, почесал голову и заглянул в темное зеркало напротив нас, чтобы водрузить повязку на место. – Об утреннем оргазме, пойдет? Хотя сейчас уже пять часов.
– Тогда о вечернем! – захохотал Генка, и все неровности его крупного тела заколыхались вразнобой.
– Да вы об этом постоянно, что ли, говорите? Я, как ни попаду на вашу передачу, обязательно услышу.
– И что, каковы ваши действия? – Генка снова попытался приобнять меня, обдав крепким запахом наверняка дорогих, но пронзительно‑ едких мужских духов.
– Выключаю радио! – Я отпихнула его. – Давай о политике хотя бы. Что там вчера приняли? Какой‑ то закон новый, я слышала. О медицинском обслуживании что‑ то… Вот давай об этом. Прочитать только надо повнимательнее, что в законе. Это же наверняка всем интересно.
– Ты о медицинском обслуживании, а я о вечернем оргазме, ага? Что в общем‑ то близко по теме. Вот и сольемся в результате в экстазе… – Генка достал толстую сигаретку и закурил прямо в коридоре. – Ты куришь? Нет? А я на эфире обычно курю…
Я отступила от него и с сомнением посмотрела на Леню Маркелова. И что изменят в моей жизни эти деньги, за которые я буду дышать три или четыре раза в неделю Генкиными вонючими сигаретками и одеколоном, обсуждать с ним вопросы физиологии, – что‑ то подозрительно веселит его эта тема, как подростка, у которого еще почти ничего ни с кем не было, – и невольно перенимать эту легкую, необязательную манерку говорить обо всем и ни о чем: «А? Что? Да ничего! Проехали! »
– Лёнь, извини! Я, наверно, пойду.
– Что‑ что‑ что? – засуетился Леня, взял меня за локоток и отвел в сторону. – Ну, сколько ты хочешь? Давай еще добавим? А? Мало? Какая ж ты жадная, Борга! Вот правду говорят, успех портит самых лучших наших людей. Самых русских и на морду, и на фамилию… Ладно, давай еще полкосарика накинем… Зелененьких, в воде не тонущих… На что угодно обменяешь их, на любое свое удовольствие… Что, нормально?
– Да не в косариках дело. Я не бедный человек. Детей у меня нет, долгов тоже.
– Нет – так будут, – засмеялся Леня. – Можем помочь, и в том, и в другом. Нет, подруга, ты давай говори свою цену, а мы уж как‑ нибудь газовиков наших уломаем. Скажем, вот есть у нас тут такая цаца, надо бы ей подкинуть, за язычок, за смелость, да за начитанность, да за всякое другое… Борга сказала, значит, так и есть… А? Ну что, пойдем, подписываем?
Я покачала головой.
– Давай попробуем провести передачу, а потом подпишем. Боюсь, что мне с Генкой будет… неинтересно говорить. Понимаешь? Я не могу существовать в этом режиме. Хи‑ хи‑ ха‑ ха, пукнул в микрофон – сам засмеялся…
– Уже смешно! А говоришь – не можешь, все ты можешь! Пойдем, моя крылатая, пойдем. Говоришь, как пишешь, всем нам кое‑ что пообрежешь еще язычком… – причмокивая и охая, Леня подталкивал меня в противоположную от выхода сторону. – И план передачи у нас есть, не беспокойся, все у нас есть. «Болтовня»!.. Три редактора в смену работают, все вам готовенькое на стол выложат, лишь бы прочитали… Серьезные люди, между прочим, не нам чета… И музычка у нас какая теперь, знаешь? Музыкальные блоки крепенькие, сама заслушаешься…
– Подожди, – остановила я Леню, вдруг поймав какой‑ то обрывок его мысли. – А что, я должна кого‑ то срочно заменить?
– Да не то чтобы срочно… – Леня кивнул на высокую темноволосую женщину, сидевшую с сигаретой в конце коридора. – Вон, видишь, Тоня наша мается. Не хочет, чтобы тебя взяли вместо нее, но ты ведь все равно каждый день не сможешь работать?
– Не смогу, конечно. И не захочу.
– Вот и ладненько. А Тоня как‑ нибудь перетопчется, у нее выбора нет. Она журналистка хорошая, ее любят слушатели… Некоторые. А остальным она слегка поднадоела. Надо влить новой кровушки… в нашу зна‑ аменитую передачу. Так, стоять!
Мы остановились с Леней у высокого звуконепроницаемого стекла, за которым была видна небольшая комната с огромным пультом. Там сидел молодой человек в наушниках и молча смотрел перед собой. Увидев нас через стекло, он помахал нам рукой.
– Музыкальный час, – объяснил Леня. – «Антон на проводе» – знаешь нашу феньку? Это я так остроумно придумал. Хорошее название, правда?
– Его зовут Антон? – кивнула я на молодого человека в наушниках.
– Антоном звали моего дедушку, – вздохнул Леня. – Дожил до восьмидесяти пяти лет старик, больше не смог. Он всегда снимал трубку и серьезно отвечал: «Антон на проводе». Это я в его память.
Я удивленно посмотрела на Леню. Предположить бы даже не смогла в нем такого лиризма. А почему, собственно? Потому что он носит спущенные штаны? Или потому что он – продюсер не самых лучших передач в эфире?
А где они, лучшие передачи? Остались в моем детстве?
Вместе с пломбиром в вафельных стаканчиках со сливочной розочкой сверху, протекавшим на руки через обязательные дырочки на дне сладкими нежными каплями?
Со сказками Андерсена, отпечатанными на плотной шершавой бумаге, с волшебными непонятными картинками и купюрами советского цензора, тщательно выбиравшего все, что грустный сказочник Ганс Христиан думал про Господа Бога и его вмешательство в земные дела?
С бодрой утренней зарядкой на радио, под звуки которой моя бабушка весело гремела кастрюлями, пела, топала по маленькой кухоньке, готовя мне картофельные котлетки, вкуснее которых я никогда ничего не ела на завтрак за всю остальную жизнь?
Вместе с радиоспектаклями, которые искренне и со всей силой своего таланта играли народные артисты, вкладывая в голос все, что не увидеть радиослушателям? И бабушка, с вечной иголкой в руке, застывала, услышав какое‑ то роковое слово в спектакле, а потом плакала или громко смеялась, если всё заканчивалось хорошо. И теряла иголку под ножной швейной машинкой в рыже‑ коричневом деревянном корпусе. И я залезала за иголкой и, невзирая на строжайший запрет, как будто случайно садилась на широкую ножную педаль и покачивалась, пока бабушка не видит…
Понятно, что все мое самое лучшее осталось в детстве. Просто по определению. В том далеком прекрасном мире, которого больше нет. И который есть – где‑ то даже не внутри меня, а в основе меня. Я и есть этот мир – я в нем родилась, выросла, я его помню, слышу, вижу. И не хочу разрушать этот мир, сказочный мир, и никому никогда не дам этого сделать.
Но это ведь не значит, что сегодня что‑ то совсем другое не имеет права на существование.
– Извини, я отвлеклась, Леня. Да, хорошо. Я попробую провести передачу, потом подпишем договор. Только давай нормально подготовим ее, ты мне дашь тему, я посмотрю дома…
– Э‑ э, нет, милая! – засмеялся Леня. – У нас принято, с профессионалами по крайней мере, вот такую первую брачную ночь проводить… Как если бы ты просто гостем пришла на передачу, тебе бы не дали никаких материалов для подготовки…
– Боевое крещение, что ли?
– Это как скажете! Как повернете… – подмигнул мне Леня. – Крещение или что получится… Или совращение… Ужасная рифма, скажи? Боженька, ты как? – Леня посмотрел на низкий потолок, обитый серыми звуконепроницаемыми пластинами с маленькими дырочками. – Не слышишь меня сегодня, нет? Вот и не слышь. Собственно, как обычно… Ори не ори, а небесам до нас…
От передачи у меня осталось приятное чувство. Я настояла, чтобы в студию посадили еще и Верочку, у которой было просто шоковое состояние от такой неожиданности. Генка глупостей почти не говорил, или я быстро привыкла к его необязательной манерке – вроде сказал, а вроде и нет, уже проехали, лопочем о другом… Я не уверена, если бы я послушала себя, задержалось ли бы во мне это приятное чувство. Поэтому я не стала брать домой запись и слушать. Я решила: ведь что говорит Генка – это его дело. У меня же есть блестящая возможность сказать что‑ то хорошее очень многим людям. И делать мне это легко и приятно.
Я могу представить себе, что говорю, предположим, с милой одинокой женщиной, которая отвезла сейчас дочку в школу и пробирается в пробках до метро, чтобы бросить там где‑ нибудь в чужом дворе машину и поехать на работу. Может быть, я отвлеку ее своими разговорами от грустных мыслей? И мысли ее потекут в другом направлении? Или вдруг найдется ответ на какой‑ то мучительный вопрос? Или просто вопрос перестанет мучить, останется неизбежной и не такой уж пугающей данностью.
Леня предупредил меня, что наши передачи будут в милой в утреннем и вечернем эфире, и я этому порадовалась. У многих людей мой голос будет первым, что они услышат в машине или на работе, или дома. Главное, чтобы мне было, что им сказать.
Пока мы сидели на передаче, Генка поглядывал на Верочку, и я видела, что он хочет о чем‑ то ее спросить и, видно, никак не может придумать что‑ нибудь поострее.
И поэтому я сказала сама:
– У нас в студии гость, начинающая журналистка, Вера. Верочка, не хочешь ли ты, детка, передать кому‑ нибудь привет?
Генка заржал прямо в микрофон и показал мне кулак.
– Я… – растерялась от неожиданности Вера и замолчала.
Молчать в прямом эфире было невозможно, поэтому продолжила я:
– Хорошо, я могу от тебя передать привет Елику. Ты не возражаешь?
Вера в полуобморочном состоянии взглянула на меня круглыми глазами и изо всей силы замотала головой, ударившись подбородком о микрофон.
Генка тут же это подхватил.
– Стоять, не падать! – сказал он и крякнул, как будто поднимая тяжесть. – Девушка не выдержала ответственности. Все‑ таки передавать привет на всю страну своему…
– Питбулю! – быстро сказала я. – Для этого нужна определенная смелость! Питбуль у Верочки гладкий, сильный, очень умный и сноровистый, так, детка? Елик, если ты нас слышишь, гавкни!
Генка, разумеется, гавкнул за Елика и был рад предоставленной ему возможности куснуть новую тему и нового человека. Мы поговорили немного про питбулей, явно представляя себе при этом очень разных собак, и плавно свернули на предпасхальное подорожание яиц. Генка и так и сяк шутил вполне в раблезианском стиле, а я лишь вздыхала и вела свою партию тонкой и интеллигентной собеседницы. Не так уж и плохо, особенно если за это платят деньги. И если кто‑ то это действительно слушает…
– Кул! Молодец! – похвалил меня Леня, когда мы вышли из аппаратной. – Только словарный запас тебе надо, конечно, менять… Что такое «кул», знаешь? А кто такой «перец»? А «жестяк»? Вот, видишь, а лезешь в эфир… Шучу‑ шучу! Все классно!
– Лёнь, я не буду говорить на этом птичьем языке! Говорю, как умею. На хорошем русском языке.
– И молодец, птичка моя, и не говори на нашем птичьем языке! Каламбур классный, правда? За то тебе и деньги платим, за роскошную интеллигентность твою, наглую, врожденную и вдобавок хорошо воспитанную. Почему идея такая появилась, как ты думаешь? Тебя пригласить? Мы что, рассчитывали, что ты будешь на клубном жаргоне материть у нас? Или по‑ олбански залопочешь? Да уж конечно! У нас своих мастеров хватает. Со своими матерками и мастерками. Просто пришло… – Леня сделал страшное лицо и шутливо понизил голос, – рас‑ по‑ ря‑ же‑ ние… Прикинь, да? Это в свободной‑ то стране! Жаль, Америка нас сейчас не слышит. Америка, ау! – Леня помахал рукой в завешенное серыми жалюзи окно, сквозь которые виднелась темная пятиэтажка. – Не слышит меня Америка, а жаль! Так вот, попросили поприличнее кого‑ нибудь, с такими, знаешь, дворянскими замашечками, с культурным обременением, со словарным запасом не менее, а лучше более… Ну, ты в курсе. И с московским прононсом. Чистеньким‑ чистеньким. Чтобы пятнадцать поколений образованных москвичей вставали за твоей прямой спинкой немым укором, не давая вякнуть чего‑ нибудь плебейского. Из репертуара заезжего люмпена. Вот так, дожили. На самом свободном радио, ага. Надоели наши вонючие сапоги деревни Лытьково Н‑ ской губернии. Очень модные, кстати, среди обитателей московских подвалов, они же клубы продвинутой молодежи.
– Лёнь! – наконец смогла вставить слово я. – А что бы тебе самому не вести болтологию вашу?
Леня, ничуть не удивившись моей реплике, быстро показал мне одной рукой фигу, другой покрутил пальцем у виска и как ни в чем не бывало продолжил:
– И вот мы Лику Боргу позвали! Радетельницу за чистый русский язык, высокую духовность и вообще моральный облик постсоветского, то есть российского человека. Поняла, в чем дело? Говорят, кто‑ то из заоблачных высот, царских, так сказать, всея Руси, передачку нашу как‑ то в машине услышал. И ему в его заоблачной высоте плохо стало. Ему было не смешно. Чуть было не стошнило. А когда на небесах кого‑ то тошнит, тут нам всем мало не кажется… Короче, велели нас или закрывать срочно, или повышать культурный уровень. Планку поставили. Чтобы ничего круче фирменного премьерского «ни фига» в эфире не звучало. И то. Им можно – у них жизнь тяжелая, ответственность давит. А нам лучше и без этого обходиться.
Я вздохнула:
– Договор давай мне домой, почитаю, завтра скажу, что да как.
– Но ты скажешь ведь «да»? Радетельница наша?
Я засмеялась.
– У мамы спрошу сейчас. Если разрешит.
Твоя мама преподает русскую литературу? – засмеялся Леня.
Моя мама преподает мараль и нравственность своим домочадцам, и мне изредка перепадает, – объяснила я.
Я поймала себя на том, что за все время эфира – час с лишним – мне ни разу в голову не попала чужая мысль или ощущение… Так увлекла меня работа? Или… А не показалось ли мне все, что происходило со мной в последние дни? И не успела я подумать, хорошо это или плохо, что все прошло, как, не оборачиваясь к Генке, который стоял и курил неподалеку, увидела очень странную картинку, явно относящуюся к нему и ко мне.
Я, в непонятной одежде, как бывает во сне, когда человек одет, но неважно во что, то ли в серый длинный свитер, то ли в коричневое бесформенное пальто, стою за стеклянной дверью, прижавшись к ней лицом. Генка же открывает дверь, сам очень хорошо одетый, рукой в кожаной рыжей перчатке и с золотым (действительно, а как же еще? ) «Роллексом» на запястье подает мне смятую сотню и, подумав, подает еще десять рублей. Я пытаюсь поцеловать его руку, а он поощрительно хлопает меня по щеке кожаной перчаткой, я улыбаюсь от счастья, и во рту у меня не оказывается ни одного зуба…
Каков, однако, фантазер наш Генка!
Я обернулась к нему и столкнулась с тяжелым, больным взглядом. Бедный Гена!
– Запиши, – как можно мягче сказала я. – Хороший рассказ получится. В духе О. Генри. В конце надо что‑ то очень сентиментальное. Например, ты помог мне вставить зубы, для этого пришлось продать «Роллекс». Плакал, но продал. А я тебя за это поцеловала, в небритую щеку, от которой брутально пахнет горьким мускусом. Запиши и бегом в глянцевый журнал, или можешь к нам, помогу напечатать. Сто тысяч экземпляров только в Москве продается за один день после выхода. Ты знаешь – нас читают все.
Мне показалось, что Генка откусил кусочек своей толстой сигаретки. По крайней мере, кашлял он так, что из кабинета напротив высунулся паренек.
– Никого не тошнит? – осведомился он.
– Всех уже стошнило, – успокоила я его. – Пойдем, Верочка. Хватит тут пассивно курить и портиться.
Верочка от всех событий сегодняшнего дня давно уже пребывала в состоянии полуобморока и покорно двинулась за мной, ничего не говоря. «Вот и хорошо», – подумала я, против своей воли видя все одну и ту же картинку:
Елик – тот самый гладкий мужчина с голой грудью, едва прикрытой приятным бархатным халатом, виден мне был со всех сторон сразу, даже с тех, думать о которых мне было совсем неинтересно. И со всех сторон он был исключительно гладок и приятен.
Да, пора отправлять Верочку домой, пока мне действительно не стало плохо от картин ее милых и – верю! – вполне искренних вожделений.
Глава 6
Мама… Вот кто может мне объяснить, что со мной происходит. Мама всегда понимает меня хорошо и, не жалея, говорит правду. Если я сошла с ума, мама это поймет первой и объявит мне приговор. Попробую показаться ей на глаза. Интересно, заметит ли она во мне что‑ нибудь особенное?
Я отвезла Верочку на ее съемную квартиру, подозревая, что я так напугала девушку, что на работу она больше не пойдет. По крайней мере, за мой стол не сядет. Хотя я была вовсе не против неожиданной ученицы.
Мама встретила меня как обычно. Мельком оглядела и проговорила:
– Ты в больнице похудела, что ли?
Ага, заметила что‑ то. Но что, сразу не поняла. Я не торопясь разделась, нарочно походила перед мамой туда‑ сюда, надеясь, что она почувствует что‑ то своим материнским нутром. Обстоятельно поздоровалась с отчимом, который выглянул из своей комнаты, но выходить не стал, наученный всей жизнью с моей мамой. От малейшей его улыбки, предназначенной мне, мама взвивалась до потолка и покою потом не давала мне и ему. Поэтому последние годы отрочества, когда я еще нуждалась в опеке родителей, я жила с папой.
Папа так и не женился после развода с мамой и все меньше и меньше интересовался женщинами и окружающим миром, собирая загадочные аппараты из сотен колесиков. Папа много лет готовил научное открытие, которое должно было перевернуть мир, но однажды куда‑ то пропал. Мне почему‑ то казалось, что он жив и живет где‑ то, куда ему не могут позвонить знакомые и отвлечь от самых последних, самых важных его открытий… Где нет моей мамы, считавшей его жалким ничтожеством.
Мама цепким взглядом проследила за мной, потом сказала:
– Не маячь, присядь. Ты что‑ то хотела?
Я села за большой стол на кухне, уставленный по обыкновению лекарствами отчима и розетками с вареньем, медом, коричневым тростниковым сахаром, полезным и малосладким, взяла ложку и пододвинула к себе высокую вазочку со сливовым вареньем.
– Переложи себе в блюдце, не копай там ложкой! – остановила меня мама.
Я вздохнула и отодвинула от себя вазочку.
– Мам. А вот была у нас такая прапрабабушка… Вера, кажется. Баба Вера…
– И что? Ты хочешь о ней написать?
– Нет. Мам… – Я неожиданно встала в тупик. Как рассказать маме, что со мной происходит? Почему‑ то я не находила слов. – Просто я после аварии… стала как будто видеть и слышать то, что чувствуют другие люди.
Мама напряженно посмотрела на меня и проговорила:
– Я в общем‑ то ожидала, что однажды ваша схожесть…
– Я похожа на бабушку Веру? Ты не говорила раньше.
– Похожа… Одно лицо!
– Мам, а бабушка тоже была Борга?
– Как она может быть Боргой, если она по женской линии? Нет, Лика, она была… – мама замялась, – Колдушина.
– А, ну господи! Да я же помню, конечно, – от слова «колдунья»!
– Возможно. Но я так не думаю, – сдержанно ответила мама, доставая старый альбом из‑ под кипы журналов. – Хотела тебе фотографию показать, да ты ее видела наверняка… В платочке, благообразная такая старушонка… Фамилия, говорят, уже после появилась, у деток ее. Я тебе раньше не рассказывала? Ну да, все щадила тебя, все жалела. Дожалелась.
– Так почему такую фамилию придумали? – быстро прервала я маму, не дав ей увлечься темой моего несоответствия ее родительскому идеалу.
– А… – запнулась мама. – Ну да. Думаю, оттого что благодарные односельчане как‑ то ночью ей кол по самую душу вогнали. Не столько за колдовство – кто в него верил‑ то? А за украденную у колхоза корову. Время, знаешь, какое было, после революции, дикое и голодное. Соседка клялась и божилась именем Сталина, что видела, как баба Вера коровку вялила на солнце и припрятывала на зиму… Корова потом нашлась в соседнем колхозе, когда бабу Веру уж и поминать забыли. Подслеповатая на один глаз корова, с оборванным хвостом, кому она только нужна была? Тощая, ни молока, ни мяса… Вот, нашла.
Я посмотрела на выцветшую фотографию и не поняла, в чем же мама видела наше сходство с прабабушкой. Кроткое лицо, с небольшими круглыми глазами, доверчиво глядящими на фотографа, светлые волосы, выбивающиеся с одной стороны из‑ под платка, робкая улыбка… Что тут общего со мной? И все же…
– Я возьму пока фотографию, можно, мам?
Мама пожала плечами:
– Да бери. Жалко, что ли?
Я взглянула на аппетитные райские яблочки в одной из вазочек с вареньем – с темно‑ красной прозрачной кожурой, пропитанной вкуснейшим желейным сиропом… И остановила себя. Лучше не начинать ничего пробовать – чем меньше мама на меня смотрит, тем меньше у нее останется поводов для раздражения.
– Ладно, я пойду, мам. У вас все хорошо?
– Да!.. – Мама махнула рукой. – Гастрит‑ простатит‑ гипертония! А так все отлично.
– Тебе папа не снился недавно? – спросила я, надевая ботинки.
– Мне твой отец не снится уже много лет, – четко ответила мне мама. – Просто не рискует. Ясно?
– Да уж куда яснее. Я теперь передачу буду вести на радио, мам. Будешь мной гордиться?
Мама довольно равнодушно пожала плечами.
– Буду.
И я физически почувствовала холодок в груди и как будто что‑ то горькое во рту, как вкус испорченного ореха, что ли… Ох, неужели это именно то, что испытывает ко мне моя мама?
Да, на кол я не хочу. А что мне делать с моим внезапно проснувшимся… как назвать‑ то его – с моим даром? Может, как‑ то применять его во благо? Например, лечить. А что я могу вылечить, если я просто чувствую вместе с этим человеком? Предсказывать я тоже не могу.
Детективное агентство… Точно. По просьбе ревнивых мужей и жен выяснять, что на самом деле чувствует супруг. «Чтоб ты сдох, сволочь, и как можно быстрее». «Как же воняет твоя старая пижама, в которой ты похожа на свинью с крокодильей мордой…»
Или рассказывать бдительным родителям, о чем мечтает подросток. Да‑ а… Могу себе представить, чем наполнится тогда моя душа. Нет, детективное агентство мне не потянуть – даже для моей здоровой психики это было бы серьезное испытание. Придется, вероятно, просто жить с этим, убеждая себя, что со мной ничего особого не произошло.
Мысли мои невольно вернулись к Косте Семиряве. Может, мне все‑ таки походить к нему на сеансы психотерапии?
Выйдя из подъезда, я обнаружила, что у моей машины кто‑ то порезал шину на переднем колесе. Происходит это уже во второй раз. Именно когда я оставляю машину ненадолго около маминого подъезда. Видимо, кому‑ то в мамином доме очень не нравится моя красная Мазда, скромная и почти демократичная машина почти эконом‑ класса – с точки зрения, к примеру, средне‑ зажиточного немецкого бюргера. Думаю, тут дело не в классовой ненависти, а в конкретной неприязни ко мне.
Не успела я это подумать, как четко увидела кривоватую волосатую руку, быстро наносящую резаную рану моей милой Мазде. Вот это да! А я еще думала, зачем мне мой неожиданный дар! Доказать, правда, я таким образом ничего не докажу, но сама обидчика найду. На волосатой руке, темной от какой‑ то копоти, я четко видела значок татуировки, похожий на индуистский знак – прерывающийся круг, а в нем две пересеченные параллельные линии. Еще, кажется, это похоже на фирменный знак какой‑ то автомобильной марки… В общем, ни с чем другим не спутать. Знак явно не тюремный, не воровской. И, кажется, я его видела когда‑ то…
Я обернулась. Видно никого не было. Но, уже зная особенности своего «видения», я подозревала, что человек находится где‑ то поблизости. Я же не просто так чувствую и вижу, а лишь то, что чувствует и знает другой кто‑ то… Я оглядела окна.
На одном балконе, выходящем как раз в сторону подъезда, я увидела курящего мужика, явно нарочно отвернувшегося от меня и смотрящего в другую сторону. В сумерках мне было, конечно, не разглядеть никаких знаков на его руках, но…
Зато я увидела саму себя, в зимней одежде, с лыжами в руках, смеющуюся и очень довольную чем‑ то… Вот только чем? А! Тем, как плохо сейчас кому‑ то, как больно в душе, как хотелось этому кому‑ то быть сильным и нужным, а вовсе не отвергнутым, жалким и смешным, с замерзшим букетом ярко‑ розовых гвоздик, таких весенних, таких пушистых…
Да! Конечно! Павлик Сысоев! Неужели он не забыл?.. И стал совсем простым мужиком, в спущенных трениках, нечесаным, небритым… Но разве он живет в одном доме с моей мамой? Да, здесь живет и его мать, и он, возможно, развелся и вернулся к ней.
Неудачник… Я помню, мама как‑ то обмолвилась: «Павлик, бедный – просто неудачник. Все не заладилось в жизни. А началось все с тебя, как ты его промурыжила и бросила…» Да он мне никогда и не нравился, с его философствованиями, вечной неуверенностью в себе, враждебным миром, который всегда окружал Павлика. Кругом были враги, и он хотел найти себе боевую подругу, чтобы бороться с врагами, или, скорее, ловко прятаться от них, обводя их вокруг пальца…
Я помню Павлика, конечно! И даже смутно помню, как он пригласил меня на свидание и пришел заранее, чтобы я не смылась куда‑ то, караулил у подъезда. А я взяла лыжи и пошла в парк кататься, с удовольствием и совершенно одна. И что, теперь, через сто лет, резать мне колеса? В самый неподходящий момент. Хотя разве бывают подходящие моменты, чтобы обнаружить, что какой‑ то озлобленный недотепа отомстил таким образом твоей любимой машине?
– Паш! – я крикнула, не надеясь, что Павлик отважится посмотреть в мою сторону.
Он действительно вздрогнул, демонстративно стряхнул пепел, бросил сигаретку и, помедлив секунды две, забежал с балкона в квартиру, плотно прикрыв балконную дверь. И ладно. Не хочу я с ним разбираться. Стыдить его, что ли? Или заставлять менять мне колесо? Бесполезно. Не умеет Павлик менять колесо, у него отродясь не было машины. Все силы ушли на борьбу с внешним врагом. Какие уж тут машины!
Я хотела быстро поставить запаску, но вспомнила, что уже быстро ее поставила за пару дней до своей аварии, таинственным образом активизировавшей во мне гены бабы Веры Колдушиной… Так что ставить мне сейчас было нечего.
С сожалением кивнув своей пораненной Мазде, я подошла к подъезду и набрала на домофоне номер Пашиной квартиры.
– Да‑ да? – ответил он очень солидным голосом, каким говорят только самые отпетые неудачники, вкладывая в интонацию голоса всю неизрасходованную мужественность и представление о том, каким его должны видеть со стороны.
– Паш, тут я у подъезда машину свою оставлю, новую Мазду, красную, красивую. Постереги, чтобы никакой урод второго колеса не порезал, хорошо?
Я слышала тяжелое дыхание Паши в домофон и нажала кнопку сброса. Такая бесценная жизнь досталась именно Паше, слабому, неспособному мальчику. А брат Паши, погодок Валечка, умный и смешливый, погиб во втором классе по нелепой случайности, упал с того самого балкона, на котором сейчас Паша так меня ненавидел. И Паша не смог прожить ни за Валечку, ни за самого себя.
Глава 7
Задумавшись, я быстро шла по улице. И не сразу поняла, что запаха свежеиспеченной булочки, который уже некоторое время не давал мне спокойно идти – я все смотрела, где же булочная с горячим хлебом, – на самом деле не существует. То есть он существует в воображении маленького мальчика, чем‑ то напомнившего мне бедного Валечку, о котором я только что думала.
Вполне прилично одетый мальчик шел один, со спортивной сумкой и мечтал о горячей булке. Как бы мне хотелось побыть сейчас настоящей феей, купить в каком‑ нибудь ларьке булочку и дать ему. Хотя не исключаю, что купить хлеб он и сам бы мог. Если его отпускают одного, то и денег, вероятно, дают. А хочет он есть, как нормальный и обычный ребенок. Я всегда хотела есть в детстве. Обедала – и через полчаса снова могла бы съесть булочку с изюмом или корицей… Я, кажется, тоже голодная, мама же мне так и не дала поковырять варенье. Последний раз я ела, точнее, пила пустой кофе на радио.
– Ты не знаешь, здесь нет поблизости пекарни или булочной? – спросила я мальчика.
Он, чуть помедлив, ответил:
– Нет. Не знаю.
Мальчик даже приостановился, внимательно посмотрел на меня, потом решительно пошел дальше.
– А какого‑ нибудь кафе, где можно съесть булочку? – сама не знаю, почему я спрашивала это у маленького мальчика. Дети сейчас научены телевизором. Любимые народом артисты снимаются в социальных клипах, объясняя не додумавшимся до этого своим умом родителям, что детей нужно учить не верить чужим людям и не вступать с ними в разговор.
Мамин район я и сама знала достаточно хорошо, хотя сейчас в самых неожиданных и привычных местах появляются кафе, платные поликлиники, салоны красоты.
Скажем, на бульваре напротив маминого дома, там, где когда‑ то был классический советский овощной магазин, темный, с вечно грязным полом, вонючим задним двором, который я старалась обходить стороной – из‑ за удушающей, прилипчивой вони и нагло шныряющих крыс, сейчас открылась дорогая, сверкающая синим перламутром и хромом поликлиника.
А в бывшем моем доме, из которого я недавно уехала, прожив там пятнадцать лет, в подвале, где тоже раньше жили толстые наглые крысы, вероятно родственницы бульварных, бегавшие по стенкам нашего мусоропровода, теперь расположилось агитационное бюро проправительственной партии. Можно зайти в чистое, приятное помещение, проконсультироваться по любому интересующему тебя юридическому вопросу и заручиться поддержкой влиятельной партии. Просто так, ни за что. За укрепление, укоренение новой, пока не очень понятной мне лично власти.
Мальчик, услышав мой вопрос, кивнул, но не мне, а как будто кому‑ то другому.
– Ты что? – Я видела, конечно, что он остерегается со мной говорить, но не хотела этого оставлять.
– Нам так на ОБЖ и говорили. Как раз в понедельник учительница рассказывала.
– ОБЖ – это…? – спросила я, надеясь, что, объяснив мне очевидное, мальчик должен почувствовать легкое превосходство и успокоиться. – Что это такое? Занятия какие‑ то?
– Обеспечение безопасности жизнедеятельности! – четко выговорил мальчик. Я увидела, как смешно и трогательно растут у него передние зубы, перегоняя друг друга, и оба первых зуба еще не выросли до конца.
– Урок такой?
– Да, – ответил мне мальчик и остановился. – И если ко мне подойдут на улице, я не должен разговаривать. И если пригласят пообедать или купить игрушку, гейм‑ бой, например, я не должен идти никуда. Я только один в классе хожу без взрослых. Остальные – с бабушками и нянями.
– Правда?
Мне очень понравился мальчик. Я уже некоторое время назад поняла, что мне никуда не деться от материнского инстинкта, и везде, где есть дети, я с удовольствием с ними общаюсь. Хотя бы так…
– Правда. Потому что я ответственный.
– А как тебя зовут?
– Это нельзя отвечать, – серьезно объяснил мне мальчик.
– Понятно. А я Лика. Я работаю в журнале и на радио, ты можешь меня услышать…
– Вы точно не воруете детей? – спросил мальчик.
– Точно, – я изо всех сил постаралась ответить так, чтобы мальчик мне поверил.
– Вот и они всегда так говорят, что они не бандиты…
Я достала свое журналистское удостоверение.
– Вот, веришь?
– А вы меня в машину не будете сажать? И увозить?
– Нет, у моей машины дядя Паша проколол колесо.
– За что? – поинтересовался мальчик.
– За то, что я когда‑ то смеялась над ним.
Мальчик немного подумал:
– Да, за это можно проколоть колесо.
Я вздохнула – что ж, даже ребенок согласен, что я когда‑ то была неправа, посмеявшись над слабым Павликом.
– Ты куда сейчас идешь? – Я улыбнулась мальчику. – И как тебя все‑ таки зовут?
– Зовут Женя… – Он тоже вздохнул. – Евгений Апухтин. Я иду домой. Но я специально иду долгой дорогой…
– Почему?
– Потому что у нас в подъезде свет не горит. – Мальчик быстро взглянул на меня. – Я не боюсь! Но просто…
– А хочешь, мы пойдем куда‑ нибудь с тобой поедим? Я хочу есть, а есть одна не люблю…
Я немного лукавила – есть одна я привыкла. Но мне очень не хотелось возвращаться сейчас домой и сидеть там одной, глядя на погибшую строманту. И еще я понимала, что поступаю несколько странно и неправильно с точки зрения ОБЖ – обеспечения безопасности жизнедеятельности, чужих детей в особенности, – не уверена, что родители Евгения Апухтина меня похвалят за это…
– А тебя дома кто‑ то ждет?
– Нет, – опять вздохнул Женя. – Мои родители уехали кататься на лыжах в горы, а я ночую сейчас у соседей. Но я только вечером к ним прихожу, когда диван раскладывают…
Я удивилась – куда же в апреле нужно поехать, чтобы покататься на лыжах, есть, конечно, такие места на земле, где‑ то очень далеко…
В ближайшем встретившемся нам ресторане Женя заказал себе большую тарелку спагетти (я настоятельно просила его не скромничать), а сама я так зримо видела перед собой большой нежный кусок телятины, как будто его представлял кто‑ то другой, а не я… Я даже подумала, не Женя ли мечтает впиться зубами в сочное мясо, и спросила его: – А мяса не хочешь? Жареного, с соусом каким‑ нибудь…
Женя вздрогнул:
– Я не ем мяса.
– Совсем?
Он с ужасом помотал головой, но я могла бы не спрашивать. Я уже чувствовала это ужасное отвращение, видела перед собой кошмарную разодранную плоть, с жилами, кровью, грязную, с прилипшими короткими толстыми волосками, чувствовала тошнотворный запах тления…
Я помахала рукой официанту, чтобы он вернулся:
– Не надо мяса. Мне… лепешку какую‑ нибудь принесите…
– С сыром? – вежливо улыбнулся официант.
Я подозрительно посмотрела на Женю. Он невозмутимо продолжал разглядывать потолок, с которого спускались прозрачные светильники на длинных шнурах. Никакой ужасающей картины у меня внутри не возникло – ни густого запаха сыроварни, ни падающих в сычужную закваску мелких животных, водящихся в хозяйстве, ни хруста, с которым они прокручиваются вместе с будущим сыром в большом автоматизированном чане…
– Да, с сыром. И… салат.
– Без лука! – тут же встрял мальчик, и я прямо отшатнулась от как будто ударившего мне в нос сильного, невыносимо противного запаха лукового перегара. Ну да, если лучком заедать водочку…
– Дядя Сережа любит лук? – негромко спросила я Женю.
– Любит, – спокойно ответил мальчик, по‑ детски ничуть не удивившись моей догадке. Ведь если это знает он, почему бы этого не знать и мне? – А я ненавижу.
– Я уже поняла…
– Вы все понимаете сразу, да? – уточнил тем не менее Женя. – Как моя бабушка. Только она не в Москве живет. До нее триста шестьдесят километров надо ехать. Меня на каникулы к ней отвезут.
– А… бабушка все понимает? – осторожно спросила я.
– Да, – кивнул Женя. – Когда я прошлым летом залез в шкаф, чтобы посмотреть, как включается балерина в бутылке, она там вертится… и случайно дверца отвалилась у шкафчика, бабушка сразу поняла, что я просто хотел балерину посмотреть.
– Понятно.
Жаль, а я‑ то уж было подумала, что с бабушкой Жени Апухтина можно поговорить на тему моих странных и не всегда приятных ви´ дений.
Я проводила мальчика домой. Зайдя в полутемный подъезд, я ощутила весь страх ребенка. Мне сразу стало понятно, что под лестницей в темноте сидит сейчас с ножом… нет, с пистолетом… нет, с ножом и пистолетом! – жуткий, чёрный дядька, с рожей, заросшей толстой щетиной… И ждёт нас… А в углу, в самом темном углу, за дядькой – там вообще что‑ то такое страшное, что не поддается описанию… То ли отрезанные руки, то ли нарезанные на кусочки чьи‑ то ноги, то ли целый мешок вырванных глаз… – Женя! – невольно вскрикнула я.
– Что? – вздрогнул мальчик.
– Нет, нет, ничего, давай быстрее пройдем… Хотя… Погоди‑ ка…
Я остановилась на второй ступеньке и увидела, как мученически исказилось лицо мальчика. Конечно, ведь останавливаться нельзя! Надо быстрее выйти на свет, пока дядька не выскочил из темноты на нас, не накинул веревку… Я чуть было вместе с Женей не побежала на площадку первого этажа, но заставила взять себя в руки.
– У тебя ведь телефон «Нокиа», я видела в ресторане, да?
– Да… – шепотом сказал мальчик.
Нельзя разговаривать, нельзя, мы теряем время, вот он уже поднимается…
Я взяла мальчика за плечо и крепко сжала его.
– В твоем телефоне должен быть фонарик, правда? Достань его, пожалуйста. Встань вот сюда, на ступеньку выше.
Пока мы стояли на второй из пяти ступенек, ведущих из темноты на площадку, глаза уже привыкли к темноте, и на самом деле и без фонарика было видно, что под лестницей ничего и никого нет. Но я подождала, пока Женя достанет фонарик.
– Включай. Дай мне его. Смотри. Там никого нет. Видишь?
Женя достаточно смело посмотрел в страшный угол. И кивнул. Но я уже знала вместе с ним, что ужасный дядька, маньяк и расчленитель, просто прошел сквозь стенку и спрятался в подвале, и ночью он будет скрестись и выть в этом подвале и пробираться по стояку прямиком в Женину квартиру. И ходить по ней, пока родителей нет, а Женя ночует у соседки, и искать Жениных новых солдатиков, целую армию крошечных воинов, с настоящими лицами, миниатюрными пистолетами, воинов прекрасных и как будто живых, и еще мамину шкатулку с деньгами, которую она перепрятывает из шкафа в шкаф, – тоже, значит, боится его, страшного…
– Нет, – сказала я. И замолчала.
Я хотела сказать, что в подвале просто скребутся крысы, а дядька сквозь стены не ходит. Но видела лицо мальчика и понимала, что сказать надо другое:
– Есть один способ… Мне его в детстве показали… Только надо очень точно делать. Запоминаешь?
Мальчик серьезно кивнул.
– Смотри. Руку вот так сделай. Хорошо. Теперь сложи пальцы. Теперь крест нарисуй в воздухе… Нет, так, чтобы себя перекрыть… Вот, теперь правильно. Всё. Он не сможет переступить это пространство.
– Точно? – Женя посмотрел на меня с такой надеждой, что мне захотелось каждый день встречать его и провожать до квартиры.
– Точно. Меня всегда это спасало. Я даже на кладбище ночью однажды ходила… – стала врать я для убедительности и вдруг поняла, что делаю это напрасно. В глазах мальчика появилось сомнение в том, что я говорю. – То есть… – поправилась я, – не на само кладбище, а… рядом. Все равно было очень страшно.
– Я бы не испугался! – сказал Женя, поднимаясь через две ступеньки со своей тяжелой сумкой.
– Ясное дело, – ответила я, с трудом догоняя его. Заныла нога. Я, кажется, совсем забыла предписания доктора, просившего меня ходить не больше часа в день, не прыгать через две ступеньки с тяжелой камерой и заниматься лечебной гимнастикой.
Глава 8
– Костя? Какой Костя?
Спросонья я не поняла, кто из множества Кость, которых я знаю – как минимум два на работе, врач из больницы Константин Игоревич, те спортсмены‑ чемпионы‑ артисты, у кого я брала интервью и так далее, – кто же мне звонит в столь ранний час. Почему час мне показался ранним, я не знаю. На самом деле, когда я приподнялась, чтобы посмотреть на будильник, он показывал почти девять часов. «Можно проспать всю жизнь», как говорил папа, все пытавшийся что‑ то такое успеть за свою жизнь, что пережило бы его самого.
– Лика, прости, если я тебя разбудил… Мы ведь на «ты»?
– На «ты», на «ты», – успокоила я неведомого Костю.
В журналистском мире, как в деревне, – все на «ты». Так гораздо проще – можно говорить и писать необязательные глупости, задавать неприличные вопросы, да и просто – как приятно быть со всем миром на короткой ноге. Ощущение свободы и какой‑ то невзрослости, что ли. Вот в Швеции даже короля называют на «ты». Все чувствуют себя близкими родственниками в маленькой благополучной Швеции. Только почему‑ то количества депрессий и самоубийств там больше, чем где бы то ни было.
– Лика, не удивляйся, я все думал о нашей последней встрече… У меня к тебе в этой связи есть просьба. Не поможешь ли ты мне в одном деле? Вернее, не попытаешься ли помочь…
Я пока так и не узнала голос звонившего человека. С просьбами о помощи ко мне обращаются чуть ли не ежедневно, в связи с особенностями моей профессии. Иногда реально мои статьи никому не помогают, просто человеку кажется – если о его проблеме узнали другие, то как‑ то и проблема рассосется, люди посочувствуют, и вообще…
– Да, постараюсь. – Вот теперь бы мне и уточнить фамилию Кости, но он опередил меня:
– Приедешь сегодня ко мне на прием? Где‑ то между двенадцатью и двумя, тебе удобно? Там у меня пациентов нет пока…
«Пациентов»… Неужели Костя Семирява сам мне звонит? А я ведь как раз собиралась к нему прийти еще раз. Но, правда, не так скоро, не на следующий день. Только бы Костик не заболел опять своей детской влюбленностью в меня. Мне будет жаль его.
– Где лучше к тебе сворачивать? – уточнила я, чтобы убедиться, что не ошибаюсь и это звонит Семирява. – А то я вчера что‑ то никак не могла сообразить, как подъехать…
Сказав это, я вспомнила, что машина моя стоит около маминого подъезда, и если Павлик хорошо сторожил ее, то проколото у нее лишь одно переднее колесо…
– По Багратионовской и в первый переулок налево, – ответил мне Костя, которому, видно, даже в голову не приходило, что я могу не узнать его по голосу.
Я приехала, чуть опоздав. Я все же попыталась ловко заклеить с помощью куска резинового шланга свое колесо. Колесо спустило тут же, как только я отъехала. Я решила, включив аварийку, дотянуть до ближайшего шиномонтажа. Проехала метров пять, поняла, сколько неприятных эмоций доставлю себе и сотням водителей, и без меня нервно ползущих в бесконечных, невыносимых пробках, похожих на тяжело дышащих больных змеев, мучительно извивающихся по улицам, заполняя их своей страшной, дымной, опасной плотью… Кое‑ как припарковалась, заставив свою бедную Мазду залезть спустившимся колесом на тротуар, и пошла пешком к метро. Костя ждал меня в приемной своего платного кабинета. Как старую добрую знакомую он крепко обнял меня и провел в кабинет. В его объятиях я не почувствовала ничего лишнего, хотя, кто знает…
– Я сразу к делу, хорошо? Я думал над твоими вчерашними словами. Если это правда, может, ты поможешь мне в одном деле? Дело тонкое, пациентка сложная, крутит, вертит, то ли ей действительно плохо, то ли она так развлекается… Я от нее безумно устал, уже раз двадцать хотел предложить ей другого врача, но что‑ то меня останавливает… Не взглянешь на нее?
Я даже оторопела, когда поняла, чего же от меня хочет Костя. Чтобы я постаралась понять, что внутри у его пациентки. Значит, он мне поверил? И так спокойно к этому отнесся, будто это обычное дело и я просто принесла ему некий аппарат, который он может использовать в своей работе. Или я переводчик… С неведомого языка.
– Костя… А это… этично?
– Ох… – мой старый товарищ глубоко вздохнул. – Ты часто оперируешь такими категориями? Вообще – моя работа этична? Залезать в кишки, фигурально выражаясь, к пациентам, выслушивать весь больной и здоровый бред, который они больше никому, кроме меня, не говорят.
– Но ты же не психоаналитик, а психиатр, кажется, – осторожно заметила я. – В смысле по профессии…
– Ты уверена, что кто‑ нибудь знает, где эта грань? – засмеялся Костик. – Между проблемами действительно здоровых людей, в которых они запутались и не могут найти выход, и патологическим состоянием внешне тоже вполне здоровых людей, которые раз в год, в период обострения, выбрасывают в окно телевизоры, любимых собачек и близких родственников?
– Я вообще‑ то не собиралась…
Как‑ то не была я готова к подобному повороту дела, и даже профессиональное любопытство мое сейчас не просыпалось. Я вообще не люблю тем, связанных с психическим нездоровьем, стараюсь их избегать в работе. Я и до Костиных слов всегда знала, что слишком зыбки границы между здоровым, «нормальным» человеком и тем, что в обыденной жизни мы называем «псих». Вот Костя, скажем, тоже псих. Вместо того чтобы постараться помочь мне, разобраться с моей травмой и ее последствиями, он… Или же…
Я быстро взглянула на Костю. Или же он решил, что я точно спятила после аварии и таким образом, хитро, как он думает, вызвал меня на прием, чтобы как‑ то мне помочь не свихнуться до конца? Интересно, не звонил ли он моей маме, не узнавал, в какой клинике я лежала?
– Костя… – я начала и остановилась.
Я не узна´ ю этого напрямую. Действительно ли Костя думает, что я могу помочь ему своими сверхъестественными способностями с какой‑ то пациенткой, или он просто хочет понять, насколько серьезно я сбрендила после аварии? Надо вставать и уходить. Но… Моя профессия сильнее меня. Вот и проснулось любопытство. Какой поворот! Вызвать меня якобы для помощи, а на самом деле… Это, конечно, мои домыслы, но я же не с мясником имею дело, а с ювелиром человеческих душ, не очень здоровых, к тому же. Ювелиром, привыкшим плести тонкую, долгую сеть и крепко держать в ней своих беспокойных пациентов.
– Когда она к тебе придет?
– Она здесь, в соседнем кабинете, – ответил Костя и как‑ то очень внимательно посмотрел на меня. Или мне это показалось? – Слушает музыку, я часто пациентам перед сеансом психотерапии ставлю музыку, это нормально, ты знаешь, наверно.
Я кивнула. Я не знала этого и вообще ничего не знала о психотерапии, и не стала бы узнавать, если бы не мои собственные обстоятельства. Всю жизнь боюсь и не люблю всего патологичного, нездорового, особенно из области психики. Грань‑ то зыбкая, а вот то, что на шаг от грани в ту или другую сторону, уже очень отличается.
Глава 9
Костя нажал на кнопочку на небольшом аппарате, похожем на утроенный кнопочный телефон. Раздался мелодичный звук, поменялся свет в кабинете, стал более приглушенным, одновременно задвинулись шторы и щелкнул замочек в двери, ведущей в соседнюю комнату.
Я в восхищении покачала головой.
– Да, а как ты думаешь? – потянулся Костя, и я заметила напрягшиеся под тонкой рубашкой мышцы груди. Старается мой товарищ детства, держит себя в порядке, наверно, раза два в неделю тренируется… – Надо соответствовать окружающему миру. Люди, приходящие ко мне, именно так и живут. «Умный дом», знаешь, есть такое понятие. Не вставая с постели, включаешь свет в гараже и смотришь на мониторе, что там – мышка побежала или кто‑ то хочет у Роллс‑ ройса колеса открутить… Дорогая система. Но на пациентов действует безошибочно.
– Больше, чем ты сам?
Я, видимо, плохо сформулировала вопрос, я‑ то не имела в виду ничего интимного. Но Костя захотел понять меня именно так. Все‑ таки, похоже, всколыхнулась детская болезнь, будь она неладна!
– Я сам, к сожалению, не на всех могу подействовать… – сказал он очень глупым голосом и посмотрел на меня долгим взглядом.
Ужас. Ненавижу такие ситуации.
Жизнь так долго берегла меня от счастливой любви, что я перестала верить в ее существование. Для себя, по крайней мере. А того, что мне сейчас мог предложить Костик, в моей жизни вдоволь хватало бы и без него, да ровно ничего не стоило.
Я встала.
– Мне спрятаться?
Костя от неожиданности фыркнул. И я вдруг вспомнила, как он маленьким стоял под окном моей квартиры – мы с родителями жили на первом этаже – и, держа в руке шоколадку, звал меня, почему‑ то очень тонким голосом. А я сидела за своим письменным столом, боком к окну, видела его темную макушку и руку с шоколадкой. Рукой он время от времени махал, надеясь привлечь мое внимание. Потом я все‑ таки высунулась в окно. Костя подарил мне шоколадку и спросил: «Ты выйдешь? » Что я ответила, не помню. Но отлично помню растаявшую шоколадку, «Аленку», коричневую сладкую лужицу в серебристой смятой фольге, которую я лизнула и есть не стала. Скомкала обертку и выбросила.
– Прятаться… Нет. Ты посиди здесь, я скажу, что ты моя… аспирантка, – Костя опять очень глупо ухмыльнулся. А ведь степень есть, где‑ то я видела на двери табличку. Доктор наук, кажется… – Имею право, в конце концов!
Я знала, о каком праве абсолютно помимо своей воли и докторской степени он сейчас думал. Но продолжала серьезный разговор.
– А как же тайна психиатрической исповеди?
– Лика… – Костя как‑ то беспомощно вздохнул и приложил красивые, но очень уж небольшие руки к груди.
Что‑ то он хотел сказать мне, но не стал. И правильно. Что тут скажешь, если он со всех сторон сейчас неправ? Влюбляться он права не имеет – пусть детей своих растит и хранит верность жене, которая с ним живет не первый год. На прием к другой пациентке тоже по врачебной этике приглашать он меня не может…
Быстро, ничего больше не говоря, Костя прошел к двери, которую недавно отпер с помощью автоматизированной системы, широко открыл ее и приятным, спокойным голосом позвал:
– Надежда Львовна! Прошу вас.
В кабинет вошла эффектная, но уже очень немолодая дама с пышными, похоже, взбитыми волосами. Не люблю отгадывать возраст других женщин, ведь почти каждая после тридцати пяти хотела бы, чтобы это был самый большой секрет ее жизни.
Дама была хорошо одета, несла себя, как дорогой подарок, и при этом как будто не была уверена, что этот подарок сможет кто‑ то по достоинству оценить. Я увидела сомнение в ее глазах еще до того, как она обернулась и заметила меня.
– Я… – Она резко остановилась.
– Надежда Львовна! – предупредительно поднял руки Костик. – Это Лика, моя аспирантка. Она просто посидит с нами.
– Но это невозможно! – воскликнула дама резковатым голосом, как будто не попадая на нужные ноты. Есть такие голоса, звучащие, как фальшивая мелодия. Когда я их слышу, мне хочется попросить спеть еще раз, поточнее…
– Надежда Львовна, присаживайтесь. Лика учится у меня, понимаете? Учится мастерству. Ее ваши проблемы занимают… м‑ м‑ м… в меньшей степени. Вообще не занимают, поверьте мне! У нее другая тема.
– Какая же? – спросила Надежда Львовна, даже не подходя к стулу и нервно поглядывая на меня.
– Производственные конфликты в мужском коллективе и их решение, – безо всякой паузы ответил Костя.
Я постаралась сдержать улыбку. Что же это за коллективы такие? Воинская часть, что ли? Или рок‑ группы? Но ведь и там могут быть женщины. Остается – бригада заключенных, изготавливающих осветительные приборы или собирающих несложные запчасти для швейных машин… Или команда атомной подводной лодки.
Я кивнула. Что бы там ни пытался таким образом сейчас решить для себя Костик – пусть. Мне тоже стало интересно. Не в проблемы Надежды Львовны вникать, а разобраться в моих собственных – для начала понять, что думает о них опытный и неравнодушный ко мне психиатр.
Надежда Львовна все же села на стул, но на самый краешек.
– Поудобнее присаживайтесь, и лучше – вот сюда, – Костик показал на другой стул, мягкий, с подлокотниками, сев на который, его пациентка оказалась бы лицом ко мне. Или две пациентки оказались бы лицом друг к другу?
Надежда Львовна нехотя пересела. А я приготовилась слушать, смотреть и воспринимать чужой мир.
– Как вы сегодня спали? Не вставали ночью? – спросил Костик.
Надежда Львовна ему что‑ то ответила. Костик спросил еще и еще… А я через некоторое время перестала прислушиваться к разговору, потому что была поглощена другим: а я ведь ничего не видела и не слышала – что там внутри у Надежды Львовны происходит. Что болит, чего она боится, о чем страдает – то, что рассчитывал с моей помощью узнать Костик (если ему верить), и то, что должна была услышать я.
Вот и все? Кончился мой дар? Костя встревоженно взглянул на меня, я сделала ему знак, что все в порядке.
Да нет, так не бывает. Только вчера все было, как было… Еще когда я шла домой, проводив Женю Апухтина, я успела понять, задержавшись на минуту у киоска печати, что у продавщицы кончились сигареты, и если она сейчас не сбегает в ларек, и не купит пачку, и не закурит, то ей просто станет плохо.
Ей хотелось курить так, что она думала попросить мужчину, стоявшего рядом с киоском и только что закурившего и выбросившего пустую пачку, дать затянуться пару разочков. Глубоко вдохнуть ароматный дым, пропустить его через весь организм спасительной волной и с удовольствием, не сразу, выдохнуть. А закрыть киоск и отбежать она не могла – ждала постоянного покупателя, отложившего вчера три журнала на четыреста рублей. Журналы она должна была сдать еще вчера, и, если он не придет, хозяин может потребовать, чтобы она заплатила за них.
– У вас сигаретки не будет? – спросила я другого мужчину, стоявшего поодаль и тоже курившего в ожидании троллейбуса.
Он не очень довольно посмотрел на меня, но, увидев вполне приличную особу, достал пачку, открыл ее и протянул мне.
– Можно я две возьму? Спасибо.
Стараясь побыстрее отвернуться от его взгляда – слегка недоуменного и даже, как мне показалось, брезгливого (а что уж такого‑ то, собственно? ), я взяла сигареты и опять подошла к киоску.
– Какой там у вас номер «Дома и сада»? – спросила я продавщицу. И пока она, тяжело вздыхая, залезала на табурет, чтобы посмотреть номер журнала, я быстро положила ей эти несчастные сигаретки и вскочила в подошедший троллейбус.
Курить – здоровью вредить, это ясно. И ни одна настоящая фея не стала бы помогать человеку стрельнуть сигарету. Но я же не фея, я сама когда‑ то курила, правда, могла обходиться без сигарет. Не бежала ночью в киоск, если не было сигарет. Но я знаю, как нервничает отчим, когда мама, бдительно очистив все карманы и проверив допотопную авоську, с которой он ходит в магазин и за газетами, выбрасывает его заначки из‑ за батареи или из‑ под отвалившейся и неплотно прилегающей к полу паркетины. И тогда Петр Евгеньевич не находит себе места, начинает тосковать, звонить по давно несуществующему телефону первой жены – просто чтобы кому‑ то позвонить, кто может посочувствовать его бесправию и безысходной кабале…
Потом в троллейбусе я четко услышала ужасную музыку – громкий ритм и четыре ноты. И я бы подумала, что слышу звук из чьих‑ то наушников. Но музыка доходила до определенного момента, останавливалась и начиналась с начала. Мало того, я увидела, как под нее танцуют несколько девочек лет семи‑ восьми, в гимнастических черных купальниках. Танцуют что‑ то детское, плохо соответствующее этому дикому ритму. Мне показалось, что одна из девочек вдруг упала, неправильно подвернув ногу.
Оглянувшись, я увидела задумчивую молодую женщину, довольно милую, рыженькую, стоявшую у самого окна и рисовавшую на стекле какие‑ то замысловатые фигуры. Музыка прервалась, девочки начали танец заново, и рыженькая снова и снова чертила пальцем прерывистые линии. Потом она досадливо вздохнула, стерла все свои рисунки, и музыка в моей голове стихла.
Танец был такой чудесный, наивный, простой, и вид лежащей девочки с вывернутой ногой так мало соответствовал радости этого танца… Мне даже показалось, что, если бы не странная, неподходящая музыка, девочка не упала бы и не повредила бы ногу… Рыженькая вдруг как‑ то удивленно взглянула на меня и стала протискиваться к выходу.
Вдруг она тоже услышала мои мысли? У меня, кстати, раньше это часто бывало, но в основном в общении с детьми, когда я некоторое время пробовала преподавать литературу в школе. Иногда я совершенно четко понимала, что сейчас скажет мой ученик. Просто я не придавала этому такого значения. А может, и надо было, принимая во внимание, что прабабушку мою окрестили Колдушиной зловредные односельчане…
И я все‑ таки думаю, что история про кол и корову – гораздо более поздняя, чем бабушкина фамилия. Не прилипает уже в наше время ничего нового к имени человека, не становятся хромые Хромушиными, а глуховатые – Глуховыми. Это все тащится из глубины веков, из совсем другого мира и другого сознания человека, гораздо более детского и определенного по сравнению с нашим.
Кузнец ты – так и будут твои дети Кузнецовы, помещик твой Павлов, так и ты будешь Павловским. Палец оторвало твоему отцу – все его и твои дети будут ходить Беспалыми или Беспаловыми. Остается только удивляться, что на Руси столько Козловых, а Лошадиных нет. Был маршал Конев, но не очень популярная фамилия. Столько Котовых, а Собакиных гораздо меньше.
И моя бабушка все‑ таки, наверное, просто соответствовала своей фамилии, пришедшей к ней – к нам, получается теперь – из глубины веков. От какой‑ то давно забытой нашей родственницы, ни лица, ни имени которой я не знаю. Но догадываюсь, что колдовала и ворожила моя прапрапрабабуля, видимо, на всю катушку, всё про всех зная и понимая…
Однако сейчас, слушая Надежду Львовну, глядя на нее, я не видела и не слышала ничего, кроме ее ответов на вопросы Костика.
Он несколько раз вопросительно взглядывал на меня, но я пожимала плечами. Все, я больше ничего не вижу и не слышу – того, тайного, что не предназначено для моих глаз и ушей. И ладно. Пропал дар, так пропал. Исчез, испарился. Или перешел к тому, кто смог бы воспользоваться им по делу, а не сигаретками окружающих угощать.
Я как‑ то расслабилась, даже послушала довольно интересный разговор Костика с Надеждой Львовной. Он очень умело строил беседу, задавая вопросы так, что Надежда Львовна не имела никакой возможности отвлекаться от основной нити, по которой ее упорно вел Костик. А сама нить вела в хорошее, надежное будущее.
И Надежде Львовне только оставалось не сопротивляться, всеми ножками‑ ручками запутаться в Костиной сети и оказаться не сегодня – так завтра в прекрасном пространстве, где ее муж перестанет изменять с молодыми девушками, сама Надежда Львовна волшебным образом преобразится и не будет похожа на упитанную, тщательно накрашенную жабку.
Там, в прекрасном будущем, она никогда не станет кричать в ответ на раздраженные окрики мужа. Дети будут любить ее, как любили в детстве, – горячо и безоговорочно. А маленькие непритязательные коллажики, которые делает из обрезков ткани Надежда Львовна в свободное время – с цветами, ягодками, ангелочками и пряничными домиками, – станут открытием в современном искусстве. Все начнут покупать эти картиночки, вешать их у себя дома…
Надежда Львовна превратится в успешную художницу из никчемной, зависимой домохозяйки, вынужденной два раза в месяц писать отчеты своему родному мужу, все родинки, болячки и морщинки которого она знает наизусть и так давно, что все, что было до его болячек и родинок, кажется чужой жизнью. И она не будет больше никогда писать эти унизительные отчеты о каждой потраченной копейке, с подробным описанием купленного товара – не просто свечи, а от геморроя, не просто капли, а от климакса, не просто шампунь, а от облысения…
Сеанс как‑ то незаметно подошел к концу. Удовлетворенная и чуть раскрасневшаяся Надежда Львовна поблагодарила Костика и положила ему на стол две бумажки по сто евро. И это она тоже впишет сегодня мужу в отчет: «Визит к психоаналитику – 200 евро».
Когда она ушла, Костик спросил меня:
– Ну как? Что видела, что слышала?
Я лишь пожала плечами.
– Не хочешь говорить? – Костик расслабленно откинулся на своем большом кресле, похоже, настроившись на длинный разговор.
Я встала и пошла к выходу. Уже у дверей сказала:
– Я ничего не слышала, Костик, правда. Не знаю почему.
– Да и ладно! – довольно легко согласился Костя. – А куда ты собралась‑ то? Давай мы кофейку выпьем с тобой, поговорим… У меня следующий пациент только через час.
– В другой раз, хорошо? Мне на работу нужно. – Я уже открыла дверь, но все же обернулась и спросила: – Все понимаю, кроме одного. Шампунь‑ то для мужа, наверняка. У нее же самой такая шевелюра – на троих хватит. Так что же она стесняется – пусть так и пишет: купила тебе, мой лысеющий малыш, очень дорогой шампунь, чтобы ты не облысел вконец… Тщедушный, желчный, похотливый и жадный муж – какое неприятное сочетание.
Костя задумчиво посмотрел на меня и очень мягко спросил:
– Какой шампунь, Лика?
– Да тот, что она записывает в отчет о расходах!
– Мы не говорили о шампунях и расходах сегодня, Лика…
У меня спасительно звякнул телефон в сумке, я прикрыла дверь, кивнув Костику:
– Я сейчас!
А сама побыстрее взяла с вешалки свою куртку и поспешила уйти.
Значит, по заказу не получается. Получается только само собой. Это уже лучше. Точнее, это вносит некоторую ясность. Зарабатывать этим не получится. Меня попросят узнать, о чем страдает дочь‑ девятиклассница, почему она изгрызла все ногти и шариковые ручки, а я буду видеть новые стрижки для комнатных собачек, о которых думает ее мать, и ажурные трусики папиной новенькой секретарши…
Что видится, то и видится, по своим неведомым законам.
Глава 10
Выйдя на улицу, я перезвонила шефу, три пропущенных звонка которого увидела на телефоне. Для проформы отчитав меня (у меня ненормированный рабочий день и я, собственно, не совсем обязана с утра пораньше отвечать на все его звонки), он попросил:
– Не съездишь к Верочке? Пиши адрес…
– Я знаю ее адрес. А что случилось?
– Да родители поручили мне ее, уехали на несколько дней. Она вообще‑ то одна живет, но совершенно несамостоятельная… Мать ей обычно готовит на два дня, все привозит, белье забирает в стирку, и вообще, сама понимаешь, девочка молоденькая, как там и что…
– Я в курсе. Но вчера с ней все было в порядке.
«Если можно назвать порядком состояние безумной влюбленности в несвободного и, по всему ясно, не очень порядочного человека», – подумала я, но делиться с Вячеславом Ивановичем своими соображениями не стала.
– Вчера – да. А сегодня она с утра не поднимает трубку. Хотя я ей обещал очень интересный репортаж…
Я была практически уверена, что Вячеслав Иванович расстарался и действительно нашел для Верочки интересную тему, чтобы как‑ то отвлечь ее от взрослого и жестокого любовника. Если честно, то такая забота родственников друг о друге у меня вызывает только искреннее умиление. А как иначе? Кто же еще позаботится о потерявшейся в своей ненужной любви Верочке?
– Съездишь? – повторил шеф. – Я никак не вырвусь, совещание у главного…
Я вздохнула:
– Машину починю и съезжу. Будет очень смешно, если Верочка не откроет мне дверь, потому что…
– Звони, если что! – прервал меня Вячеслав Иванович и отключился.
А я так и не поняла, что больше встревожило любящего дядю – что Верочка может убиваться сейчас одна, или же что она вовсе не одна, а с утра пораньше, забыв о репортаже, о родственниках, обо всем, счастлива со своим Еликом, будь он неладен.
Я верю в хаотичность мира и ровно столько же – в его предопределенность. Разве одно исключает другое? Это как посмотреть… Есть ведь даже физический закон расширения хаоса, совсем недавно открытый одними учеными и практически сразу принятый другими, что бывает в науке не так уж часто. Поэтому я ничуть не удивилась, когда, купив на остановке журнал «Знание – сила» (все‑ таки хорошо иногда без машины – видишь жизнь совсем с другой стороны! ) и открыв его на первой попавшейся странице, я прочитала дословно следующее: «Физиологи Лондонского университета изучили десять человек, у которых активизируется определенная часть мозга в ответ на болезненные (как физические, так и эмоциональные) переживания другого человека, причем чужую боль испытуемые не имеют возможности воспринимать обычными органами чувств…»
Вот это да! Так значит, ничего сверхъестественного со мной и не произошло? Надо просто больше читать (а не писать самой). Не купи я этот журнал, я бы и не знала, что на Земле есть и другие люди, испытывающие такие же ощущения, как я. Вот бы с ними встретиться… А хотя – зачем? Чтобы создать общество колдунов и магов, читающих чужие мысли? Как бы это общество тут же не подгребли себе на службу силовые структуры, в качестве детекторов лжи, к примеру. А еще лучше – «советников» президентов, молча присутствующих на переговорах. Все узнавать про их планы и заодно про наши. И сидеть потом с военизированной охраной на какой‑ нибудь фешенебельной даче в плену – до следующего «сеанса». Нет уж, спасибо, не надо.
Мои мысли вернулись к действительности – Верочка. Не скажу, что мне очень хотелось к ней ехать. Я прикинула – троллейбус, метро, и там тоже троллейбус либо пешком минут пятнадцать. А хотя… Ведь это тоже надо когда‑ то делать. Я так давно не ездила в троллейбусе, привыкнув пользоваться машиной, что вчера не могла сообразить, как совать билетик в турникет… Я вообще первый раз ехала в троллейбусе с турникетом! Я, москвичка, журналистка, пишущая на социальные темы в том числе и обязанная вообще‑ то быть в курсе городских новостей… – Да пролезай уж снизу! – сказала мне вчера в сердцах какая‑ то дама в потертой песцовой накидке, вместе со всеми пассажирами наблюдавшая, как я маюсь с билетиком. – Едут‑ едут в Москву, пока она не лопнет… Давайте все сюда приезжайте, а всю Россию китайцам с американцами отдадим! А сами‑ то все будем жить в Москве, на головах друг у друга! Пить водичку из Москвы‑ реки, в которой трупы бродячих собачек плавают, как рыбки в аквариуме… и фекалии из коттеджного поселка…
Я заслушалась даму в накидке, плавно перешедшую на тему страшного социального расслоения, неведомого даже индийцам. Так заслушалась, что забыла, зачем в троллейбус вошла. Наверно, бывшая преподавательница обществоведения в каком‑ нибудь техникуме. Донашивает старую меховую накидку в общественном транспорте и пытается как‑ то разобраться с помощью заброшенных, но вовсе никем не опровергнутых марксистских схем, что же с нами со всеми сегодня происходит.
К Верочке было далековато идти от метро, но я все же пошла пешком, по широкому бульвару, думая прогуляться. Но уже через несколько минут поняла, что это была ошибка. По обе стороны бульвара плотной вереницей медленно двигались машины, и воздух был отравлен настолько, что нельзя было глубоко вдохнуть. Как странно. Всего за несколько лет жизнь в Москве изменилась настолько, что я, глубоко патриотичная москвичка в седьмом или десятом поколении, родившаяся и выросшая здесь, стала подумывать – а не уехать ли мне? Вот куда только? В маленький провинциальный городок, тихий, сонный, с неизменными теперь атрибутами нового времени – игровым клубом, маскирующимся под «букмекерскую контору», одним захудалым рестораном, парой банков, аптек и магазином электроники? Не факт, что там будет книжный магазин и кинотеатр, и уж точно не окажется выставочного зала.
И что я там стану делать? Дышать свежим воздухом? Чтобы клеточный обмен происходил так, как было задумано природой миллионы лет назад, чтобы мои клетки не старели и не умирали в два раза быстрее от ядовитого воздуха и грязной воды? Может быть… Надо начинать подыскивать себе такой городок. Если бы у меня был ребенок, я бы точно увезла его из Москвы, так мне кажется.
Глава 11
Верочка долго не открывала дверь, так долго, что мне пришлось несколько раз громко постучать. Все‑ таки это вернее, чем звонок. Мало ли кто может звонить. А стучит обычно полиция, или служба спасения, или очень разъяренные соседи… И точно, я услышала тихие шаги и слабый голос:
– Кто там?
– Я. Верочка, открой, пожалуйста. Это я, Лика.
Верочка помолчала и потом спросила:
– А что вы хотели?
– Можешь называть меня на «ты», – вздохнула я. – Дверь открой, пожалуйста, здесь очень неприятно пахнет из мусоропровода.
Верочка щелкала‑ щелкала замками и, наконец, распахнула дверь. Судя по всему, Верочка плакала так долго, что ее сейчас по форме распухших глаз можно было принять за представительницу другой расы. От милых круглых серых глазок остались две узкие щелочки, еле видные между багровыми, распухшими плюшками век. Некрасивое зрелище, прямо скажем.
Не спрашивая разрешения, я скинула куртку и, взглянув на давно не мытый пол прихожей, просто вытерла ноги о несвежий, криво лежащий коврик и прошла в комнату.
Боже мой! Как хорошо, что я никогда не знала такой любви, как Верочка! Похоже, что она, переживая какие‑ то бурные события своего романа (а иначе и не бывает, насколько я знаю, с женатыми мужчинами – все остро, бурно и крайне трагично для искренне влюбленных девочек), что‑ то писала и тут же рвала это.
По всей комнате разлетелся пух из порванной подушки – прогрызла, что ли, ее Верочка? – и вместе с разбросанными колготками и трусиками неровным ковром покрывал паркетный пол… На столе стояла открытая и наполовину выпитая бутылка вина, вторая, пустая, валялась под столом. Я прочитала на этикетке «сладкое крепленое» и покачала головой.
– Ты себя нормально чувствуешь? – спросила я растерзанную Верочку.
Та всхлипнула, но довольно недоброжелательно ответила мне:
– Нормально! – и даже ушла от меня в другой конец большой комнаты.
Конечно, помешала ей страдать.
– Собирайся, – я кивнула Верочке, видя ее в большое зеркало на стене.
Зеркало над кроватью (она же разобранный диван), было забрызгано чем‑ то светлым, причем с одной стороны. Скорей всего, просто Верочка давно не убиралась, сказала я сама себе и побыстрее отвернулась от зеркала, чтобы мои любопытные мысли ненароком не побежали дальше, по мутной дорожке чужих скабрезных тайн.
– Что вы хотите от меня? – нервно крикнула Верочка и достала сигарету из пачки.
Я не чувствовала табачного запаха в квартире и очень удивилась. Но Верочка, вместо того чтобы закурить, взяла и съела длинную белую сигаретку. И предложила мне:
– Хотите?
Теперь я уже увидела, что это жевательные конфеты, сделанные в такой оригинальной форме. Я, чтобы поддержать Верочкин порыв, тоже съела одну конфетку, сладкую и довольно противную, и повторила:
– Собирайся. Дядя посылает тебя на какое‑ то интересное задание. Ты ведь хотела быть журналисткой?
– Нет! – крикнула мне в ответ Верочка и для верности бросила пачку сигаретных конфеток в стену. Конфетки рассыпались, очень добавив к живописной картине на полу.
– Надо же, – заметила я, – а вчера ты мне показалась спокойной девочкой. Даже равнодушной.
– Нет! – повторила Верочка. – Не хочу я быть никакой журналисткой!
– А кем же ты хочешь быть? – вздохнула я, присаживаясь на край кровати, застеленной ярким голубым бельем. Еще можно было бы сесть в кресло, но на него был вывален целый пакет Верочкиных лифчиков, красивых, разноцветных.
– Домохозяйкой!
– Супы варить хочешь? – удивилась я.
– Супы варят домработницы! А домохозяйки – это… жены! Они… У них… А! – Верочка махнула рукой, имея в виду, что разговаривать со мной смысла нет.
– А живут эти домохозяйки где? На Рублевке? – наконец догадавшись о Верочкиной мечте, спросила я.
Верочка опять скривилась, как будто я сказала какую‑ то глупость. Да, правда, они живут в разных местах – и в Барвихе, и в «Алых парусах», и в «Триумф‑ паласе», и на Балеарских островах – эти «домохозяйки»… Слово‑ то какое!
– Ладно! Все равно собирайся! Дядя уже договорился, что ты приедешь.
– Да не поеду я никуда! – опять стала повышать голос Верочка. – Вы же ничего не понимаете!.. Елик мне вчера сказал, что… – и Верочка зарыдала.
Я ждала, пока Верочка перестанет плакать, и с удивлением чувствовала, что Верочку мне почему‑ то ничуть не жаль. Может быть, потому, что я упорно представляла себе того Елика, которого встречала как‑ то на фуршете, гладкого, наглого, лживого, и которого как‑ то невольно ассоциировала с Верочкиным любовником – а это ведь мог быть вовсе и не он. Но если это он, то пусть Верочка поплачет, ей, видно, есть о чем плакать – то ли Елик не взял ее в домохозяйки (у него ведь уже есть одна), то ли еще что… Пусть поплачет и забудет.
У меня как‑ то резко заболела голова. Я подошла к окну. Хороший вид. Точнее, хороший вид здесь когда‑ то был. Огромный парк, за ним – прекрасная панорама Москвы. Но сейчас из окна тянуло тяжелым перегаром отработанного машинного масла и бензина, и по краям парка велась нескончаемая стройка. Рядом с недавно построенным домом, на котором еще висели плакаты о продаже квартир, рыли огромный котлован и висела привлекательная картинка, похоже, сорокаэтажного десятиподъездного небоскреба на фоне чистого голубого неба… Такого неба над Москвой уже нет, и не знаю, будет ли при моей жизни.
Виски все сжимало и сжимало. Я подумала, не попросить ли у Верочки кофе, как вдруг внезапно поняла: его же надо просто – сжечь! Облить забор коттеджа бензином, залить монтажной пеной замки у двух калиток в заборе и у гаражных ворот, и еще… Еще можно бросить горящую паклю прямо во двор. Дом с одной стороны стоит так близко к забору… Деревянный дом загорится быстро! Заполыхает быстрее, чем кто‑ то успеет сообразить, вызвать пожарную службу… Беременная жена со своим огромным пузом будет долго спускаться по длинной изогнутой лестнице со второго этажа… Не успеет она дойти вниз! Не успеет! И Елик будет метаться внутри горящего дома, смотреть, как языки пламени окружают его дом, кровавым фоном заслоняя привычный вид на сосновый лес и церковь Троицы…
Помолись, помолись, Елик, тебе не выбраться из этого дома, где ты так подло врал, так унизительно заставлял девочку, любящую тебя больше своих родителей, больше жизни, больше самой себя, изображать из себя проститутку! Ты будешь кричать от боли, как кричала она, когда ты сказал ей эти ужасные слова, за которыми нет ничего – пустота и бессмысленность… Все бессмысленно, когда возьмут твою душу грязными руками, покрутят туда‑ сюда, рассматривая и посмеиваясь, и бросят за ненадобностью, вместе с пустыми бутылками и очистками от колбасы, в мусорное ведро.
Ты именно так поступил, Елик! И ты должен теперь сгореть. Есть же какая‑ то справедливость в мире! Почему ты делаешь так больно и продолжаешь хорошо жить при этом, сытно кушать, сладко спать, ненароком наступив на тонкую беспомощную шейку, так доверчиво прильнувшую к тебе, и не услышав, как хрустнула сзади и переломилась эта не нужная никому теперь жизнь…
А когда приедут пожарные, им останется только поливать обгорелый остов дома и кирпичные столбики забора. Помнишь, как ты первый раз привез ее сюда и сказал: «Вот, любовь моя, хочу, чтобы ты ходила здесь всю жизнь своими нежными ножками и радовала меня…»
Ничего не останется от тебя, ничего! И не родится у тебя сын, которого ты, оказывается, так ждешь! Зачем ты тогда возил сюда девочку, зачем мучил ее, если и не собирался разводиться с женой, зачем врал, зачем учил всяким гадостям, зачем, зачем…
Я с трудом очнулась от внезапно навалившейся на меня картины и резко обернулась к тихо сидящей сейчас на диване Верочке. Бледные губы ее были плотно сжаты, глаза смотрели в одну точку перед собой, и лишь тонкие ручки непрестанно перебирали что‑ то в воздухе, словно она пыталась, не глядя, разобрать какие‑ то перепутавшиеся нити…
Я подошла и села перед ней на корточки. Верочка равнодушно взглянула на меня и отвела глаза.
– Тебе сколько лет? Двадцать?
– Восемнадцать, – бесстрастно ответила Верочка и вдруг, набрав полную грудь воздуха и задрожав, разрыдалась. – Я не знала! Я ничего не знала! Он говорил… А на самом деле… И у меня ведь… Но я не буду… Нет! Он говорит, но я не… Как я скажу маме?!.
Верочка захлебывалась от слез и говорила невнятно и путано. Но я все поняла. Сидя рядом с ней на корточках, я чувствовала в ней вторую жизнь. Чувствовала тепло, тяжесть и беспомощность этой новой маленькой жизни.
Я пересела на диван и обняла девочку.
– Не плачь, пожалуйста. Вот у меня нет детей. И мне очень плохо от этого. А у тебя будет. Зачем тебе еще какой‑ то дурацкий Елик? У тебя молодые мама с папой, они будут рады малышу, он для них будет как ребенок.
– Ты что? – Верочка аж задохнулась. – Им нельзя ничего говорить! Они даже не знают, что я с ним… что я не девушка…
– Конечно, – кивнула я. – Ты живешь одна, Елик снимает тебе квартиру просто так, и мама с папой ничего не знают. А даже если так? Узнают.
– Они меня заставят… – Верочка затряслась от слез.
– Не заставят, – покачала я головой. – Нет. И ты не сделаешь этого. Будет у тебя малыш. Прелестный, чудесный, похожий на тебя, будет тебя любить. Будет расти, удивлять тебя, радовать… Будет держаться за тебя ручками много‑ много лет… И забудешь ты Елика, как будто его не было. Уверяю тебя.
– Откуда ты знаешь? – вскинулась Верочка.
Действительно, откуда я знаю? Я улыбнулась:
– И про пожары всякие забудь. Не наше это дело.
– Никто его тогда не накажет! Все несправедливо! Он так и будет жить! Всё сходит ему с рук, мне рассказывала домработница, у него до меня тоже одна девушка была, потом плакала ходила, а он ее выгонял…
– Все несправедливо, – кивнула я. – Так устроен мир. Но ты не наведешь в нем справедливости, тем более таким способом. Ты можешь спалить его дом, у тебя получится, я уверена. Но тебя посадят в тюрьму на пятнадцать лет, и твой малыш родится в тюрьме, у тебя его заберут, и он будет расти без тебя.
– Меня не поймают! – Верочка подняла на меня почти безумные глаза.
– Обязательно поймают. Хотя я верю, что ты все очень хорошо придумала. И, кстати, советую тебе все это записать. Получится интересный рассказ. Твой дядя с удовольствием пристроит его напечатать – не у нас в журнале, так в другом месте. Ты сочинения хорошо в школе писала?
– Плохо, – вздохнула Верочка.
– Тем более. Получится оригинальный рассказ, не похожий на другие, не банальный.
– А… – Верочка хлюпнула носом, высморкалась в мокрую истерзанную салфетку и вдруг спросила: – А как его начать?
Я засмеялась:
– Да так и начни:
«Я подошла к забору, стараясь не попасть в свет фонаря, и достала плоскую канистру бензина. Резкий запах ударил мне в нос. Как странно все‑ таки пахнет бензин. Чем‑ то не существующим на земле и давно забытым… Капля бензина попала мне на сапоги. Когда я покупала сапожки, модные, похожие на маленькие тупые топорики с тусклыми медными пряжками в форме неправильных сердечек, я еще не знала, что скоро, очень скоро приду в этот дом совсем с другой целью…»
– Я запишу? – покорно спросила Верочка.
– Запиши, – кивнула я. – Только оденься сначала.
– А дальше там что будет? – Верочка все же встала и потянулась за розовым пушистым свитером, валявшимся на кресле.
– Дальше героиня подожжет дом и, когда он загорится, поймет, как ужасно она поступила.
– И спасет всех?
– Не думаю. Скорее, будет стоять и смотреть на пламя, поглощающее в себя все ее обиды, разочарования, беды…
– А потом?
– Потом – суп с котом! Сними‑ ка этот свитер!
– Почему? – Верочка погладила мягкую шерсть, нежно обтягивающую ее маленькую неразвитую грудку.
– Потому что тебе в нем себя жалко. У тебя есть что‑ нибудь… нет, не черное… желтое или красное? Раз уж тебе так хочется огня.
Верочка подошла к большому шкафу и распахнула его.
– Вот, мама мне купила модный комплект, но он мне не нравится, агрессивный очень.
– Для поджигателя как раз сойдет! – усмехнулась я. – Надевай, надевай, посмотрим…
Верочка надела белую блузку с утрированно длинными манжетами, темно‑ серую жилетку из плотной ткани и черные обтягивающие джинсы.
– Ну вот, другое дело! Скажи, уже не так себя жалко?
Верочка взглянула в зеркало и попыталась опять заплакать.
– Жалко… – проговорила она и вдруг улыбнулась сквозь слезы. – Вы как психотерапевт, да? Я смотрела в одном фильме…
– Да прямо! – отмахнулась я. – Психотерапевт… Я – как большая, умная подружка. Или старшая сестра. Все, времени нет. Пойди умойся.
– А краситься?
– Так сойдет! Опоздаем. Мне, знаешь, сколько надо сегодня еще успеть! А тебе, кстати, зачем краситься? Вводить в искушение других Еликов? Мальчикам твоего возраста ты и так понравишься.
Верочка вздернула носик, хотела мне что‑ то ответить, но засмотрелась на себя в зеркало и отвлеклась. Понравилась, видимо, себе в новом наряде. Вот и ладно. Понравиться себе – первый шаг в другую сторону от несчастной любви.
Глава 12
– Справилась? – Вячеслав Иванович, кажется, не сомневался, что я буду заниматься личной жизнью его племянницы. – У нее все в порядке?
– Почти. Вот стоит готовая, ждет редакционного задания. Я даю ей трубку.
– Давай! То есть… Нет! Лика, а ты… гм… У тебя сегодня что?
– У меня сегодня рабочий день, Вячеслав Иванович.
– Вот именно. Поэтому поезжай‑ ка ты с Верой к Селиванову, то есть Селиверстову, или как его там, в общем, к банкиру этому… Я хотел, чтобы она сама, но что‑ то теперь сомневаюсь. А с ним с таким трудом договорились об интервью…
– А банкиру есть что рассказать миру? Можно так и назвать, кстати. Со знаком вопроса.
– Борга! – тяжело вздохнул Вячеслав Иванович. – Ну что ты, как с другой планеты, честное слово! Да, людям интересно знать, как можно заработать очень большие деньги…
– Очень большие деньги практически нельзя заработать, их можно только украсть. У всех сразу. Или у кого‑ то лично. Вы же понимаете, я не буду писать того, чего нет.
– Да уж как не понимать, – опять вздохнул Вячеслав Иванович. – Поезжай, а? Колоритный, говорят, дядька. Судьба интересная. Из грязи в князи, как говорится… Покажи там Верочке, как да что, ладно? Ты же умеешь…
Вячеслав Иванович отключился, не дожидаясь моего «ладно». И действительно, как я скажу «нет», услышав про интересную судьбу?
Любая поездка по Москве в последнее время превращается в длинное, наполненное яркими эмоциональными впечатлениями путешествие. Например, как сократить дорогу, проехав сквозь тупиковый двор? Или, рискуя лишиться прав, по односторонней дороге в обратную сторону задом? Я уж не говорю про волнительную езду по встречке, по тротуару и в обгон машины ГИБДД, и так едущей с предельной скоростью… Можно, конечно, заменить это медленным, мучительным движением в пробке со скоростью пешехода, идущего из точки А в точку Б, – пять километров в час… Можно даже и не мучиться, а болтать по телефону, или слушать музыку, или болтовню моих товарищей на радио, или аудиокнижки. Но я, к примеру, не люблю, когда мне читают вслух. Отвлекаюсь на плохую дикцию, нелогичные ударения, выспренность тона… Чаще всего в пробках меня охватывает ощущение неправильности и странности нашей сегодняшней жизни, и я ощущаю себя беспомощной частицей потока, оказавшейся не в том месте и не в то время. Я начинаю думать про всемирные катастрофы, про гибель древних цивилизаций, от которых не осталось ничего, и мы не только не знаем, отчего они погибли, но часто и не верим, что они были, про сегодняшнюю перенаселенность отдельных участков суши, про глобальное потепление, таяние льдов Антарктиды, про грядущие войны за перераспределение земель и их богатств. Мне становится плохо от этих мыслей. Поэтому я предпочитаю в пробки не попадать. А попав – пытаюсь припарковаться и добираться до места иным способом.
Вот и сейчас, потратив полчаса на шиномонтаж моей машины, пораненной озлобленным дядей Павликом, мы отъехали с Верочкой на два километра и встали в глухой пробке.
– Лика! – позвонил мне очень кстати Леня Маркелов. – Ну слушай, вчерашняя передача такой резонанс имеет. От тебя все просто тащатся!
– Лёня, говори по‑ русски, а то не приду больше… – Я взглянула на насупленную Верочку и не стала продолжать.
– Тебе самой от себя не противно? – засмеялся Маркелов. – Говорю, как говорю. Комплиментами, между прочим, говорю, старомодными и приличными. Ты просто не в курсе.
– Жесть! – вздохнула я.
– Вот именно! Давай, приходи сегодня. Еще чему‑ нибудь научим.
– А тема какая?
– Тема? – хмыкнул Леня. – А, ну да. Тема… сейчас… Светка! Какая там у нас сегодня тема для болт… гм… для эфира? Чего‑ чего? Да нет, Борга придет, ей надо что‑ то поприличнее. Да, вот это давай. Темы две: «Надо ли разводиться с мужем, если он точно импотент». И вторая: «Лучше ли стало Москве от новых дорог» – Звенигородское шоссе, многострадальная Ярославка, Ленинградка, четвертое кольцо и так далее. Серьезней не бывает. Ты как, в теме?
– Абсолютно, – уверила я Леню. – Особенно насчет импотентов.
– Что‑ то очень личное?
Я засмеялась:
– Только наблюдения – как связано внешнее поведение мужчины, цвет его одежды, агрессивность одеколона, даже ненормативность лексики с мужской слабостью.
Леня крякнул:
– Да? Ну… Вот и поговорим.
– Знаешь, я была бы не против поговорить о чем‑ то более духовном. Тут две выставки концептуальные есть, нескучные, одна просто на грани фола. Или книжка новая Гауденича. Знаешь, да? «Как вывезет кривая». Читать тошно, но есть о чем подумать потом.
– Ага‑ ага… Здорово… Только давай это в следующий раз, ладно? Все, лапуся, целую‑ обнимаю, и ждем тебя с подписанным договором в пять нуль‑ нуль, ага? Эфир в восемнадцать ровно. Когда народ попрёт с работы.
Я взглянула на притихшую Верочку.
– Хочешь со мной опять на радио сходить?
– Сейчас? – спросила Верочка, явно думая о своём. Мыслей ее я не слышала, но догадаться было не трудно.
– Сейчас мы идем брать интервью у банкира, который давать интервью не любит, но сделал исключение для нашего журнала. Тебе интересно?
Верочка пожала плечами:
– Интересно.
– Понятно. А мне интересно. Во всех отношениях. Адрес, кстати, еще раз мне скажи… Улица Василевского, а дом?
– Дом пять, квартира сто двенадцать… – покорно прочитала Верочка по бумажке.
– Подожди, почему квартира? Мы едем в банк, дай‑ ка сюда записку… А телефон есть?
– Не знаю.
Я быстро набрала телефон редакции.
– Вячеслав Иванович, можно уточнить адрес банкира?
– Просили, кстати, без опозданий, имей в виду! Так, адрес и телефон…
– А почему квартира‑ то?
– Не знаю. Как дали… Что? – Я услышала, как ему что‑ то подсказывает секретарь, как обычно, машинально слушавшая все разговоры шефа. – Вот говорят, он хотел в неформальной обстановке.
– Но рабочий день вообще‑ то, чудно как‑ то…
Все объяснилось очень просто. Подходя от метро к дому интересующего нас банкира, мы прошли как раз мимо банка с его же фамилией. «Сутягин‑ концепшн» – назывался этот банк. Мне хорошо была знакома фамилия. Мир тесен, Земля маленькая и круглая – если выйдешь из пункта А, то через двадцать лет обязательно в него же и придешь, со скоростью любознательного пешехода. Когда‑ то человек с такой же фамилией занимал все мои мысли и чувства. Это было очень давно. Но с тех пор, как бесславно окончилась та история, мужчины, пожалуй, перестали меня сильно занимать. Мне даже иногда казалось, что вся любовь, отпущенная мне на земле, ушла на одного человека и больше просто искать ее негде – ни в себе, ни вовне.
И дом я тот видела раньше, точнее, иногда проезжала мимо него. Один из первых домов, построенных в нашем округе для тех, кто сумел быстро встать над головами остальных соплеменников. Красивый голубой дом с интересным архитектурным решением, непременными башенками наверху, огромными эркерами, окнами до пола и прочими атрибутами некоей новой концепции жилья.
Дом – это не просто место, где в тесных шкафчиках хранятся твои сезонные вещи, где можно передохнуть после долгого рабочего дня и перекусить утром и вечером, в воскресенье полежать на старом диване или прибить отвалившуюся полочку, смахнув пыль с книжек и полированной ракушки, привезенной пятнадцать лет назад из Коктебеля…
Дом – это особый мир, просторный, уютный или впечатляющий – в зависимости от вкуса хозяина, новая реальность, которая творится по нужным тебе законам. Ты можешь сделать это сам, можешь пригласить дизайнера, чтобы спланировать пространство, освещение. Это ведь так важно, именно это создает ощущение простора, воздуха в доме или наоборот.
Судя по времени, на которое нам было назначено интервью, банкир ходит домой обедать – вот и в бескрайней, аморфно расползшейся по бывшим холмам, перелескам, а также отстойным канавам Москве можно создать себе иллюзию тихой жизни благополучного среднеевропейского бюргера. Пешочком до работы по малолюдной улице (движение в одну сторону, три «лежачих полицейских» напротив школы), пообедать дома, а после, за чашечкой кофе, рассказать миру о своих жизненных достижениях, ненароком показав и кусочек своей квартиры. Если человеку действительно очень хочется рассказать о себе, это понятное решение.
Ничто так не скажет о человеке, как место, где он каждый день надевает ботинки перед выходом на улицу, где он вечером пьет чай или пиво, смотрит на себя в зеркало… Довольно странно, конечно. Почему бы не встретить журналистов, которых он к тому же терпеть не может, у себя, но в деловой обстановке, на работе, в стильном дорогом кабинете? Правда, Вячеслав Иванович предупредил меня, что «дядька чудной». И надо быть готовой ко всяким сюрпризам.
Маленький, великолепно спланированный двор вокруг дома. Идеальная чистота дорожек. Настороженный охранник, видевший, как мы с Верочкой подошли пешком, а не подъехали на машине. Красивый подъезд, отполированный пол и стены, возможно, из натурального туфа или мрамора. Бесшумный скоростной лифт с легким запахом апельсина, с блестящими хромированными панелями, на которых никто не передавал никому привет, и музыкальным сопровождением прибытия на этаж. Здорово, разве нет? Каждый день прибывать на свой этаж под аккорды Вивальди. Кто бы отказался так жить? Сейчас узнаем рецепт благополучной жизни…
Дверь нам открыла аккуратно одетая женщина лет пятидесяти, по всей видимости, горничная.
– Алексей Егорович ждет вас.
Я слегка напряглась, услышав имя. Алексей… Да еще Егорович… Тот Сутягин, которого я слишком хорошо знала когда‑ то, тоже был Алексеем Егоровичем. Понятно, что это не он, тот деньги считать никогда не умел, тем более, что он уехал в Америку и там остался навсегда, но все равно совпадение очень уж тревожное. Просто так подобного не бывает.
Пока я думала, а не снять ли нам вопреки европейской моде, наверняка заведенной в этом доме, ботинки – уж слишком чистый и сверкающий пол расстилался под нашими ногами, горничная с любезной улыбкой указала нам на деревянный ящичек у дверей с механическими щетками и влажной поверхностью встроенной губки, на которой можно вытереть подошвы.
Я взглянула на Верочку – она чуть раскраснелась и с явным любопытством смотрела по сторонам. Да, смотреть было на что. С самого порога мы попали в очень хорошо спланированный, внешне просто прекрасный мир.
Теплый свет, льющийся из‑ под потолочных панелей, удачно подобранный переход цвета на стенах, темные деревянные рамы дверей, ненавязчивые и очень стильные предметы, украшающие огромный холл, – светильники из необычного стекла, картины, прозрачные напольные вазы… Начало впечатляющее. Кажется, банкир заранее знает, как мы, точнее я, должна писать о нем для миллионов читателей. Ведет меня по удобной для него дорожке.
В дверях в конце холла появился мужчина, и у меня стукнуло сердце. Этого еще не хватало…
Алексей Сутягин, которого я когда‑ то знала так близко и хорошо, как никого на свете, не торопясь подошел к нам и улыбнулся:
– Пресса приятна и мила… и крайне пунктуальна…
Он переводил глаза с Верочки на меня. На мне чуть задержал взгляд, удивленно шевельнул бровью… и не более того. Не узнал, скорей всего.
Я очень изменилась. Коротко стригусь, практически не крашусь, стала носить узкие разноцветные очки, больше для декоративности и уверенности за рулем. Думаю, очки меняют сильнее всего, – и глаза скрывают, и изменяют общий облик человека. Не случайно же в фильмах, чтобы сделать привычно неотразимого актера еще и трогательным, и вызывающим доверие, ему надевают очки. Не знаю, насколько трогательной я стала в очках – думаю, что вряд ли, – но с тех пор как я время от времени их надеваю, многие прежние знакомые с ходу меня узнавать перестали.
Мы сели напротив Сутягина на пружинящий кожаный диван. Светлая нежная кожа дивана так и манила положить на нее руку, ощутить мягкую, чуть холодящую поверхность…
– Вам удалось добиться внешнего благополучия. Довольны ли вы своей судьбой на самом деле? – прочитала Верочка первый вопрос из тех, что я ей подсунула.
– Вполне, – опять улыбнулся Алексей Егорович, глядя при этом на меня. – А вы?
– Я? – Верочка тоже посмотрела на меня.
– Мы довольны, что можем взять у вас интервью в неформальной обстановке, – ответила я за Верочку и слегка подтолкнула ее локтем, чтобы та читала вопросы дальше.
Верочка, как прилежная школьница, выпрямила спинку, взяла в руки блокнотик и прочитала мой второй вопрос:
– Приятно ли вам осознавать, что вы живете лучше, чем подавляющее большинство людей в стране?
– Дальше, – кивнул Алексей Егорович.
Верочка вопросительно взглянула на меня, слегка покраснев. Я пожала плечами. А он хотел, чтобы мы спрашивали, как он относится к нанотехнологиям и концептуальной живописи, что ли? Спросим, если хочет. Я показала Верочке на один из последних вопросов.
– Как вы считаете, современное искусство отражает конец нашей цивилизации или, наоборот, ее переход на некий новый уровень, язык которого… – Верочка потеряла мысль и встревоженно взглянула на меня. Я кивнула: «Читай, читай. Всё в порядке! » Она тоже кивнула и продолжила: – …был бы… был бы непонятен людям, жившим, скажем, пятьсот или тысячу лет назад?
– Мне кажется, они бы так же недоумевали, глядя на некоторые картины или скульптуры, как и я, – ответил Алексей Егорович не очень любезно.
Удивительно, как многие известные или просто успешные люди знают, о чем их должны спросить, а о чем – не должны. Считают, что на это право они тоже заработали? Говорить только о том, что лично им интересно и выгодно… Впрочем, возможно, так оно и есть.
– Так что же вы хотели бы сказать нашим читателям? – как можно спокойнее спросила я, чувствуя, что мое волнение, появившееся при виде Алексея Сутягина, ничуть не улеглось, а наоборот, стало усиливаться.
Именно так он действовал на меня когда‑ то давно, в другой жизни. Я могла сердиться на него, обижаться, могла пытаться забыть и встречаться с кем‑ то другим, но, лишь завидев его, услышав его голос, я как будто попадала в некое поле, удивительно хорошее и приятное, как в невидимую, но мощную ловушку.
Мы поговорили еще. Алексей Егорович предложил нам кофе, провел по квартире, показал красивую гостиную с видом на север Москвы – не лучший вид, прямо скажем. Показал большую библиотеку с дорогой мебелью, свой кабинет в классическом английском стиле. Я сделала несколько фотографий Алексея Егоровича на фоне библиотеки и собрания статуэток.
Что‑ то он хотел сказать нам, показывая, как хорошо дизайнер продумал интерьеры его дома, и как дорого сам он заплатил за всё это.
За чашкой кофе мы попытались продолжить разговор. Верочка взяла листочек, Алексей Егорович, не скрывая улыбки, посмотрел на меня:
– Вы не знаете, о чем говорить? Вам дали вопросы?
– Да, именно так. Нас просили узнать, как же вы заработали так много денег? Чем вы занимались? Вы же никогда не любили считать деньги.
– Я их и не считал. Я их продавал. – Алексей Егорович тонко улыбнулся и откинулся на высокую спинку шелкового кресла. – И, собственно, продаю сейчас. Очень нужный бизнес.
Он, конечно, постарел. Так же импозантен, ему даже идет возраст. Но стал чуть обвисать подбородок… Наверно, временами поправляется, потом сгоняет лишние килограммы. Дети… Что‑ то в доме не заметно следов детей. Надо спросить.
– У вас есть дети? – спросила Верочка, когда я незаметно показала ей на один из многих пропущенных вопросов.
– Дети… – Алексей Егорович потянулся. – Да, я очень люблю детей. Вот Лика, которая прийти‑ то пришла, но все больше помалкивает сегодня, об этом хорошо знает. Правда, Лика?
Первый раз он посмотрел мне прямо в глаза. Или я первый раз их не отвела. Да, я, конечно, об этом знаю. Мы и расстались когда‑ то после того, как он узнал, что детей, по крайней мере своих, у меня никогда не будет.
Верочка ничему не удивлялась. Чудесное свойство. Интересно, в какой профессии оно могло бы сгодиться? Удивлялась – я, самой себе. Как я могла так опрометчиво, не узнав толком, что за человек, к которому мы идем на интервью, отправиться к нему домой… Обычно я тщательно готовлюсь к интервью, а тут, не рассчитывая ни на что интересное, решила схалтурить и положиться на свой большой и разнообразный опыт – с кем мне только не приходилось беседовать! Что уж тут разузнавать про какого‑ то банкира, заведомо не слишком мне интересного!
– У меня три дочери, – продолжал тем временем Алексей Егорович, как мне показалось, радуясь моему замешательству. – И все от разных жен. Со всеми дочерьми у меня прекрасные отношения, как, впрочем, и с женами. Сейчас моя третья жена ждёт еще ребенка, очень надеюсь, что это будет мальчик.
– А если будет девочка, вы будете ее любить? – спросила вдруг Верочка тихим голосом.
– Буду, – ответил Алексей Егорович и поднялся с кресла. – Вы простите меня, милые дамы, мне нужно на службу. Мой секретарь пошлет вам, Лика, или вам, – он слегка кивнул Верочке, – простите, не понял, как вас зовут, статью, которую я хотел бы видеть о себе в вашем журнале. А сейчас – всего доброго!
Появившаяся тут же горничная проводила нас до дверей и даже подала одежду. Мне, воспитанной в советское время, всегда неудобно, когда один человек прислуживает другому. Думаю, я не привыкну к этому уже никогда. Но Верочка, кажется, была всем довольна и даже не очень поняла, что разговора у нас с Алексеем Егоровичем не получилось.
Интересно, удивится ли он, если я напишу то, о чем он думал, пока мы пили кофе, переговариваясь на совершенно необязательные темы? Как он четко вспомнил один случай из нашей с ним интимной жизни, когда он повел себя очень неловко, и как было стыдно мне, и как потом переживал он? И что после этого эпизода он вспомнил еще один, тоже очень отчетливо, с незнакомой мне женщиной, возможно, это была одна из его жен… И тоже очень неловкий момент…
Да, не получилось интервью. Быть может, если бы Верочка пришла одна, даже с теми же вопросами, составленными мной, они скорей бы нашли общий язык. А так… Думаю, со стороны мы были очень похожи на побирушек, которым предложили тарелочку с угощением, да поставили ее слишком высоко. Мы попрыгали‑ попрыгали, пытаясь дотянуться до тарелочки, и несолоно хлебавши отчалили. Думаю, именно так показалось Сутягину, упивающемуся собой и своими победами в этом мире, ненадежном и переменчивом.
Глава 13
Дома вечером я открыла электронную почту. Мне так хотелось ответить на чье‑ то письмо, на обычные слова «Как ты? ».
Как я? Нормально. То есть, если честно, я как‑ то не очень. Может быть, даже совсем не очень после встречи с Алексеем Сутягиным. Но я бы написала, что я вполне нормально… Только никто меня не спрашивал, как я. За весь день ни один человек не спросил, как я.
О чем только не спрашивали, особенно на радио. О том, почему раньше любительская колбаса не была такой жирной, как сегодня. О том, почему одним делают концерты в Кремлевском дворце, а другим не делают, и вообще, откуда у людей такие деньги. О том, как просыпаться рано, если просыпаться рано невозможно – природа протестует, организм не хочет ни есть, ни пить, ни разговаривать, он спит и ему плохо. И я старательно отшучивалась, пытаясь избегать общих мест и банальностей, а также не грузить дорогих радиослушателей и не слишком уж лукавить. Поговорили обо всем. Даже я не поняла, какова же была тема нашего эфира. Только вот как я – не спросил никто.
А как я? Бывают такие моменты – после встреч с одноклассниками, или в день рождения, или, у меня лично, в преддверии Нового года, когда вдруг вся твоя жизнь проносится перед глазами, причем за вычетом всего того хорошего, что наверняка в ней было.
Вот и сегодня вечером, после неожиданной встречи с прошлым, вся моя жизнь как будто развернулась передо мной. Пишу я статьи. И что? Что меняется к лучшему в этом мире от моих слов? Пишу честно? И что? Тем более, «честно» в нашем жанре – очень приблизительное понятие. Если писать честно об успешных людях, об их пути к успеху, компромиссах с совестью и с близкими, об их унижениях, провалах, всемогущих покровителях – мир взорвется. Не будет почти ни одного кумира с простой симпатичной улыбкой, вырабатывавшейся годами, с честным добрым взглядом, с приятной, обаятельной и очень понятной историей. «Veni, vidi, vici» – «пришел, увидел, победил». Точнее, его увидели и сразу полюбили. И не было годов бедности, и не было мучительного ожидания чуда и успеха, и не было того дня, когда нужно было выбирать…
Почему людей так тянет читать о знаменитостях, даже о тех, кого не любят? Интересен прыжок наверх, сам процесс этого прыжка – кто и как помог, кто мешал? Интересна звезда без маски – хотя мне, если честно, кажется, что для того чтобы оправдать ожидания читателей, под маской должна оказаться другая маска – ни в коем случае не простое, уставшее, обыкновенное лицо самой заурядной личности.
А вот теперь я еще веду передачи на радио. Тоже пытаюсь быть честной, изо всех сил. А в глубине души давно уже знаю – всем нужны вовсе не «честные» слова, а шутки, каламбуры, веселье… Человеку хочется неожиданно засмеяться и почувствовать легкость бытия и необязательность всего своего бремени, которое он тащит и тащит, пока не прервется в один день дыхание…
Да что со мной такое? Я услышала, что у Алексея теперь трое детей, хоть и в разных местах, и будет еще четвертый, и сменилось еще две жены? А у меня как никого не было, так и нет. Ни мужа, ни детей… Была строманта, которую я привыкла считать живым существом в моем доме и совершенно напрасно. Не понимала моих слов строманта, а я разговаривала с ней, как с живой.
Интересно, разрешат ли мне взять на воспитание ребенка, если я найду такого малыша? Дают ли теперь приемных детей одиноким обеспеченным женщинам? Раньше одиноким не давали, когда еще обеспеченных не было, я сама об этом писала. Если теперь дают, то это, наверно, гуманно. Хотя может ли ребенок скрасить одиночество? Не знаю, не пробовала. Могу только рассуждать со стороны. Мне кажется, он сам будет одиноким рядом с не очень счастливой мамой. Мама будет плакать в Новый год оттого, что нечего загадать, когда бьют куранты, оттого, что не верится больше в чудеса, оттого, что растущий рядом человечек приносит больше горестей, чем радости.
Как просто и жестоко устроен мир. Много ли надо, чтобы почувствовать себя счастливой? Не может принести счастья ни работа, пусть даже успешная, ни деньги – на что мне их тратить? Если в доме холодно и пусто… Пусто и холодно…
Почему‑ то мне совсем не хочется брать собаку, совсем. И кошку не хочется. Я не хочу признаваться самой себе: вот у других есть мужья и дети, а у меня собака с кошкой, другого не получилось. Пусть лучше у меня не будет ничего.
Я легла спать совершенно истерзанной собственными мыслями и, уже засыпая, как будто услышала: «Просто надо отвернуться от самой себя. Найди того, кому нужна твоя помощь, и помоги. Сразу станет легче. Разорвутся прочные и мучительные путы одиночества». Я зажгла свет и села на кровати. Кому в половине двенадцатого ночи может понадобиться моя помощь?
Мне самой нужна помощь. Мне плохо, мне одиноко. Мне вдруг показалась бессмысленной вся жизнь. Как же я помогу другим? Поделюсь с ними своим одиночеством и пустотой и вопреки всем физическим законам из ничего получится что‑ то? Нет. Я в это не верю.
Вот как на меня повлиял Алеша Сутягин – гладкий, сытый, довольный жизнью, живущий в прекрасной, просто великолепной квартире. Не знаю, какая теперь у него жена, но наверняка красивая и милая. Как все удачно и хорошо. Мог ли он поступить по‑ другому, узнав – от меня лично, – что у меня никогда не будет детей? Нет, наверно. Ведь у него тоже одна жизнь. У него к тому времени уже был ребенок. Он расстался с первой женой то ли из‑ за меня – так думали все, то ли из‑ за того, что ему надоело жить, мирясь с условностями семьи, захотелось свободы – так казалось мне.
Я тогда чуть не умерла – не хотела ни есть, ни пить, ни дышать без него. Но потом, со временем, боль сначала притупилась, а потом забылась вовсе. Так что теперь, глядя на Верочку, я даже думаю – хорошо, что я так не любила. А как же любила я, если, расставшись с Алешей, две недели вообще не выходила на улицу, ничего не ела, не поднимала трубку, не открывала дверь маме с отчимом и отцу, которого по такому поводу мама вызвала на помощь. Не ходила на свою работу в школу. Меня после этого выгнали из школы, потому что я прогуляла две рабочих недели без уважительной причины, да и еще многие думали, что у меня запой – кто‑ то видел меня стоящей у окна с безумным взглядом и красным, опухшим от слез лицом…
Но я все это забыла. Я стала ироничная, сильная, самодостаточная. Я не люблю мужчин, они мне все кажутся тупыми, самодовольными, ограниченными существами, от большинства из них плохо пахнет, они живут скотскими инстинктами… И они не любят меня. Говорят изредка комплименты и не любят. Даже поглядывают заинтересованными, «мужскими» глазами, если я вдруг добавляю что‑ то женское к своей обычной спартанской одежде. Но не любят. И ведь я живу, совершенно не страдая без этого. Жила…
Неужели… Неужели же мне, как обычной женщине, нужно мужское внимание? Неужели эта случайная встреча показала мне, что я… я – одинока? И никому не нужна? Что я некрасива, неухожена, неинтересна? Во мне есть только оригинальный ум, за него меня держат и ценят на работе, а как человек, как женщина я никому нисколько не нужна?
Ну и что? Что? Разве я этого раньше не знала? Нет. Пока не увидела ироничный, равнодушный взгляд Сутягина вчера – не знала. Не думала об этом. Пока не услышала его мысли – о том жалком эпизоде наших отношений, когда я не смогла выполнить его желания, не сумела, не решилась… Я никогда и никому не рассказывала об этом. Но сама часто думала – а не это ли было причиной нашего разрыва – моя старозаветность, несмелость в интимных вопросах? А вовсе не то, что я не могу родить ребенка…
Почему он вспомнил именно об этом сегодня? Разве больше не о чем было вспомнить?
И почему мне так больно? Чья это боль? Может, я слышу через стенку чьи‑ то мысли? Кто там живет? Я ведь еще не познакомилась толком с соседями… У меня самой давно ничего не болит, я прекрасно живу и всем довольна в жизни. Я встала и подошла к зеркалу. У меня – НЕ БОЛИТ НИЧЕГО! И уже не заболит. Благодаря Алексею Сутягину я получила прививку от безумной любви, больше ею не заболею и уж плакать об ушедшей к нему любви точно не буду.
Надо же, прочно женат на сей раз… И по‑ прежнему хорош, легок в общении, удачлив в жизни – ему всегда везло и все давалось без труда – и наверняка так же, как раньше, притягателен для женщин. Я видела, что даже Верочка, потрясенная своими событиями с Еликом, повеселела от общения с Сутягиным.
Я заставила себя выключить в голове собрание своих собственных мыслей. Мысли, звучавшие на разные голоса, перебивавшие друг друга, терявшиеся, мешавшие одна другой, с трудом улеглись и успокоились.
Нет, нет и еще раз нет! У меня одна, очень короткая жизнь. Половина уже точно пройдена, по крайней мере, бодрой и активной жизни. Вряд ли в восемьдесят лет я буду бегать с диктофоном и камерой и с живым интересом спрашивать других людей, довольны ли они своей судьбой.
Не стану я искать новых встреч с Сутягиным – а ведь именно такая предательская мысль заползла мне сегодня в голову, когда мы спускались с Верочкой в лифте. Я вдруг подумала – не сделать ли мне с ним еще раз интервью, потому что сейчас не получилось, и не написать ли о нем по‑ настоящему хорошую статью, наверняка найдется у него в жизни много интересного. Ведь шеф говорил о каком‑ то экстремальном увлечении Сутягина… Нет! Не написать!
И я не буду размышлять о своем одиночестве!
Я не одинока. Я просто живу одна. Одиночество – это состояние души. А не отсутствие рядом другого человека.
Иначе бы мамочки, имеющие маленьких беспомощных деток, не выбрасывались в канун Нового года в окошко. Я как раз писала об одной такой мамочке, не выдержавшей своего одиночества, замученной одиноким материнством и болезнями своей дочки, капризной от постоянного недомогания. «Ты запомнишь этот Новый год на всю жизнь! » – сказала та мамочка своей дочке, которой еле‑ еле исполнилось восемь лет, и выпрыгнула в окошко с шестого этажа. А меня в связи с этой историей просили написать умную статью об одиноких матерях. А что тут напишешь? Разводы разрешены, никто не осуждает. Вместе в горе и тяготах и просто в ежедневной рутине никто жить не хочет. Кто может развестись, кому есть куда уехать и на что жить без второго супруга – разводятся. А любовь проходила и у наших прадедушек и прабабушек, которым развестись мешали законы. И они жили чем‑ то другим, находили – чем, не искали вновь и вновь горячей страстной любви в тридцать пять, в сорок пять, в пятьдесят пять лет…
Одинокой ведь можно быть и замужем, и в большой семье. Много одиноких детей и подростков, родители которых видят их реже, чем своих коллег по работе. Много одиноких стариков, к которым не приезжают дети, даже живущие в одном городе…
А я – не одинока. Только я не люблю праздники. В праздники мне иногда кажется, что я живу не свою жизнь. Моя же идет где‑ то в другом месте. Я даже часто вижу одну и ту же комнату – просторную, необычной формы, с зеркальным шкафом и нишей, и себя – в длинном шелковом синем платье. Я никогда не была в той комнате и той жизни. Там у меня большая семья, там много, может быть, слишком много народа, голосов, шума, бегают дети. И я там – совсем другая. Я слышу собственный смех, вижу свои отросшие, сильно накрученные волосы – я никогда не носила такой прически в стиле английской королевы…
И тогда мне становится больно – ведь мне никак не попасть в ту жизнь. Я не знаю туда дороги. Мне уже не найти ее – нет времени. Даже если бы я могла, я бы уже не родила, скажем, четверых детей. Я не знаю, как туда попасть. Но там я – настоящая, а здесь – уж как получилось.
Потом проходят праздники, я мчусь с диктофоном и фотоаппаратом на интересное задание, пишу статью, и все праздничные унылые ощущения проходят. С некоторых пор я предпочитаю брать задания на праздники, чтобы не ехать в пустую квартиру, невольно смотря на чужие окна и представляя, как там весело и людно.
В праздники можно наблюдать за тем, как другие люди проводят праздники. Это тоже очень интересно.
– Лика? Не сразу понимая, кто звонит мне среди ночи, я взглянула на часы на телефоне. Да нет, всего лишь половина первого, время детское, просто я что‑ то уснула рано сегодня.
– Это я, привет.
Он мог бы не продолжать. Не мозг, не память, нет, – душа и все мое существо встрепенулось на давно забытую интонацию этого голоса. «Это я», – сказал человек, совершенно уверенный, что ему не надо представляться по имени.
– Мне в редакции дали телефон. Как ты живешь? Ты ведь ничего о себе не рассказала…
– Тебе интересно, как я живу?
– Интересно, конечно.
Я села на кровати, потом встала на холодный пол и подошла к окну, в котором был виден ночной город. Я смотрела на ровный поток машин по новому мосту. Даже ночью столько машин… Красные и белые огни, как сверкающая огнями фантастическая река с течением в обе стороны…
– Да‑ да, я слушаю. – От ощущения холодка под ногами или еще от чего‑ то мне стало зябко и как‑ то не по себе.
– Лика… Что ж ты так строго со мной? Я был рад тебя видеть. Ты совсем пропала из виду. Да, мне интересно, как у тебя сложилась жизнь. Ты замужем? У тебя есть дети? То есть я хотел сказать… – замялся мой нежданный собеседник.
– Я хорошо живу, у меня прекрасная работа, я купила новую квартиру с очень красивым видом. Детей у меня нет. Извини, Алексей, мне завтра рано вставать, – я быстро положила трубку, не дожидаясь его ответа, и перевела дух.
Нет, вот этого точно не надо! «Пустые хлопоты» – так, кажется, называются подобные переживания в карточном гадании. Не возвращайся в прошлое, в котором было очень больно. Будут болеть даже те зубы, которых уже давно нет.
Хотя… Не я ли сегодня в задумчивости стояла перед витриной с красиво одетым манекеном, представляя, что мне очень пойдет такая одежда – короткое платье в стиле «татьянка» с плотными обтягивающими брючками… Если от встречи с Сутягиным во мне проснется давно уснувшая женщина – разве это плохо? А разве хорошо? И что она будет делать, эта проснувшаяся женщина? Страдать в отсутствие Сутягина? Или писать о брошенных девушках со всей страстью неразделенной любви? Нет уж. Журналистскому перу нужна точность, ирония и изящество, а не задыхающаяся страсть.
А вдруг ему нужна моя помощь? Я же не знаю обстоятельств его жизни… Я отмахнулась от этой мысли, чужой и предательской. Как будто какая‑ то часть меня самой решила предать свою суть. Какая помощь? Какие обстоятельства?! Человек третий раз женат, ждет четвертого ребенка, владеет преуспевающим банком, живет в элитном доме вместе с замминистрами и другими персонами из самого верхнего эшелона власти…
Какая помощь! Ложись спать, дорогая Лика. И подумай лучше, как распорядиться собственным необыкновенным даром, – может, поискать себе подобных или поехать, скажем, на Тибет, в Индию, на Шри‑ Ланку, поговорить там с мудрецами… Куда угодно – только не барахтаться беспомощно в лужице соплей, былых переживаний и жалости к себе.
Алеша оказался настойчив. Он и раньше всегда настаивал на своем, чего бы ему это ни стоило. – Мне нужна твоя помощь, – заявил он, позвонив мне в тот же день вечером, таким тоном, что отказаться было бы странно и нехорошо.
– Я слушаю тебя.
– Давай не по телефону. Встретимся завтра в пять. Пойдет?
Я даже не могла сообразить, что´ у меня завтра в пять, как он уже побыстрее попрощался, чтобы я не сказала «нет».
Я подумывала – а не взять ли мне с собой Верочку? И ей развлечение, и мне какое‑ никакое отвлечение от Сутягина… Но дозвониться ей не смогла. Она, видимо, опять не поднимала трубку или ходила с Еликом по магазинам и ресторанам, смотрела, как живут домохозяйки.
Мысль о Верочке не давала мне покоя, слишком уж молода и глупа она оказалась. И еще мне не давал покоя ребенок, который, невзирая на все обстоятельства Верочкиной жизни, тихонько рос себе в ее животе. Какое это, наверно, удивительное чувство! Генная память бабушек и прабабушек подсказывала мне, что ничего важнее и прекраснее для женщины быть просто не может.
Я остановила себя. Не стоит поощрять собственные размышления в эту сторону. Это лукавство природы, вот и все. Какие только механизмы не задействованы, чтобы жизнь на Земле продолжалась! А я вот напрямую не могу в этом участвовать. И что же мне теперь – думать, что как раз самого прекрасного я лишена, и страдать от этого?
Думать – да. Страдать – нет. Пытаться не думать совсем – не получается. Так или иначе обстоятельства и люди возвращают меня к этой мысли. Я к ней привыкла. Но поскольку это – уродство, как слепота, глухота, хромота и всякое разное другое, то заложенное в нас вечное и вездесущее стремление к гармонии протестует. Я нарушаю гармонию мироздания тем, что не участвую в продлении жизни. Так может, мне поучаствовать в нем как‑ то по‑ другому?
Глава 14
Хорошо, что на субботу и первую половину воскресенья у меня оказалось так много дел и встреч, что я не могла сосредоточиться на будущей встрече с Алексеем Сутягиным.
Неделя как‑ то незаметно подошла к концу. Я уже привыкла намечать на выходные то, что не успела сделать за обычные пять «рабочих» дней. На спектакль и выставку можно сходить среди недели, а вот классические выходные у меня должны быть забиты делами до отказа, чтобы не оказаться наедине с собой в пустой, только что обставленной новыми, еще совсем чужими вещами квартире. С друзьями встречаться мне становится все труднее. Иногда я ощущаю себя слепоглухонемой в компании зрячих, весело болтающих людей. Я не могу толком поддержать разговор ни о хамстве и жадности мужей, даже бывших, ни о хамстве и болезнях деток, ни о классических перипетиях со свекровями, сестрами мужей и прочем, подчас заполняющем жизнь семейных людей до отказа.
– Ты прекрасно выглядишь, – с ходу сказал Алексей, и я ощутила приятную волну тепла и еще чего‑ то забытого и очень хорошего. После этих слов он еще по‑ дружески поцеловал меня в щеку и потрепал по плечу. Просто встреча школьных друзей!
– Я слушаю тебя, – сказала я как можно суше, напоминая себе, что для меня эта встреча грозит как минимум последующей депрессией. Я и так с утра до вечера, с тех пор как случайно увиделась с ним, думаю о своей несостоятельности и вообще нахожусь в совершенно непривычном для себя состоянии подавленности. – Ты хотел о чем‑ то попросить меня.
– А, да! – легко сказал Сутягин и поманил рукой официанта. – Два двойных эспрессо. Ты кроме кофе что‑ нибудь будешь? – запоздало обратился он ко мне.
– Нет.
Я отвыкла от его манеры решать всё за всех. А если я, к примеру, не обедала? А я ведь и на самом деле не обедала. Хотя сейчас бы мне кусок в горло не полез.
Я постаралась сосредоточиться на красивой густой пенке кофе, который подали в узких высоких чашечках. В них кофе долго остается горячим, но пить было ужасно неудобно, как из мензурок.
– Тут такая ситуация… – Сутягин тем временем начал говорить о том, ради чего, видимо, попросил меня о встрече. – Мне надо одного человечка… не то чтобы закопать, но в общем… Очень неприятный человек. Можешь написать о нем?
Я пожала плечами.
– Я не пишу дискредитирующих материалов. У меня совершенно другая направленность. Раз. Я практически не пишу заказных материалов. Два.
– Да ладно! А машина откуда у тебя такая? На зарплату журналиста купила?
Я посмотрела на Алексея. Он изменился? Или был таким, да я не замечала?
– Ты изменился, – ответила я. – Или я просто не замечала, какой ты.
Он не очень искренне засмеялся:
– Ну ладно, ладно! Ты честная, хорошая журналистка. Тем более. Приятно будет получить от тебя помощь.
Ты стала серенькая… Одета ярко, как подросток, а сама серенькая… Тонкие губки, ненакрашенные, бледные… Нос уточкой… шейка из свитера торчит… Эти очки дурацкие, оправа зеленая – зачем? Ты и так вся бесполая, неинтересная, никакая… Но в этом даже что‑ то есть… вызов сидящему перед тобой мужчине… вроде – захоти меня такой, какая я есть… Так, что ли? Или ты совсем об этом не думаешь? Или я настолько тебе неприятен, что ты хочешь меня задеть, – вот, смотри, ты для меня не мужчина, я не сделаю ни шажочка, чтобы понравиться тебе… Такая самоуверенная маленькая мышка… независимая, надо же…
Я удивленно посмотрела на Сутягина. Какие же глупости в голове у этого с виду благополучного и совершенно уверенного в себе самца! Да, человек, которого я когда‑ то очень любила, – самонадеянный и нагловатый самец, этого у него не отнимешь. С возрастом даже прибавилось. Но не до такой же степени. Пригласил меня вроде как на деловую встречу, а сам…
Увидев что‑ то у меня в глазах, он пересел ко мне поближе. Удостовериться? Или его подсознательно тянуло ко мне так же, как когда‑ то, – в каком бы виде я ни была? Я не успела ничего этого подумать, потому что он, закрыв меня от остальных посетителей, наклонился совсем близко к моему лицу. Я увидела морщинки у него под глазами, чуть разные ноздри, раньше я знала их рисунок наизусть, могла нарисовать с закрытыми глазами, небольшие, суховатые губы… Он поцеловал меня очень осторожно, медленно, не сомневаясь, что я не отстранюсь. Картинка, которую он при этом представил, так меня потрясла, что я и не отстранилась, и не сопротивлялась. Тем более что поцелуй Сутягина был мне скорее приятен. Или очень приятен. Меня никто не целовал лет шесть, или семь, или восемь… Сколько прошло с тех пор, как мы расстались с Сутягиным? Однажды в командировке я провела ночь со своим коллегой, журналистом Мишей, но Миша меня не целовал, и я его тоже – ни до, ни после, ни во время бурной и бессмысленной ночи.
– То, о чем ты думаешь, – совершенно невозможно, – тихо проговорила я, находясь так близко от его лица, что, мне показалось, звук моего голоса совсем пропал в его губах.
Он улыбнулся, снял мои очки и еще раз поцеловал меня. Может, так и надо общаться с приятными тебе людьми противоположного пола?
Серенькая – не серенькая, но приятная и чем‑ то притягательная… Так вся встрепенулась и замерла… И, кажется, рада… И уж точно рада будет мне помочь…
Вот и что из этого я правда услышала, а что – мои домыслы? Сердце стучит, в голове горячо и сумбурно – до чужих ли мне мыслей? Может, это все думаю я, а вовсе не Сутягин?
Он погладил меня по щеке и снова пересел на стул напротив.
– У меня не очень много времени, но мы можем продолжить разговор, например, завтра, – сказал он как ни в чем не бывало, но несколько другим тоном. – Поконкретнее договоримся…
Он был вполне доволен и похож сейчас на мальчика, нашедшего свою старую любимую игрушку. Может, она ему сейчас и неинтересна, но подержать в руках, потрогать, убедиться, что она по‑ прежнему – его игрушка, нужно непременно. Вспомнить, как она открывалась, разбиралась… А собирать обратно вовсе и не обязательно.
Я все же слышала его мысли. Или, может быть, только часть их. Трудно было поверить, что в голове у серьезного вроде человека такая ерунда… Но прошло несколько мгновений, и теперь меня больше занимало другое.
– Ты давно был у врача? – спросила я как можно аккуратнее.
– В смысле? – несколько напряженно засмеялся Сутягин. – У какого именно?
– Алеша… – Теперь уже я смотрела на него не отрываясь, чтобы убедиться, что то, что я сейчас внезапно почувствовала, имеет отношение к нему, а не ко мне самой. Слишком неожиданные слова мне нужно ему сказать. – Алеша, сходи, пожалуйста, срочно к врачу, если ты еще не был. К хирургу. Сделай рентген и УЗИ… вот здесь… – Я показала у него на животе то место, на котором сейчас было против моей воли сосредоточено все мое внимание.
– Ты что, Лика? – Сутягин недовольно отвел мою руку. – Что за шутки у тебя? Я нормально себя чувствую… С чего ты взяла? Да что за ерунда?
– Можно, я не буду объяснять? Сходи прямо сегодня или завтра, пожалуйста. Оставь все дела. А то может быть поздно.
– Поздно – что?
– Алеша… Я не знаю, как тебе объяснить. Просто я чувствую, что у тебя есть серьезная проблема со здоровьем, понимаешь? Слишком серьезная…
– Слушай, ты совсем, что ли, свихнулась с годами? И раньше‑ то была… – Алексей встал, бросил на стол пятисотрублевую бумажку, махнул официанту и быстро вышел из зала, ни разу не оглянувшись на меня.
Я решила дать ему спокойно уехать, а сама на скорую руку пообедать. Почему‑ то я была уверена, что Сутягин обязательно пойдет к врачу. В крайнем случае, позвоню ему, еще раз попрошу… То тяжелое, муторное, постороннее, которое я отчетливо почувствовала у него в теле, мешало мне и в первый раз с ним разговаривать. Мне даже физически нехорошо стало во время разговора. Только я отнесла это на счет своих прежних романтических переживаний. Но сейчас, сидя рядом с ним, совсем близко, когда он решил потрогать руками свою старую игрушку, я ощутила что‑ то страшное внутри него, то, чего не должно быть у здорового человека.
Может, позвонить его жене? Представиться экстрасенсом… Женщины охотнее верят в подобные вещи. Правда, она же беременная, разволнуется. Но еще хуже она разволнуется, если муж вовремя не сделает операцию… Если, конечно, сейчас еще не поздно. Хотя выглядит Сутягин хорошо и говорит, что нормально себя чувствует, значит, надежда еще есть.
Домашний телефон его у меня остался после интервью, и я решила тут же позвонить его жене, которую в прошлый раз так и не увидела. Жены дома не оказалось. Трубку взяла горничная. Я, несколько поколебавшись, попросила ее оставить записку жене Сутягина с просьбой срочно позвонить мне.
Но вечером вместо жены позвонил Алексей, разъяренный и не желающий скрывать своей ярости.
– Ты что это, а? Что ты решила? Таким путем все вернуть? Ты что о себе вообразила? Это невозможно! Ты что, не понимаешь, что у меня теперь своя жизнь…
Я дала возможность сказать ему все, что он хотел сказать, и после этого попыталась объяснить:
– Алеша, я звонила твоей жене из‑ за врача. Тебе срочно нужно пойти к врачу. У тебя… В общем, не затягивай, пожалуйста. Иногда важны даже два‑ три дня.
– Да ты чокнутая! Ты что себе позволяешь? Какой я идиот, что решил с тобой встретиться! Ты что себе вообразила, ты мне нужна, что ли? Да я… Да я просто…
– Алеша, ты говоришь лишнее. Сходи к врачу. Все, пока!
Через некоторое время он попытался перезвонить мне, но я не стала отвечать, решив, что ничего важного он мне не скажет, а я уже сказала и сделала все, что нужно.
Чудовищные зеленые очки с мрачными крокодильчиками на дужках и с половинкой диоптрии в левом глазу я бросила в коробку с остальными разнообразными очками, призванными, вероятно, сделать из меня, серенькой, меня же разноцветную, и убрала ее подальше. Голоса из прошлого бывают обидными, но иногда они подсказывают правильные вещи.
Глава 15
Мысли мои переключились на Верочку, которая никак не подходила к телефону. Я понимала, что кроме меня судьбой Верочки обеспокоены ее родственники и, скорей всего, у нее все в порядке… Если бы не смутные и крайне неприятные образы, которые носились у меня в голове. Что‑ то тянуло и томило меня, как только я начинала о ней думать. Впереди вставала непреодолимая серая пелена, плотная, ужасная…
Перед тем как ехать на эфир, я решила заехать к Верочке. Воскресный эфир – просто подарок мне от судьбы. Вот и решен вопрос с воскресными вечерами, бесконечно тянущимися, если не находится спектакля или концерта, на который бы мне хотелось сходить.
Слава богу, пока в выходные по Москве еще можно проехать, если где‑ то нет аварии. В будние дни «решить заехать» и действительно попасть в нужное место, да еще вовремя, – дело сложное, иногда нереальное.
Верочка по‑ прежнему не отвечала на звонки и к трубке домофона не подходила. Что‑ то мне подсказывало, что она дома и просто не хочет открывать никому дверь.
Я запоздало, но все же позвонила ее дяде, своему шефу. Услышав мой голос, он страшно обрадовался.
– Да родителей ее опять унесло! Взяли моду на каждые выходные мотаться… То во Францию, то в Чехию. Как с цепи сорвались! Всю жизнь просидели в своем Измайлове, и ничего! А тут, понимаешь ли, в Европу им захотелось! А девчонка пропадает совсем… А я вот в Туле застрял, не вернулся еще, с типографией тут проблемы…
Я не стала уточнять, каким образом в субботу‑ воскресенье можно решить проблемы с типографией. Да и какая мне разница! Я услышала то, что хотела, – от Верочки ни слуху ни духу.
В закрытый подъезд попасть оказалось проще, чем дозвониться моей неожиданной подопечной. Из первой же квартиры, в которую я наобум позвонила по домофону, мне открыли, не спрашивая, кто я и что. Даже сказали: «Давай быстрее, сколько можно ждать! » Мне показалось, что это знак, и я действительно поспешила подняться на седьмой этаж к Верочке.
Я позвонила. За ее дверью было абсолютно тихо. Надо постараться понять, есть ли кто в квартире. Вдруг Верочка у Елика в загородном доме? И все волнения напрасны… Я постояла у двери. И через несколько мгновений могла с точностью сказать – да, в квартире кто‑ то есть. И не кто‑ то, а Верочка.
Мне стало нехорошо и тягостно, как будто из щелей ее двери просачивалось невидимое и ядовитое вещество, окутывающее меня с ног до головы, парализующее волю… Та самая серая пелена, душная, страшная…
Я помотала головой, с силой потерла виски, еще раз позвонила и опять громко постучала в дверь кулаком.
– Верочка! Открой немедленно! Нужна твоя помощь!
Я услышала слабый звук за дверью, как будто упала на пол какая‑ то коробка, что‑ то покатилось… Но к двери никто не подошел. Хорошо, уже что‑ то. Значит, моя подопечная в состоянии по крайней мере двигаться и ронять предметы. Может, и вовсе – сидит где‑ то на диване или на полу и страдает. И дверь не открывает из принципиальных соображений. Вот если бы не эта въедливая пелена, словно сочащаяся из‑ за двери…
Я еще раз громко постучала в дверь. Высунулась соседка.
– Что? – с любопытством спросила она, оглядывая меня.
– Мне нужно попасть в семьдесят восьмую квартиру, – ответила я. – Не открывают.
– Ага… Ясно…
– Что‑ то надо придумать.
Безапелляционность моего тона и спокойствие подействовали на соседку так, что она, подумав несколько секунд, сказала:
– Службу спасения вызывали?
– Н‑ нет, – ответила я, удивляясь, почему же мне и в голову не пришла такая очевидная мысль. Хотя квартира съемная и ломать дверь… – А с вашего балкона нельзя залезть?
– А кто полезет? – даже не удивившись, деловито спросила соседка.
– Я.
– Лезьте, если не боитесь. У них балкон застеклен, у нас нет. От нас‑ то вылезть можно, а как туда попадете?
Я подумала, что выбить стекло дешевле и быстрее, чем ждать службу спасения и автогеном вскрывать дверь. Главное, мне самой при этом остаться на седьмом этаже… Я помню, как один известный каскадер рассказывал, что он, прыгая с крыши на крышу, представляет, что просто перепрыгивает через лужу. И тогда можно быть уверенным, что мимо не прыгнешь.
Вот и я представила, что лезу через маленький заборчик, под ногой у меня не семь этажей, а земля, на которую просто наступать не нужно, а нужно перебросить ногу, выбив при этом стекло. Мои не самые изящные ботинки в стиле американской морской пехоты оказались очень кстати. Стекло я выбила с первого раза. Со второго сбила осколки, чтобы меньше порезаться, когда буду лезть. Вниз я ни разу не посмотрела, и страшно мне почти не было.
А тут и Верочка подоспела. Услышав звук разбитого стекла, она открыла балконную дверь и вышла как раз в тот момент, когда я почти перелезла с одного балкона на другой.
– Лика… Ты что здесь делаешь? – спросила Верочка таким голосом, что я поняла – кажется, я пришла очень вовремя.
– Я лезу на твой балкон, Верочка, – ответила я, никак не попадая ногой, висящей снаружи, на бортик. – Ч‑ черт… Будь так любезна, помоги мне!
– А что надо делать? – спросила Верочка, не двигаясь с места. – Мне плохо… Я уже все выпила, а никак не умираю… Уснула и проснулась…
– Идиотка! – пробормотала я и, наконец, вытащила застрявшую ногу вместе с куском старой балконной обшивки.
Отряхнув с куртки осколки стекла, я шагнула к Верочке. Та не нашла ничего лучшего, как отступить от меня на шаг назад и попытаться снова запереть балкон. Я толкнула балконную дверь. Верочка не удержала равновесие и упала в комнате.
Я перешагнула через балконную приступку и склонилась над ней.
– Вот дура, а! Что ты выпила?
– Т‑ таблетки… там…
Верочка попыталась махнуть рукой, но в лежачем положении жизнь как‑ то быстрее стала уходить из нее, или так мне со страху показалось. Она лишь пошевелила беспомощно рукой. Я посмотрела туда, куда показывала Верочка. На разложенном диване валялись разодранные облатки каких‑ то лекарств.
– Понятно. – Я попыталась приподнять Верочку и усадить спиной к креслу. – Говори, говори что‑ нибудь, не засыпай! А когда ты очнулась, то пила еще какие‑ нибудь таблетки?
– Нет, у меня остались только две… – Верочка говорила вяло, как будто ей что‑ то мешало во рту или она от роду была косноязычной. Один ее глаз смотрел на меня и плакал, а второй норовил закрыться, и из него тоже текли слезы. – Я хотела что‑ то химическое выпить, нашла там раствор какой‑ то… Но меня сразу вырвало…
– Понятно. Сядь.
Я снова усадила Верочку, все норовившую сползти и прилечь на полу. Затем быстро набрала номер Скорой помощи и стала искать аптечку. Промыть желудок можно пока и без врачей. Я нашла аптечку, но в ней, кроме йода, пожелтевших таблеток анальгина и старого, аккуратно сложенного бинта, ничего не было.
– Иди сюда! – крикнула я Верочке, а сама быстро сделала физиологический раствор из питьевой воды и ложки соли. Кто‑ то заботливый принес и поставил на кухне целых пять пятилитровых банок питьевой воды. Думаю, мама с папой, перед тем, как улететь в Европу…
– Зачем? – спросила Верочка. Тем не менее она кое‑ как приподнялась и стала медленно двигаться на кухню, шатаясь и тяжело наваливаясь на стенки.
– Секрет один расскажу! Вот дошла, молодец, уже ничего. Пей давай, – я протянула ей огромную эмалированную кружку, в которой развела воду с солью. – Пей‑ пей, все сразу!
– В меня не полезет, – жалобно сказала Верочка, пошатываясь вместе с кружкой в руках.
– Химическое полезло, а вода чистая не полезет? Пей давай! Как же ты могла, а? Идиотина малолетняя… У тебя ведь теперь есть человек, о котором надо заботиться! Пей и промывай себе все внутри…
Верочка посмотрела на меня мутным взглядом, кажется не понимая, что я говорю о ее ребенке.
На Востоке возраст ребенка отсчитывается от дня его зачатия. И правильно! Ну и что, если он пока не очень похож на нас. Большая голова, крохотные ручки… Когда Верочке будет семьдесят лет, она тоже мало будет похожа на себя сегодняшнюю. Бедный малыш принял такую порцию снотворного! Или что там пила Верочка, чтобы полностью успокоиться, забыть о своей глупой любви?
Дремучая мораль сегодняшнего дня, в которой перемешано всё – и христианские проповеди, и советские лозунги, и восточные мудрости, зачастую плохо понятые, – не остановила Верочку, потому как вообще занимает в нашей жизни предпоследнее место. И страх за ребенка не остановил – она еще не ощущает, что теперь не одна на свете, что внутри нее – живое существо.
Пока ехала Скорая, я заставляла Верочку промывать желудок. Пару раз на меня накатывала все та же серая пелена, видимо, окутывавшая девушку. Мне становилось тошно и хотелось раствориться в этой пелене, перестать отличаться от нее, чтобы она больше не мучила меня… Второй раз состояние было настолько реальным, что я не сразу услышала звонок в дверь. Я только увидела, что Верочка, истерзанная, с мокрыми волосами, прижав к груди полотенце, повернула голову к двери и прошептала по‑ прежнему плохо слушающимися губами:
– Это он…
– Это они! – ответила я, с трудом оттолкнув от себя Верочкину заразную смурь, явно обладающую некоей плотностью и энергией. – Сейчас тебя в психушку отвезут, такую умную!
– Нет! – закричала Верочка и, с неожиданной силой пихнув меня, побежала на балкон. Зацепив ногой высокий торшер, она протащила его за собой и с трудом удержалась на ногах. Упала и покатилась пустая бутылка из‑ под вина.
– А ну‑ ка стой! – крикнула я и попыталась догнать Верочку, не надеясь, что ее действия будут безопасными для нее самой, попросту говоря, что она вдруг не захочет прыгнуть в свою серую пелену с балкона, раз уж с помощью таблеток два шажочка не дошла…
В дверь продолжали громко звонить. Мне пришлось с силой шлепнуть Верочку сначала по попе, а когда она обернулась ко мне – по щеке. Что‑ то подсказывало мне, что, получив пощечину, и очень увесистую, с балкона еще никто не прыгал.
Врач Скорой, симпатичный парень лет двадцати семи, с любопытством оглядел комнату, напоминавшую маленькую уютную свалку.
– Да‑ а… – он поправил синюю шапочку и, мельком взглянув на меня, наконец нашел глазами свою пациентку. – Это ты у нас решила сразу все бабушкины таблетки выпить?
– У меня нет бабушки! – ответила Верочка.
Я отметила про себя, что говорить она стала лучше. То ли пощечина подействовала, то ли бег с препятствиями по квартире, а скорей всего, молодой симпатичный врач. Вот лучше бы с таким врачом встречаться, чем с развратным, ускользающим Еликом. Пусть даже у врача и нет ничего, кроме диплома о высшем образовании, комнаты в родительской квартире да серых глаз, хороших и улыбчивых.
– А где ж ты таблетки эти взяла? – продолжая легко разговаривать с Верочкой, врач подошел к ней и внимательно осмотрел ее. – Ну‑ ка… А что, ты не чувствуешь, когда я здесь нажимаю?
– Нет…
– Через какое время промыли желудок? – обратился он ко мне.
– Да я же не знаю, сколько она проспала… Она сама проснулась.
– Ясно. В больницу поедем.
– Нет! – опять вскрикнула Верочка.
– Вы хотите ее в психиатрическую больницу отвезти? – спросила я, почему‑ то уверенная, что делать этого не нужно. Вот только не хватало сейчас Верочке оказаться в такой компании.
– Да зачем!
Врач посмотрел на меня своими чудесными глазами, а я машинально посмотрела на его руки. Кольца нет… Сейчас такая удобная мода – мужчины стали носить обручальные кольца. Это очень правильно. Вот увижу сейчас кольцо и постараюсь не задерживаться в его глазах… Но кольца у врача не было, хотя это ни о чем и не говорило. Может, он просто не следует новой буржуазной моде, советующей каждый свой брак отмечать новым колечком на пальце, – и самому веселее, и людям понятно. То было кольцо толстое и широкое, теперь тоненькое и резное… Следующее можно с бриллиантиком для разнообразия купить…
– Просто поставим капельницу, – продолжал тем временем симпатичный врач, – надо нейтрализовать действие таблеток, уже все всосалось… Да и посмотреть, как рефлексы… Отвезем в терапию. У тебя же, красавица, отравление, правда? А не попытка уйти в мир иной… Что скажешь?
– У нее, доктор, кроме отравления, еще беременность. Так что… – ответила за девушку я.
Доктор только присвистнул и покачал головой.
А Верочка не хотела ничего говорить, думаю, что ей было очень плохо. Тяжелая, душная пелена, от которой не сбежать, с ней можно только, слиться и перестать ощущать себя инородной частицей, которой все время плохо, тяжело, никуда не ушла.
Верочка проснулась, а мир – такой же. Поэтому впереди у нее был долгий путь к нормальной жизни, когда утро кажется утром, а не очередным мучением, незаслуженным и невыносимым. Долгий путь, если кто‑ то вдруг не вытянет ее одним движением оттуда. Учитывая Верочкину крайнюю молодость, это резкое спасительное движение для нее очень возможно. Вот влюбится в сероглазого врача по дороге в больницу – и пелене нечего будет делать в Верочкиной душе. А если бы еще и врач оказался свободным и разглядел в бледно‑ зеленой, еле говорящей Верочке очень милую юную особу, нежную и податливую, ужасная реальность мигом бы превратилась в прекрасную сказку.
А так бывает. Я знаю. У других бывает. У меня лично – нет. Я давно уже фактор удачи не учитываю в своих жизненных планах. Не то чтобы мне откровенно не везло, нет. Просто мне не помогает удача. Не протягивает в нужный момент руку, не подсылает ко мне сероглазых врачей даже в качестве временной компенсации за одиночество, не вынимает из кучи лотерейных билетиков тот самый, единственный, счастливый, с тремя семерками…
«Ангел мой, будь со мной. Ты впереди, я – за тобой», – говорила моя бабушка. Мне говорила, чтобы я запомнила и повторяла. Был ли со мной мой ангел всю мою предыдущую жизнь? Есть ли он теперь? Не знаю.
Глава 16
Вечерний эфир начался весело. К нам прорвалась особа, обещавшая редакторам задать невинный вопрос о глобальном потеплении.
– Генка! – закричала она с ходу. – Ты мерзавец! Ты сколько месяцев алименты не привозил?
– Ало, ало… Вы в эфире! – начал наступать на нее Генка. – Говорите, не молчите! Что же вы молчите?
Звукорежиссер, сидящий за стеклом, показал нам, что женщину отключили.
– Да она и не молчит, Ген, – тут же встряла я. – А правда, давно ты алименты не привозил? И вообще, расскажи мне о своих детишках, а?
– Да запросто. Хотя вообще‑ то, у нас тема глобального потепления, Лика, – смотря на меня просто зверскими глазами, крайне вежливо ответил Генка.
– Вот и расскажи, как глобальное потепление влияет на твои отцовские чувства.
– Да, у меня двое детей, – быстро сказал Генка, опытный журналист. – Я их очень люблю. И, свинья такая, целый месяц к ним не приезжал. Или чуть больше. Но я исправлюсь, обещаю всем своим радиослушателям.
– Детям пообещай, – вздохнула я.
– И детям обещаю. Олька, Алёшик! Если вы слышите меня: я приеду обязательно, привезу вам… – Генка несколько растерянно посмотрел на звукорежиссеров, сидящих за стеклом, те только развели руками – «Прокололся, ну что теперь делать, выкручивайся, да побыстрее! ». – Привезу все, что вы просили! Мамочку не обижайте!
– И на папочку не обижайтесь, за то, что он такой забывчивый и рассеянный! – добавила я. – А у нас сегодня действительно тема глобального потепления, которое мы прошлой зимой ощутили как нельзя лучше. Санки с лыжами простояли все новогодние каникулы на балконах и в гаражах. Зато этой зимой природа вопреки прогнозам показала нам, что будет, если на Земле станет в среднем чуть‑ чуть холоднее…
– Алло, вы меня слышите? – Женский голос звучал неуверенно и тихо. Даже странно, что ее пропустили, обычно слушателей такого рода стараются не пускать в эфир. Кому интересно слушать человека, который долго стесняется, прежде чем просто поздороваться.
– Да‑ да! Говорите! – преувеличенно бодро откликнулся Генка, довольный, что инцидент с бывшей женой исчерпан.
Конечно, потом он пойдет разбираться, как такое произошло. Но только что Гена испытал массу неприятных эмоций. И любой человек, не говорящий о его долгах перед собственными детьми, уже казался ему симпатичным.
– У меня… Я хотела спросить, как бы вы поступили, если бы ваш сын… – и женщина начала плакать.
– Я бы позвонил в службу доверия! – тут же ответил Генка. – Телефончик подсказать вам? Та‑ ак… Вы перезвоните еще раз, вам редактора скажут, – и он дал знак, чтобы ее побыстрее отключили.
– Да, конечно… – успела сказать женщина, и что‑ то такое прозвучало в ее голосе… А может и не прозвучало, а проникло в эфир, как проникала через дверь серая убийственная смурь Верочки, поглощавшая все вокруг. Что‑ то такое, что заставило меня быстро попросить:
– Дайте ваш телефон и… и адрес, я после эфира обязательно свяжусь с вами.
Генка посмотрел на меня, как на ненормальную, а когда мы закончили передачу, ко мне подошел Леня.
– Все классно, как обычно, Лика. Но, знаешь ли, детка… Давай, чтобы это было в первый и последний раз, ага? Ты не понимаешь, что ли? Если ты будешь брать у всех адреса и телефоны, то приблизительно тысяча человек ежедневно будут звонить только за этим.
– Зачем?
– Да чтобы ты взяла у них адрес и приехала! Тебе еще будут заказывать, что привезти! Эх, мать! Ты просто не в теме! Третий раз пришла и думаешь, что умнее и добрее всех! Здесь так нельзя! А судя по твоему голосу, можно подумать, что ты… – Леня крякнул и показал руками и лицом что‑ то большое, фигуристое и кокетливое. – Будут заказывать Лику Боргу с пивом и нарезкой ассорти, в связи с тяжелыми душевными кризисами.
– Я поняла, Лёнь. Только этой женщине было очень плохо. Совсем плохо.
– Тот, кому совсем плохо, на радио не дозвонится, понимаешь?
Я подумала, что, возможно, Леня и прав. Но все же решила позвонить той женщине, не откладывая это на завтра. Мимо проходил ухмыляющийся Генка, видевший, как Леня отчитывал меня минуту назад. Я придержала его за рукав.
– Ты напрасно это думаешь.
– Что именно, подруга?
– А то, что дети твои такие же свиньи, как жена.
– Бывшая! – машинально поправил меня Генка и развернулся ко мне, округлив глаза. – Как ты сказала?
– Как ты думаешь, так и сказала. Когда ты их рожал, они тебя об этом не просили. И все долги перед тобой, даже если они есть, будут отдавать своим детям.
– Тебя к нам не объединенный профсоюз всех христиан послал, нет?
– Нет.
– А‑ а‑ а… – Генка уже пришел в себя и пытался отшутиться. – Значит, Боргу заслали феминистки! То‑ то я чувствую… Слушай, а у вас там как – половина пол поменяла, да, я слышал? Чтобы, значит, веселей было? Ты с какой половины? Можешь не отвечать, я и так вижу, – Генка щелкнул пальцами по широкому ремню в моих бриджах. – Пришивала или само наросло?
Я спокойно убрала его руку и подождала, пока иссякнет поток его остроумия.
– Я из другой организации, Генка. Разве ты не видишь? И, кстати, когда так дергает сердце, как у тебя сейчас, лучше бы не курить, а рассосать валидол, – я положила руку на бешено и неровно бьющееся под мягкой клетчатой рубашкой сердце Генки.
– Что, даже сквозь рубашку видно, как колотится? – вытаращился Генка.
– Ага, сквозь рубашку. – Я забрала из его руки дымящуюся сигарету и выбросила ее в мусорный цилиндр. – Видно и слышно. Тук‑ тук, тук‑ тук‑ тук… Корми детей, Генка! Не будь свиньей! Тогда, может, вчерашнюю девчонку тебе и не зачтут… Когда считать будут, сколько ты всего наворотил в жизни. Десятиклассницу вычтут.
– Ты… а… – Генка открыл рот, потом закрыл и полез в карман за следующей сигаретой. – Да ё‑ пэ‑ рэ‑ сэ‑ тэ! Вот не было печали, а? Прислали… христианское радио… бу‑ бу‑ бу, бу‑ бу‑ бу, все кишки вынет… – Бормоча, Генка сломал одну сигарету, вынимая ее из помятой пачки, потом уронил вторую, плюнул и пошел по коридору, широко раскидывая ноги, как недавно почувствовавший свою мужскую природу хамоватый подросток.
Я, кажется, стала привыкать к своему новому качеству и даже находить в нем определенную прелесть. Конечно, некоторые гадостные мысли, которые я замечала у окружающих, лучше бы мне не слышать. Но я уже поняла, что слышу не все подряд, а только то, что очень мучает и беспокоит человека. Того, кто почему‑ то вдруг попадает в зону внимания некоего загадочного аппарата, включающегося в моей душе. Некий болеуловитель, так, наверно, можно было бы его назвать. Я вышла из старого двухэтажного здания, построенного, судя по архитектурным излишествам, перед самой войной или вскоре после нее, села в машину и набрала номер той женщины, дозвонившейся на эфир.
Как же иногда собственная беда принимает масштабы вселенской трагедии, и надо не так уж много, чтобы человек перестал ощущать себя наедине со своей бедой одиноким и самым несчастным на земле. Впрочем, Генка в чем‑ то был прав. Женщине, звонившей нам на эфир, помочь было легче, чем, скажем, Генкиным детям, от которых папа Гена ушел в свободное плавание жестоко и бесповоротно. А здесь бедная мама просто узнала, что сын уже третий год ее обманывает. Давно бросив музыкальное училище, работает в ресторане официантом. Неплохо там зарабатывает, хорошо кушает, даже поправился. Но перечеркнул все годы, пока мать, крутясь на трех работах, водила его пять раз в неделю в музыкальную школу, помогала, как могла, чтобы он поступил в лучшее музыкальное училище Москвы, куда берут только самых одаренных, только тех, у кого перспективы, очевидный талант, тех, у кого впереди международные конкурсы, комиссии с седовласыми профессорами, благосклонно слушающими молодых гениев и кивающими: «Да‑ да‑ да, вот этого мы отметим, молодец его мама, и талантливый мальчик, и работоспособный…»
– А он поступил, проучился полгода и бросил! Сам бросил, сам! Преподаватели руками разводят! С таким талантом, с таким будущим! Так собой распорядился! Он же родился, чтобы быть великим музыкантом! – Галина Ивановна, милая женщина лет сорока восьми, по всей видимости давным‑ давно махнувшая на себя рукой, смотрела на меня чуть настороженно. Похоже, она совершенно не ожидала, что к ней вдруг нагрянут журналисты.
Я попыталась убедить ее, что не собираюсь рассказывать о ее проблемах ни на передаче, ни в журнале и приехала потому, что просто меня тронуло отчаяние, которое послышалось мне в ее голосе. И я могла ее понять. Какое дело человеку до глобального потепления или очередной локальной войны, если у него невыносимо болит сердце, печенка, суставы… Или душа. Болит о чем‑ то своем, что представляется окружающим ерундой, а твою жизнь наполняет так, что не остается времени и сил ни на что больше.
– А вы не догадывались?
– Нет! Ни о чем не догадывалась! Дома он не занимался, говорил, что репетирует в училище. Соседи наши, наконец, успокоились, они от его аккордеона не знали куда деваться!
– А неужели он не скучает о музыке, если проучился пять лет в музыкальной школе? – спросила я, сама прекрасно зная, как можно закрыть крышку пианино после выпускного экзамена и никогда больше её не открывать.
– Восемь, – вздохнула Галина Ивановна, поправляя неровно окрашенную прядку, выбившуюся из пучка. – Восемь долгих лет. Если бы вы знали, чего мне стоила его учеба! А поступление? Целый год я платила профессору из Гнесинки, который с ним готовил программу. На жизнь оставалось три тысячи в месяц на все про все… Да что об этом говорить! Дело не в этом! Всю жизнь просто себе сломал, сам себя закопал… Нет, не скучает он о музыке. Слышать даже не хочет ничего. А там, в ресторане, перспектив совсем никаких! Кем он может дальше стать? Старшим официантом? Отбирать у всех чаевые и делить их?
Я посмотрела на фотографию ее сына, висевшую в парадном месте в гостиной. Как портрет царя или президента – в золоченой раме, в центре стены… Мне показалось, что я видела этого юношу совсем недавно, буквально на днях, в одном из ресторанов, где я обедала или пила кофе. Очень вежливый, собранный мальчик, с крайне внимательным взглядом, целеустремленный, подтянутый. Я еще тогда подумала – совершенно новое поколение молодых людей, твердо сознающих, что никто ничем в этой стране бесплатно их обеспечивать не будет.
– Он обязательно поступит в институт. Он говорил вам, что копит деньги, чтобы поступить наверняка – на платное отделение?
– Нет. Не говорил. Он все время обманывал меня, – бедная женщина, видимо уставшая плакать за последние дни, лишь тяжело вздохнула.
– Думаю, он обязательно будет учиться. Возможно, откроет свое дело… – я увидела взгляд женщины и остановилась.
Я не могла сказать ей очевидное – что это она обманывала себя и пыталась обмануть природу. Кому‑ то нужно печь пирожки, кому‑ то – считать деньги, пусть чужие, и быть от этого счастливым. А кому‑ то – всю жизнь перебирать клавиши, трогать струны, ловя звуки из какого‑ то иного мира, существующего по другим законам, мира, где, возможно, когда‑ то давно жили люди, но сейчас дверь туда приоткрыта лишь немногим, избранным, кому дано слышать по‑ другому, чем обычному человеку.
Некоторые ученые считают, что музыка – это третья сигнальная система. Некоторые – что музыка существует объективно, независимо от нашего желания и понимания ее. Как математика, как главные законы мироздания. Кто‑ то понимает квантовую теорию, кто‑ то – даже не подозревает о ее существовании. Кто‑ то испытывает сильный трепет от определенного сочетания музыкальных интервалов, кто‑ то сам слышит эти сочетания и не может жить спокойно, пока не запишет то, что слышит, чтобы снова и снова самому проигрывать, петь, чтобы материализовать эти звуки…
– Спасибо, что вы приехали. Мне казалось… Весь мир рухнул, когда я узнала, что Петечка меня обманывал. Я и сейчас не знаю, как жить дальше…
– Подумайте о том, что он вполне доволен жизнью. И еще о том, что он так долго вас обманывал, потому что боялся расстроить.
– Откуда… откуда вы все это знаете? – Галина Ивановна недоверчиво посмотрела на меня.
Я улыбнулась.
– Знаю. Возьмите мой телефон и позвоните мне, когда Петя поступит в институт. И раньше можете звонить, если… если станет грустно.
Галина Ивановна так легко мне поверила, потому что в хорошее поверить легко и приятно. Вот если бы так мне поверил Сутягин и пошел бы к врачу… Я сделала еще одну попытку позвонить ему. Услышав мой голос, он сразу же бросил трубку. А я увидела, как тот темный, неприятный сгусток, который растет у него в области солнечного сплетения, увеличился и уплотнился. Знать бы, чем это все закончится в результате, я, может, поступила бы по‑ другому… Но я не знала. И поэтому, когда Сутягин бросил трубку, написала ему письмо, благо теперь так легко переписываться с помощью мобильной связи. «Алеша, ты можешь мне не верить, но, пожалуйста, сходи к врачу. Пусть тебе скажут, что у тебя все в порядке. Я с некоторых пор стала чувствовать, что происходит с другими людьми, сама не знаю, как это объяснить. Но я чувствую, что тебе необходимо обследоваться, пока не поздно. Я абсолютно ничего от тебя не хочу, у меня давно другая жизнь».
Я перечитала письмо. Подумав, убрала слова про «другую жизнь». Какая ему разница, что за жизнь у меня теперь. Я отправила письмо, щелкнув клавишей мобильного телефона. Через пару секунд или чуть больше он его получит. И возможно, все же сходит к врачу. Алеша всегда очень заботился о своем здоровье.
Зачем это надо было мне? Трудно сказать. Просто по‑ другому я поступить не могла.
В ту ночь мне опять приснился папа и повез меня кататься на лодке. Вода была еще очень холодная, в реке даже плавали куски льда, большие, неровные, шероховатые. Папа ничего не говорил, очень энергично греб, как будто вез меня куда‑ то. А потом пропал из лодки, вместе с веслами. И я осталась одна, посреди темной реки с крупными льдинами, разламывающимися у меня на глазах, бесшумно и неотвратимо.
Глава 17
Людмила Тимофеевна Величко, известная под ярким сценическим псевдонимом Герда, всегда казалась мне столь же мало похожей на хрупкую и самоотверженную Герду, как и на служительницу довольного изящного искусства, коим, как‑ никак, является пение. Хотя, конечно, смотря как петь. Ее низкий, хрипловатый и не очень сильный голос, крупный торс, который она любит максимально открывать, несмотря на очень и очень зрелые годы, и, главное, жесткий, властный взгляд никак раньше не вязались у меня с образом популярной певицы, пусть и легкого жанра. Но Герда продержалась на сцене слишком много лет, выдержала все смены власти и в стране, и на телевидении и, наверно, заслужила право быть такой, какая она есть.
Не могу сказать, что меня обрадовало задание взять у нее интервью. Мне казалось, что мало кого заинтересуют подробности жизни и мнения заслуженной, но уж очень пожилой для того, чтобы бодро скакать на эстраде, певицы, да и мне самой было не слишком интересно о чем‑ либо с ней беседовать. Я бы, конечно, могла спросить, почему она когда‑ то назвалась Гердой при таком крупном росте и низком голосе, но знаю, что ее спрашивали об этом сто раз, и даже отлично знаю, что она отвечает, не очень заботясь о приличиях. Еще я могла бы спросить, почему она уже лет десять как поет в бальных платьях моды второй половины восемнадцатого века, но думаю, что ничего вразумительного она мне не скажет.
– Вячеслав Иванович, – попробовала я для проформы поторговаться с шефом, – можно я сегодня все закончу, что уже подготовила, а к Герде кто‑ нибудь из молодежи поедет, а? Им будет интересно…
– Им не будет интересно! – оборвал меня Вячеслав Иванович. – Ты‑ то, по крайней мере, помнишь, как она когда‑ то была популярна! Песня такая была… как ее… Серебряный снег или не снег… Не важно. В общем, просили меня сделать с ней большой разворот, ясно?
– Ясно, – вздохнула я. – Не представляю только, о чем с ней говорить. О внуках?
– Упаси господи! – ужаснулся шеф. – Какие внуки! Ну… там… дом поснимаешь. Да ладно, Борга, что я тебя учу! Совсем обнаглели уже! К народным артистам идти не хотят! В шахту слазить не хочешь? Или в городскую канализацию? Там тоже люди работают, между прочим! С радостью дадут тебе интервью.
– В шахту с удовольствием. Насчет канализации подумаю. Ладно. Верочку брать с собой?
– А… как она? – осторожно спросил шеф. – То есть я… гм… в том смысле… Я вчера ей звонил, не понял…
– Нормально. Уже нормально. Ей бы учиться куда‑ нибудь поступить, Вячеслав Иванович. Чтобы были вокруг ровесники. Мальчики, девочки, глупости всякие, как положено в этом возрасте. А то вы сразу – на работу. Работа это не то.
– Да не поступит она никуда, – тяжело вздохнул шеф.
– На журналистику не поступит, а в педагогический лицей – почему нет? Среднее специальное – правительственная программа, между прочим. Стране нужны узкие специалисты без знания высшей математики, структурной лингвистики и пяти языков…
– Ну ладно, ладно, Борга, – заволновался шеф. – Решим как‑ нибудь без тебя! И со страной, и вообще… Твое дело – сама знаешь… В общем, давай, бери Верочку и вперед. Договаривайся с Гердой, она ждет, секретарь ей уже звонила.
– Понятно, значит, Герда уже бальные платья к креслам примеряет – в каком выгоднее развалиться. А мне это снимать, так?
Шеф резко выключил телевизор, в котором все время, пока мы говорили, шли дневные новости без звука. Где‑ то стреляли, взорвался дом, президент страны сердито объяснял губернаторам, с немым восторгом внемлющим ему, как надо бороться с неистребимым злом воровства и взяток, темнолицые уборщики Москвы всемером мели дворик перед памятником Гоголя… Вот самый смелый, завидев камеру, попытался сесть в такую же позу, в которой великий писатель, с грустью и задумчивостью сидит вот уже больше ста лет.
– Злая ты, Борга! – в сердцах сказал Вячеслав Иванович и даже бросил на стол ручку.
Вот неужели? Надо присмотреться к себе. Я, конечно, редко встречаю добрых журналистов, но вот злая ли лично я?
Я просмотрела в Инете все, что можно было прочитать про Герду, заняло это не так уж много времени. Понятно было, что Герда годами сообщает о себе только то, что считает нужным для своего образа, и тщательно прячет все, что не имеет отношения к ее творчеству. Что ж, это ее право, и я лезть за кулисы ее маленькой карьеры не собираюсь – маленькой с точки зрения вечности, о которой никогда не надо забывать, особенно в моей суетной и сиюминутной профессии. Заехав за Верочкой, пребывающей после больницы в приличном состоянии (вот сейчас бы как раз и в институт готовиться! ), я отправилась за город, в один из новомодных поселков, куда несколько лет назад одной из первых поселилась Герда. Правильно, кстати, сделала. Если иметь в виду, что, сняв очередное бальное платье, Герда вот уже пять лет становится просто заботливой бабушкой. А детей лучше растить вдали от Рижской эстакады, где раньше жила Герда, – кто‑ то услужливо поставил ее точный московский адрес в Интернете.
Да, не хотелось бы мне быть на месте ни одной нашей звезды, особенно музыкальной или киношной. Представить себе страшно, что я не могла бы спокойно прогуляться по бульвару перед сном или пойти в книжный магазин, не рискуя стать центром всеобщего внимания. Хотя, может быть, для кого‑ то это и есть смысл жизни – стать центром внимания и ходить, греясь в лучах всеобщего интереса и любопытства. Только вот тепло ли от чужого любопытства или, скорее, наоборот?
То ли я слишком зло думала о Герде, то ли она оказалась умнее, чем я предполагала, но встретила она меня довольно радушно и просто. В обтягивающих джинсах, изящно расшитых стразами, в безыскусной маечке нежно‑ фиолетового цвета Герда казалась моложе и милее, чем в своих обычных пышных дворянских платьях. – Приятно ли вам быть в центре всеобщего внимания вот уже… м‑ м‑ м… много лет? – с ходу просила я именно то, о чем думала по дороге.
– Давайте договоримся, что вы не будете признаваться, что под мои песни плясали в детском садике летку‑ енку, ага? – улыбнулась Герда.
Она заметила мою заминку и не преминула воспользоваться слабостью. А излишняя щепетильность журналиста – не есть ли его слабость? Дали хирургу в руки скальпель, так он должен им резать, а не щекотать. Да и где границы того, что называется личной территорией? У наших звезд эта граница весьма сомнительна. То им хочется, чтобы о них знали больше, чем они сами знают о себе. То не могут ответить на самые невинные вопросы, чтобы не укусить собеседника.
А Герда есть Герда. То, как она расправляется с журналистами, известно всем. Поэтому шеф меня и послал. Я умею не поссориться с самыми скандальными звездами. Может, потому, что не воспринимаю их всерьез?
– Вы роскошная женщина, Герда, и сами это знаете. И в свои сорок с хвостиком выглядите лучше, чем я в тридцать семь, – я постаралась сказать это как можно искреннее, и это было несложно. Ведь пятьдесят восемь – в каком‑ то смысле тоже сорок с хвостиком, хвост только чуть подлиннее стал…
Герда остро взглянула на меня и величественно кивнула.
– И все‑ таки, – продолжала я. – Вы не устали от того, что вас все узнают?
– А здесь, – Герда показала красивой рукой на красивые дома за красивым окном, – здесь все всех знают. Знаешь, кто мой сосед?
Герда сделала смешную рожицу и почмокала губами. И я тут же поняла, кто ее сосед. Смешной, талантливый, ужасный, эпатирующий артист, любимый зрителями и очень неспокойный в личной жизни и быту. Даже если одна десятая того, что о нем говорят и пишут, – полуправда, уже достаточно, чтобы пожалеть его.
– А слева у меня…
Герда пропела строчку из советской песни, под которую я обычно просыпалась у бабушки, когда мама отправляла меня к ней на субботу‑ воскресенье. Годы идут, бабушки давно нет, я совсем не похожа на скромную школьницу с тонкими косичками, мечтавшую у огромного бабушкиного окна, заставленного буйно растущими комнатными цветами, а Гердин сосед все поет и поет ту песню. И голос его как будто не меняется, и как‑ то он находит в ее простых словах смысл и что‑ то очень личное вкладывает в эти строчки, что заставляет вновь и вновь слушать сквозь весь мусор сегодняшнего музыкального эфира его ставший за всю жизнь практически родным голос.
Молодец Герда. Не хочет отвечать и не отвечает. А я хочу знать, мне именно это интересно. И поэтому спрошу еще раз.
– Мне кажется, очень трудно жить, когда ты не можешь свободно пройти по улице, посмотреть на то, как распускаются деревья, или просто зайти в первый попавшийся магазин, выбрать что‑ то из еды, что хочется съесть сегодня на ужин, или купить новую книгу, фильм…
Герда засмеялась:
– Дальше.
– О чем вы хотели рассказать нашему журналу? – тоже улыбнулась я, решив, что на тему одиночества в толпе и ужаса гиперпубличности я напишу как‑ нибудь сама, без откровений Герды.
– О своем новом альбоме. О том, как я живу.
– Как вы живете, Герда? Хорошо?
– Да, я сейчас работаю с композитором… – Герда начала говорить о том, ради чего, видимо, и позвала журналистов.
Я слушала и кивала, включив диктофон, прекрасно понимая, что никому не может быть интересно то, что сейчас рассказывала Герда. Поснимать ее дом, что ли… Может, она хотела похвастаться своим роскошно обставленным особняком? Раз уж пригласила в дом… Некоторые ее товарищи ограничиваются беседой в открытом домике для барбекю или вовсе встречей в музыкальной студии.
Я оглянулась.
– У вас красивый дом. Можно, я сниму интерьер?
– Полагаю, вы меня снимете – в разных интерьерах, да?
– Конечно.
Что‑ то уже несколько минут не давало мне покоя. Как только Герда расслабилась и стала рассказывать о своем новом композиторе и новом альбоме, я почувствовала сначала слабую тревогу, а потом и что‑ то неприятное, очень болезненное… Это исходило от нее? Да, похоже, Герду занимало что‑ то совсем другое… Девочка, маленькая девочка.
Я вдруг четко увидела худенькую девочку с беленькими волосиками, розовой полоской от слишком тугой шапочки на лбу, которую девочка только что сняла и держала теперь в тонких ручках… Девочка молчала. Ее спрашивали, а она молчала. И было непонятно – слышит ли она, понимает ли, что ее спрашивают, то ли не хочет говорить, то ли не может…
– Давно это с ней? – проговорила я, не в силах освободиться от только что увиденной картины.
– Ч‑ что? – запнулась Герда, только что вещавшая мне о невероятно талантливом новом композиторе.
Я уже поняла, что ей хочется, чтобы в прессу просочились слухи о ее романе с молодым композитором, романе, которого, вероятно, нет. Но я точно не стану об этом писать, Герда зря старается, и зря Вячеслав Иванович послал меня сюда. Но он же не знал, зачем Герде вдруг захотелось четыре разворота в нашем журнале. Чтобы все увидели, какая она еще юная и страстная… Хотя заботит‑ то ее сейчас вовсе не страсть.
– Давно она молчит? – повторила я.
Сама не знаю, почему я была так настойчива. Я отлично видела, как покраснела, потом побледнела Герда. Крепко сжала губы и разжала для того, чтобы выплюнуть грубое, хлесткое слово. Она несколько раз выругалась, а затем сказала очень просто, по‑ домашнему:
– Пошла вон отсюда, тварь! Ты за этим пришла?
– Я пришла, Людмила Тимофеевна, потому что вы заказали о себе статью…
– Пошла вон! – заорала Герда и, кажется, вознамерилась бросить в меня радиотрубкой.
Я помнила историю, как недавно одному нашему журналисту импульсивный хоккеист, которому тоже что‑ то не понравилось в вопросах моего коллеги, выбил сразу три передних зуба. Помнила, но уворачиваться не стала. Герда под моим взглядом подняла тяжелую на вид белую трубку, подержала ее, покачала в руке и медленно опустила.
– Какие же вы все сволочи!.. – проговорила она и закурила тонкую темную сигарету. – «Тимофеевна»!.. – она исподлобья посмотрела на меня, а я совершенно некстати подумала, что вот такой образ – устрашающий, мощный – был бы ей гораздо более кстати.
Затянувшись пару раз, Герда смяла тонкую сигаретку в большой пепельнице, выдвинула ящичек стола, достала совсем другие сигареты и закурила снова. Я почувствовала сильный запах крепкого мужского табака. Вот это я понимаю, это внятно и стильно. Еще бы какой‑ то брутальный наряд…
– Сволочи… – покачала головой Герда, с удовольствием вдыхая едкий сизый дым. – Докопаетесь до всего. Тебе вот это интересно, да?
– Мне… – Я не знала, как объяснить Герде, почему я спросила про ее внучку. А я была практически уверена, что девочка, образ которой так четко возник только что у меня в голове, – это внучка Герды. – Нет, Герда, я не за этим пришла, и мне это неинтересно. То есть интересно, но писать я об этом не собираюсь. Извините.
– И все равно. Пошла ты… – Герда выругалась, но я даже и не обиделась на нее.
Верочка бледной тенью метнулась за мной, когда я выходила из парадного зала Герды. Промолчав все время моего неудавшегося интервью, она тут же спросила, лишь только мы оказались за дверью: – О чем вы говорили? Я ничего не поняла. Почему она так закричала вдруг?
– Я случайно затронула один больной вопрос.
Почему‑ то мне не хотелось дальше говорить с Верочкой об этом. Я поняла, что задела что‑ то, не предназначенное для посторонних глаз. Вот только как случилось, что я оказалась как будто и не посторонней? И я даже совсем не удивилась, когда час спустя мне позвонила Герда.
– Можете приехать сегодня ко мне еще раз?
Я прикинула свое время.
– Да, наверно, смогу.
Я знала, зачем меня позвала Герда. Я почувствовала ее боль, почувствовала, как ей плохо. И она это поняла. И я вернулась обратно. Высадила Верочку у метро и, пытаясь обогнать с каждой секундой растущую в стороны области пробку, помчалась обратно.
– Тебе как – денег предлагать или пугать? – спросила меня Герда, успевшая переодеться.
Вместо короткой открытой маечки, обнажавшей ее чуть увядшие прелести, она натянула бесформенный светлый свитер, в котором казалась гораздо стройнее и моложе. Вот так бы и пела. Жаль, что она не слышит моих мыслей. Ведь если я скажу это вслух, Герда не поверит.
Я поняла, о чем она спрашивает. И поняла, как я ошибалась, когда почему‑ то подумала, что Герда ощутила мое сочувствие. Чтобы получить еще одну оплеуху, возвращаться не стоило. Надо как‑ то оправдать хотя бы для самой себя то, что я из‑ за Герды проехала по очень непростой дороге в общей сложности лишние пятьдесят километров.
Я смотрела сейчас на Герду, похоже, хорошо поплакавшую после того, как мы с Верочкой уехали, и видела странную картину. Высокий, полный молодой человек изо всех сил бил красивую девушку. Кажется, я видела эту девушку на фотографиях в Интернете, когда просматривала на скорую руку все, что есть там о Герде и ее жизни. Девушка – это ее дочь. И уже не девушка, а мама той маленькой беленькой девочки.
Герда меня что‑ то спросила. Я не ответила, лишь кивнула. Тогда она начала говорить. Я кивала, особенно не вслушиваясь. Я снова и снова видела ту картину, страшную и очень простую. Дочка Герды стоит, почти не прикрываясь, а полный человек, с неприятным обрюзгшим лицом, как будто обложенным пухлыми мешочками, как‑ то неловко, неумело бьет ее. У нее начинает течь кровь из носа, заплывает глаз… Господи…
Я даже помотала головой, чтобы ушла эта ужасная картина, но она никуда не ушла. Видимо, Герда просто больше ни о чем не может думать. Может думать только о том, как неприятный человек, похожий на неаккуратно набитый старыми тряпками большой мешок, бьет ее красивую нежную дочь. А та стоит, не двигаясь, не защищаясь и не убегая. Я поняла, что позади, чуть в стороне, стояла беленькая внучка Герды. Стояла и на все это смотрела, тоже не двигаясь с места и не говоря ни слова. Потом она что‑ то закричала и подбежала к матери. И один удар пришелся ей прямо по голове, по ее беленьким, тоненьким волосикам…
– Он ее отец? – спросила я, оборвав на полуслове Герду, разглагольствовавшую о том, как ей, всю жизнь прожившей без мужей, ее единственной дочери, а также всем родственницам по женской линии по‑ настоящему повезло в жизни с мужчинами – надежными, порядочными, успешными…
– Допустим, – ответила мне Герда и посмотрела на меня тяжелым взглядом. – Ты все‑ таки надеешься написать об этом?
– Я не буду писать об этом, Людмила Тимофеевна.
– Да какая я тебе Тимофеевна! Прекрати! – махнула рукой Герда. – Ты что, ничего не слышала, что я сейчас сказала?
– Нет… То есть слышала. Я даю вам честное слово, что я не собираюсь писать о вашей беде.
– Что? – засмеялась Герда. – Честное – это сколько? А у нас нет никакой беды. Попробуй только вякни хоть слово, ты сразу об этом узнаешь. О том, что у нас…
Я дала ей высказать все, что она хотела, а потом предложила:
– У меня есть очень хороший врач. Знакомый психиатр. Может, он сможет помочь девочке?
– Я тебе сегодня сказала, куда тебе пойти? – ответила мне Герда.
Я молча поднялась и вышла из комнаты. Почему‑ то мне казалось, что Герда позвонит мне снова. Как бы ни был изуродован и фальшив тот мир, в котором она жила, как бы сама она ни рядилась в бальные платья на сцене и подростковые одежды в обычной жизни, она должна была почувствовать мою искренность. Иначе… иначе просто невозможно жить, если перестаешь отличать искренность от фальши.
На сей раз я оказалась права. Я не успела даже доехать до дома, как Герда снова позвонила мне.
– Что, хороший врач?
– Хороший.
– Лет сколько?
– Около сорока.
– Степень есть? Хотя это все ерунда.
– И степень есть, и человек он нормальный. Я его с детства знаю.
– Давай номер. Он будет молчать, хотя бы за деньги?
– Думаю, что будет.
– Он… Хотя ладно! Сама разберусь.
Я без лишних разговоров продиктовала ей номер Костика Семирявы. Слабое сомнение у меня, конечно, мелькнуло – а откуда я, собственно, знаю, что Костя хороший врач? Мама мне его рассказывала, когда я ее встречала в магазине и на почте? Так для мамы любой сын – хороший врач, лучший повар, гениальный музыкант. Если остальные этого не понимают – они себя обделяют. Мне Костик не помог, что я, собственно, лезу?
Герда отключилась, не поблагодарив и не попрощавшись, но мне было достаточно, что она позвонила. Значит, не всё так плохо в этом мире.
Глава 18
– Борга, поедешь завтра в Калюкин, – шеф сказал быстро и безапелляционно, как будто заранее ожидая моих возражений. Может, знал, что у меня завтра эфир?
– У меня завтра эфир, – ответила я.
– Значит, послезавтра. Звезды эфира, смотрите‑ ка, у меня на зарплате сидят… Гнать бы вас всех…
Я смиренно вздохнула в трубку, не видя шефа, но отлично представляя, что уже с самого утра он красный от взметнувшегося после невинной чашечки кофе давления, и просто физически ощущая, как тяжело давит сегодня его собственное тело. Как трудно, когда ты – легкий, стройный, быстрый, ироничный – заточен в тяжелое, неповоротливое, скрипящее при каждом неловком повороте, плохо слушающееся тело.
– А что такое Калюкин?
– Город, Борга! Русский город на… Волге.
– Или на Оке, – подсказала я.
– Ну да. Или на Оке. Так, подожди, ты там была, что ли?
– Нет, – вздохнула я. – Просто речки перебираю, какие помню. А что там, в Калюкине? Упали все заборы у оставшихся трех домов? Или сгорел единственный вытрезвитель?
– Какая же ты злая, Борга. Я, кажется, тебе это уже говорил. Нет, там живет художник или писатель… гм… детский… Вообще он бывший летчик или…
– Или космонавт, – подсказала я, заранее представляя себе этого художника или писателя.
Наш шеф, хорошо известный своим отсутствием чувства юмора, завозился в кресле. Я услышала в трубке скрип кожаной обивки и представила, как он крутится в кресле, энергично почесывая грудь и качая большой лысоватой головой. Я невольно хмыкнула.
– Смейся, смейся. Благодарить должна, что тебя на самые лучшие репортажи посылают.
– И что же там лучшего, в Калекине этом?
– В Калюкине, во‑ первых. Люди там живут нормальные, наши, российские люди, как мы с тобой. Только деваться им некуда. Нечего иронизировать. А во‑ вторых… Художник этот, бывший летчик или…
Я едва удержалась, чтобы снова что‑ нибудь не сказать.
– В общем, неважно. Он комиссован из армии раньше срока… или срок отбывает условно… за что‑ то. Да нет, ну что ты меня путаешь! Вот тут у меня написано – космонавт! Да, – шеф сам удивленно хмыкнул. – Все вроде точно… И пишет книжки… или картины… не пойму, что написали… «маслом…» Значит, картины. Так! Ты своими хохотунчиками меня с толку не сбивай! Короче говоря, интересная судьба. Из огня да в полымя. Поезжай, узнаешь все, напишешь.
– А он хотя бы известный космонавт? Или из резерва? Или он вовсе не космонавт, а отставной разведчик с условным сроком, который ему вменил королевский суд государства Уганда? Читателям будет интересно? Они его видели когда‑ нибудь на экране телевизора?
– Так, все, Борга, не обсуждается. Уганда, кстати, давно уже не королевство. Знать нужно. Вот политинформации вам введу, по понедельникам, в девять утра… Так, ладно. Адрес у секретаря возьмешь, командировочные выпишут. Гостиницы… там нет, кажется. Справишься как‑ нибудь, снимешь комнату, денег хватит. Да это близко, в принципе, за день управишься, обратно вернешься, если больше в городе ничего интересного не будет. Обнаглели, разбаловались…
– В канализацию не полезу, передумала, – предупредила я, чем вконец разозлила шефа.
С некоторых пор у меня сложилось ощущение, что Вячеслав Иванович так ненавязчиво, бочком‑ бочком пытается выпереть меня из журнала, что само по себе было абсурдно. Ведь он мог уволить меня по‑ простому, без обиняков. Но он, по всей видимости, сам себе не хотел признаваться в том, что я чем‑ то стала его очень раздражать. В самом деле, не из‑ за беспомощной же Верочки он пытался заставить меня уйти? А чем еще можно объяснить, что мне все чаще попадались самые скучные, невыигрышные – с точки зрения нормальной логики нормального журналиста, пишущего для среднестатистического обывателя, репортажи и интервью.
Обидное слово, кстати, «обыватель». А по сути, что в нем плохого? Обыватель – это просто тот, кто живет обычной жизнью. Не рвется в небеса, не ныряет в глубины морские в поисках неведомых затонувших царств и кораблей, не расковыривает материю до самых мельчайших ее частиц, чтобы понять, что же там, в самой основе жизни, какие загадочные, мощнейшие силы всем руководят, совершенно независимо от нашего желания, от нашего осознания их…
Ну да ладно. Если почему‑ то для нашего журнала интересен этот «космонавт», живущий в Калюкине, кто‑ то ведь должен о нем написать. Космонавт так космонавт, кто бы он ни был на самом деле. О ком и о чем только я за свою жизнь не писала. О космонавтах вот не случалось. Чем, собственно, отставной летчик хуже отставной певицы? Странный профиль, однако, вырисовывается в последнее время у нашего журнала…
До Калюкина – часа три быстрой езды на машине. Столько же на электричке, с пересадкой. Можно было, конечно, добраться на проходящем поезде, но я решила поехать на своей машине с утра пораньше, совсем пораньше, пока не выехали грузовики и трейлеры.
У меня в голове остался образ старых провинциальных городков, тихих, с тремя автомобилями, одним старым автобусом и одним магазином, в котором торгуют в принципе всем, что нужно для жизни. Если действительно жить, а не превращать жизнь в процесс покупки, приготовления и поглощения пищи, а также в приобретение неких очаровательных бессмысленных предметов, с которыми живется точно так же, как жилось без них.
Но городков таких, по всей видимости, больше нет. Новая жизнь изменила и большие города, и маленькие. Ехать в Калюкин мне совсем не хотелось, «интересная» судьба бывшего летчика‑ космонавта меня заранее раздражала. Я даже подумала, что стала, наверно, уставать от своей профессии, от пусть не заказных, зато «приказных» репортажей и суеты.
Глава 19
Встав в четыре утра, я, как и хотела, оказалась на дороге почти первая. Хотя в езде по пустым улицам и шоссе есть свои особенности. Про ограничения скорости, указатели главной дороги и всякие другие глупости можно просто забыть. Если человек один на дороге, зачем он будет соблюдать правила? Человек, едущий у меня по встречке… Пару раз я чуть было не попала в аварию, когда не учла это обстоятельство.
В Калюкин я приехала в семь утра. Можно было спокойно походить по городку. Утро очень располагало к этому. Настоящее весеннее утро, с приятной прохладцей, нежными бледно‑ зелеными листиками, замершими в ожидании дня, пробуждающаяся жизнь маленького городка…
Русские городки если и похожи друг на друга, то только на самый первый взгляд. Квадратная площадь перед исполкомом и сам бывший исполком, а ныне управа в тяжелом сером здании по‑ прежнему портят центры большинства провинциальных городков. Но дальше каждый город имеет свой облик, часто повторяя неровный ландшафт местности.
Калюкин оказался расположен на довольно ровной местности, чуть спускающейся к озеру. Улицу Коммунистическую я заранее нашла на карте, собираясь оставить машину в центре и прогуляться пешком до дома «космонавта».
Подходя к дому, обозначенному у меня в адресе как дом 17А, я почувствовала еле заметное беспокойство. Причину его я понять не могла. Так же как и не понимала, почему я еще издалека увидела этот коричневый деревянный дом, ничем особо не примечательный, по крайней мере внешне, и точно знала, что он и есть 17А.
Был еще и дом просто 17, стоял рядом заколоченный. В нем раньше была почта, судя по оставшимся трем буквам «очт» на покосившейся вывеске. Там когда‑ то пахло горячим сургучом, из которого получались толстенькие, симпатичные печати на посылках, коричневой оберточной бумагой, плотной, непослушной и еще чем‑ то, что заставляло меня в детстве замирать каждый раз, заходя на почту.
Наверно, не очень приятно жить рядом с заколоченным домом, думала я, нажимая на кнопку у калитки. Звука никакого не раздавалось, поэтому, для проформы постучав в калитку, я толкнула ее и вошла во дворик.
Двор как двор. Подметен, у стены стоит большая метла. Старый деревянный стол, старая скамья… Ох, боюсь я чужой бедности… Громко гавкнула собака где‑ то сбоку от меня. Я остановилась.
– Вы ко мне? Вы, видимо, из журнала?
Я обернулась на голос. Вот это да. Если он и был космонавтом, этот крупный человек, то очень давно. С тех пор он успел наесть килограмм двадцать, как минимум. Да и странно, разве таких крупных мужчин берут в космонавты? Разве что во вспомсостав, отрабатывать на них экспериментальные тренажеры да нештатные ситуации на борту…
С некоторых пор меня время от времени стало посещать ощущение бессмысленности того, что я делаю в жизни. И я с удовольствием и любопытством всегда смотрю на тех, кто радуется результатам и процессу своего труда. Вот и сейчас я с приятным удивлением смотрела на раскрасневшегося от работы на свежем воздухе – подмел двор и, вероятно, только что поставил метлу, – всем довольного человека.
– Да, меня зовут Лика. А вы – …?
Крупный человек с неподдельной радостью распахнул руки, словно собираясь меня обнять.
– А я… – он очертил руками подобие круга и сам огляделся по сторонам.
Ясно, он – это гораздо шире, чем пятидесятый мужской размер. Он – и этот двор, только что тщательно выметенный, и старый, но аккуратный дом, и, надо признаться, – прекрасный вид на озеро, открывающийся из его дворика. Редкий вид в настоящее время. В мегаполисе за такой вид платят очень большие деньги, приобретая квартиру. И в радиусе ста километров от столицы тоже.
– Я Климов Евгений Павлович. Вот это мой верный друг, – он показал на рыже‑ коричневого добермана, молча сидевшего рядом с ним и внимательно поглядывавшего на меня. – Пятьдесят Второй. Такая вот у него фамилия…
– Ясно… – сказала я и перевела взгляд на пса, отчего он встал, обошел меня кругом, на ходу обнюхав, и сел на свое место рядом с хозяином.
– Подходит? – спросил Климов пса. Тот в ответ слегка постучал коротким хвостом о землю. – Вот и ладно. Ну что, Лика, пойдемте в дом, я вас напою чаем. Или кофе?
– Или кофе, – согласилась я. Обожаю простые ситуации и простых, в хорошем смысле, людей.
Мы вошли в дом. Пес как ни в чем не бывало вбежал за нами, но дальше прихожей не пошел. Улегся там, продолжая поглядывать на меня.
Климов усадил меня за стол, сам спокойно и энергично стал налаживать завтрак и при этом с таким любопытством смотрел на меня, как будто это он должен был брать у меня интервью, а не я.
А мне так не хотелось почему‑ то приступаться к нему с вопросами. Я бы с удовольствием попила сейчас с ним кофе, посмотрела картины, развешанные по дому. Сейчас я хорошо видела только одну, на стене между окнами. Спросила бы о странной кличке пса и его наверняка выдающихся способностях (кто из хозяев скажет иначе про своего любимца? ). И ушла бы восвояси. Или не ушла бы. Осталась бы на обед.
Я не выспалась, встав сегодня в четыре утра, и поэтому в голову лезли непонятные мысли. И сама голова была неприятно гулкая… Зато доехала быстро. Увы. Человек‑ функция. Я плохо себя чувствую, но это не важно. Важно, как выполняется моя маленькая функция в плохо организованном, аморфном процессе общественной жизни. Даже если эта моя функция никому особо и не нужна. Очень хитро замкнутый круг, практически лента Мёбиуса, если чуть‑ чуть поумничать и вспомнить основы физики и математики. А не вспоминая, крутясь на крохотном пятачке собственной функции, можно совсем потерять ориентиры. Есть, пить, забивать свой маленький гвоздик, получать за это корочку хлеба, желательно с маслом, мыть руки перед едой и снова есть, пить…
– На обед останетесь? – неожиданно спросил Климов и хитро глянул на меня. – У меня к обеду намечается половинка печеного гуся с яблоками и гречневая каша с грибами. Так как? Решайтесь!
– Это надо решить срочно?
– Разумеется. Для того чтобы расслабиться и начать отдыхать, надо понять, что хотя бы в ближайшие три часа вам некуда будет спешить.
– Да я вообще‑ то не отдыхать сюда приехала… – вполне доброжелательно ответила я, разглядывая простую, но вовсе не угнетающую бедностью обстановку дома бывшего космонавта.
– От города нужно отдыхать, иначе он сведет с ума, – похоже, со знанием дела объяснил мне Климов.
– Вы полагаете, все живущие в городе сошли с ума? – спросила я, почти автоматически доставая маленький диктофон и нажимая кнопку записи.
Космонавт поднял одну бровь, увидев мой профессиональный жест, но продолжал разговаривать со мной как ни в чем не бывало.
– Конечно. Вот вы, к примеру, вместо того чтобы интересоваться с дороги, где помыть руки или хотя бы что будет на завтрак, спешите записать наш совсем необязательный разговор, чтобы напечатать его потом в совсем необязательной статье. Кто‑ то просмотрит ее, заинтересовавшись, как живут в новые времена космонавты, пусть и бывшие, – на золоте ли едят, и выбросит журнал, который еще недавно был веткой какой‑ нибудь сибирской или карельской сосны.
– Мне тоже многое из городской суеты кажется абсолютно бессмысленным, – кивнула я. – Но ее остановить невозможно. Человеческими силами, по крайней мере. От нее можно только уйти. Как, вероятно, ушли вы. Я правильно понимаю? Но у вас наверняка есть военная пенсия, на которую можно худо‑ бедно прожить.
«Интересно, хватило бы ее на двоих? » – промелькнула у меня странная мысль. Или я ухватила обрывок какой‑ то его мысли? Я отвлеклась от разговора, вдруг осознав, что ни разу с тех пор, как увидела Климова, не услышала, о чем он думает. Может, на природе мой дар пропадает? В отсутствие ненормальных ритмов мегаполиса…
Я смотрела, как ловко Евгений Павлович справлялся с каким‑ то блюдом, которое он мешал в большой посудине, собираясь ставить ее в духовку, и пыталась понять, почему же мне совершенно не хочется продолжать ненароком начатое интервью – ни сейчас, ни потом. Мне понравился Климов? Вряд ли. Мне разонравилась моя работа? Не знаю… Столько лет брать интервью у самых разных людей, не спрашивая, а хотят ли они этого, и, главное, не спрашивая себя – зачем это мне, и вдруг задуматься – а стоит ли задавать людям вопросы, которые ставят их в тупик, травмируют, вынуждают говорить на темы, о которых и думать‑ то подчас больно…
– Мне совсем не нравятся мужчины в последнее время, – услышала я свой голос и поняла, что в поле Евгения Павловича веду себя неадекватно. Хотя, возможно, я просто устала – от своего внезапного ясновидения, от всех событий, обрушившихся на меня после больницы.
Евгений Павлович заинтересованно, но довольно спокойно взглянул на меня:
– А кто нравится? Мопсы в стеганых жилетках?
Я засмеялась:
– Да, с капюшончиками! Не обращайте внимания. Это я как‑ то случайно сказала.
– Смотрели на меня и думали… Хотя нет. Я не буду вам говорить, о чем вы думали.
Я была уверена, что последние слова Климова были не более чем фигура речи. Не могла же я встретить товарища по несчастью, человека с такой же… проблемой – или как лучше назвать мой внезапный, не очень понятный и довольно утомительный дар – всё знать про всех.
– Почему нет? – пожал плечами Климов. – Другой вопрос, почему так совпали звезды и именно вас прислали делать репортаж…
Я подумала, что ослышалась, и осторожно взглянула на космонавта. Он невозмутимо выкладывал на блюдо свежие овощи. Так вполне в духе сельской жизни… Плотный завтрак с мясным блюдом (из духовки явственно запахло чем‑ то аппетитным, но не очень вяжущимся с мгновенной утренней молочно‑ злаковой трапезой, к которой я привыкла), овощи, скорей всего, из своего огорода, прошлогодний урожай… Не хватало только водочки… и румяной, плотной хозяйки.
– Водку с утра не рекомендую. Овощи с рынка, огород меня утомляет. А хозяйка… временно отсутствует.
У меня неприятно заныло внутри. Вот зачем мне это? Мало того, что приходится теперь жить со своими странностями, еще этот дядя… пусть даже бывший космонавт. Просто так ведь не отмахнешься…
– Мне писать о вашем ясновидении? – спросила я, рассматривая комнату, точнее большую кухню, в которой я сейчас находилась. А еще точнее, кухню‑ столовую – на городском языке, пытающемся приспособиться к отчаянным поискам дворянских предков, ведущихся повсеместно. – Писать?
– О чем? – как будто удивился Климов.
Я промолчала. И он тоже ничего больше не сказал.
– Ну вот что, – я посмотрела ему прямо в лицо, отметив про себя, что он, возможно, моложе и симпатичнее, чем показался мне вначале.
– Мне сорок девять лет, – сдержанно заметил Климов. – Советую вам, кстати, не преувеличивать значение того, что вы так громко назвали способностью ясно видеть. В любом случае лучше видеть всё ясно, чем ничего не понимать. Разве нет?
Мне почему‑ то показалось, что не стоит поддерживать этот разговор. Не сойти бы мне с ума, в самом деле. Неужели я за этим ехала три часа с утра пораньше?
Я подумала, что надо вставать и уходить, а Климов проговорил, продолжая невозмутимо налаживать завтрак:
– Не торопитесь. Ведь вы не задали мне и половины своих вопросов. Не за этим же вы ехали три часа.
– Это черт знает что! – не выдержала я. – Неужели и я теперь так действую на людей?
– Вы думаете, это очень редкая способность – понимать с полуслова или даже без слов своего собеседника? Мне, к примеру, это кажется нормальным. Возможно, когда‑ то это умели все люди. Слова, скорей всего, были для другого. Для пения, например, для рифмования их в красивые звучные строчки…
Да, я слышала, что после пребывания в невесомости и сильных перегрузок не у всех мозги встают на место. Но при чем тут я? Я‑ то не побывала в космосе, я просто перевернулась на своем автомобиле и перенесла общий наркоз.
– Так дело же не в космосе! – тут же ответил мне Климов. – А как ваша нога, кстати?
Я встала, потом села, потом снова встала. Нет, привыкнуть к этому невозможно. И разговаривать так не получится.
– Хотите, я буду делать вид, что не понимаю, о чем вы думаете? – улыбнулся Климов.
Мне понравилась его улыбка – уверенная и спокойная.
– Вот видите, – тут же сказал он. – А говорите, вам не нравятся мужчины. Всё‑ всё‑ всё! – он поднял руки. – Молчу. Вы будете чай или кофе?
– Я бы посмотрела для начала ваши картины, – попыталась как‑ то взять инициативу в свои руки я. – Ведь именно это интересно нашим читателям. Как космонавт, бывший космонавт, пишет теперь картины…
О! Вот и я что‑ то услышала! «Никогда не называйте того, кто перестал ходить в море, бывшим моряком! » – подумал Климов. А может, это я вдруг подумала – что могла обидеть его, назвав бывшим? Я попыталась поймать его взгляд, но Климов, будто нарочно, надел дымчатые очки, скрывающие глаза, и объяснил:
– Гораздо лучше вижу в очках. Поэтому ношу их в исключительных случаях.
– Остроумно, – кивнула я. – Особенно после сентенции о пользе ясновидения.
Климов улыбнулся, как будто я сказала какую‑ то глупость, и открыл дверь в соседнюю комнату.
– Прошу. Фотографировать можно. Критиковать и задавать вопросы нельзя.
Как же мне везет в последнее время на смелых художников, научившихся рисовать в предпенсионном возрасте… Слава Веденеев с его огромными глазастыми жуками, вот теперь космонавт Климов с наверняка дилетантскими художествами… А может, это не случайно? Люди с выдающимися способностями пытаются охватить большее, гораздо большее, чем умеют делать. Им хочется творить новую реальность, создать свой мир – мир нарисованный, вылепленный, мир как будто бы живых людей, живущих где‑ то там, где законы жизни те же, да не те, где действует главный и по определению бездействующий закон нашей жизни – торжествует добро, несмотря на объективные и очевидные обстоятельства.
Я прошла мимо приятно крупного космонавта в комнату с картинами. Надо же, я физически чувствую присутствие приятного мне человека. Каким словом это назвать? Внезапно вспыхнувшим желанием? Глупо и пошло. Пусть будет симпатия.
Если, кстати, постоянно не искать слов, изящно обходящих физиологические подробности бытия, можно за двадцать лет растерять то, что мои предки копили тысячелетиями. Человек стоит между зверем и ангелом – хорошее определение Томаса Манна. Не облагораживая никак свой инстинкт продолжения рода, есть опасность приблизиться к зверю. То ли вернуть свою первоначальную сущность, то ли выродиться… И возвратиться в ту точку Х, когда Создатель сказал: «Ну всё, хватит, вы дошли до последней точки. Вас уже не исправишь, вас можно только уничтожить и начать все сначала». Сказал и – руками ангелов своих непорочных – уничтожил.
Так, по крайней мере, говорится в одной исторической книжке, которая весьма почитается многими моими современниками, а именно в самой древней, Ветхой части ее. Я же не то чтобы подвергаю сомнению, просто не знаю точно, чему верить. Написанному в этой книжке верить трудно, слишком много противоречий и удивительных вещей. Совсем не верить – глупо и самонадеянно. Обрывки давно потерянного прошлого, заключенные в витиеватые фразы, метафоры, перепутанные или переделанные…
Мои размышления не мешали мне внимательно наблюдать за обаятельным Климовым. Я всячески старалась не поддаваться на его явное обаяние, подозревая, что не столько он обаятелен, сколько я одинока. И от общения, как он сам выразился, с временно одиноким мужчиной невольно волнуюсь. Примериваю его к себе. К тому же мне всегда нравились уверенные и успешные мужчины, пусть даже и отошедшие от дел…
Глава 20
Картины Климова меня приятно поразили – своей наивностью, открытостью, свежестью красок, гармоничностью линий и… простотой. Той простотой, что, возможно, граничит с идеалом. На них не было ни колец Сатурна, ни вида Земли из космоса, ни комет с яркими хвостами. На них была Земля – ее живописные виды в окрестностях Калюкина, как я думаю. В разное время года. Еще Климов делал небольшие скульптуры из глины и расписывал их в стиле современного кантри, скорее прибалтийского, чем среднерусского, в котором сочетается и традиция, и фантазия современного человека, не связанного условностями одной школы. Очень все мило, приятно, интересно. Попав случайно в художественный салон и обнаружив там такие вещи, я бы что‑ то из них непременно постаралась купить.
– Что вам подарить? – спросил Климов в ответ на мои мысли.
– Не знаю, – честно ответила я.
– Хорошо, – кивнул он. – Решите позже. После обеда еще раз посмотрите.
Он не спрашивал, хочу ли я этого. И мне вдруг стало приятно, что кто‑ то решил за меня, что я буду делать после обеда.
– О чем задумались? – спросил меня Климов, как будто сам не знал.
Возможно, и не знал, я ведь тоже не всегда понимаю, о чем думают люди, слышу чужие мысли выборочно. И так успела к этому привыкнуть, словно жила с этим всю жизнь. Может, это и правда утерянное знание? От тех времен, о которых нам ничего или почти ничего не известно.
Настолько ничего не известно, что большинство людей не только не интересуются, что было на земле до нас – суетных, малорослых, недолго живущих, постоянно болеющих и плохо владеющих своим телом, но и отметают всяческие крупицы знания о прошлом. Не было ничего до нас! И все тут. Кто‑ то согласен вести свой род от обезьяны или обезьяноподобного существа, миллионы лет ковырявшего землю грубым осколком камня. Кто‑ то покорно и нелепо верит в многократно пересказанное, переведенное с языка на язык древнее знание о сотворении мира, не вдумываясь. Так удобно быть в тени и в сени Всемогущего, за несколько дней сотворившего мир. Уж наверняка он и остальное решит как‑ нибудь, без нашего участия, не даст нам, неразумным, сорваться в пропасть, взорвать себя, измельчать и телом и душой…
– Я задумалась о том… – я секунду помедлила, – о том, что в некоторых из нас, вероятно, действительно есть частица бога, заставляющая творить свой собственный мир или улучшать тот, что есть.
– А в некоторых нет, – легко кивнул Климов.
Я не стала отвечать. Не люблю говорить вслух, особенно с мужчинами, о тех вещах, смысл которых мне самой не очень понятен. Вместо этого я спросила:
– Можно вопрос не для интервью?
– Пожалуйста, – кивнул Климов. – Смешно вы делите мир на мужчин и женщин, кстати.
– О господи, – вздохнула я. – Неужели я тоже так невыносима, когда понимаю, о чем подумал мой собеседник, вовсе не собираясь мне этого говорить?
– Вопрос, – подсказал мне Климов, наливая себе третью чашку чая. – Вы хотели задать мне вопрос.
– Кем бы вы были, если бы не стали космонавтом?
– Я случайно стал, как вы выражаетесь, космонавтом. А точнее, членом исследовательской группы. Я учился в МАИ, на факультете космонавтики, собирался построить… Теперь уже не важно, все равно не построил. Хорошо учился, а также прыгал и бегал, не болел. Вот и получил приглашение в отряд космонавтов. Приглашение на уровне ультиматума.
– Неужели есть мальчик, который не хочет стать космонавтом? – удивилась я.
– А вы хотели стать в детстве актрисой? Кажется, все девочки этим переболели в свое время, – усмехнулся Климов.
Я покачала головой:
– Представьте, нет. Я хотела быть капитаном парусного судна, плавать вокруг Земли.
– А я хотел быть большим ученым, конструктором. Создать то, что никто до меня не мог создать.
– А я еще хотела быть певицей, настоящей, оперной певицей.
– У вас есть голос?
– Увы. Слух есть, а голоса нет. Я много лет видела сны, как я пою, – сильным, высоким голосом.
– Может быть, так будет петь ваша дочь?
– Можно мне попробовать местный хлеб? – вместо ответа сказала я. – Давно не ела хлеб, который пекут в провинции. Раньше он был ужасен. Три сорта – серо‑ белый, серый и серо‑ черный, кисловатый и пустой.
Климов внимательно взглянул на меня и продолжать разговор про детей не стал.
– В этом городе есть новая пекарня, но, боюсь, москвичку местный хлеб все равно разочарует. Уже никто не помнит, как печь хлеб.
– В «этом» городе? Вы разве не родились здесь?
– Вы правы. В моем городе. Родился и жил до семнадцати лет. Но потом я больше чем на тридцать лет уехал. И… сложное ощущение, если честно. Это город моего детства. И это не он. Всё ведь изменилось.
– Почту закрыли, – подсказала я.
– Да. Все поумирали, поуезжали… Остался разве что берег озера, на которое мы бегали купаться. Улочки остались…
– Почему вы приехали сюда? – спросила я, зная, что Климов не ответит.
И в который раз за последнее время я подумала: а вот имею ли я право бередить человеку душу, задавать, быть может, самые сложные вопросы, на которые ответов нет? Точнее, они есть, но невозможны. Есть вещи, которые нельзя формулировать – ни для других, ни для самого себя. Иначе завтра может оказаться незачем жить. Тем более, что любая формулировка условна и сиюминутна.
– Я согласился на интервью, потому что иногда мне кажется… – он замолчал.
Я знала то, что он не стал говорить. Иногда ему кажется, что жизнь его кончена.
– Мой собственный выбор был – приехать сюда. Но… Только оказавшись здесь, я могу оценить все то, чего я не сделал в жизни.
– А что сделали?
– Это как бы само собой разумеется. А вот то, что не сделал… Я отдаю себе отчет, что активных лет осталось… десять, от силы пятнадцать. И понимаю, что должен выбрать, что мне делать, чтобы совсем уж не… – Климов махнул рукой.
– У вас есть дети?
– Сын. Двадцать три года. Давно живет в Америке с мамой. Точнее, теперь уже живет один. Жена поехала в Америку работать, да так там и осталась – взяла кредит на дом, потом на другой, получше…
– Хорошая работа? – осторожно спросила я.
– Да нет, – пожал плечами Климов. – Лихорадочно выучила английский, работает в лаборатории и проводит занятия в анатомичке со студентами. Но там она чувствует себя человеком. Живет в большом доме, выплачивает за него ежемесячно, денег хватает. Защищена государством от голодной старости, от хамов и всего прочего безобразия, от которого никто, ничто и никогда не защитит в России.
– Другие корни.
– Конечно, – кивнул Климов. – Большинство наших предков веками засыпали в жарко натопленных избах с кислой капустой в нечесаной бороде. Полгода зима – спали да доедали по сусекам, ждали лета. У американцев другое прошлое. Не то что более славное, а просто другое. Некоторые наши соотечественники отлично приживаются там.
– И тут же забывают про капусту в бороде.
– Это кто как! – засмеялся Климов. – Генная память – страшная вещь. Ладно. А насчет меня… Ведь в вашей воле – как повернуть. Можете написать о сломанной судьбе космонавта‑ неудачника, даже точнее – дублера‑ космонавта, под старость лет осевшего на пенсии в захолустном городке, из которого все бегут. А можно…
– А можно написать, – продолжила я, – как человек не сломался от всех неудач, живет в чудесном бревенчатом доме на берегу прекрасного озера – мечта многих москвичей. Смотрит каждый день на закаты, думает в этой связи о вечном, пишет неплохие картины и не мучается, не мается, не суетится. Не стоит в пробках, не платит проценты по кредитам, готовит к обеду печеного гуся, ожидая гостей, и перед сном читает что‑ нибудь из русской классики. И… еще, возможно, и сам пишет что‑ то.
Сама не знаю, почему сейчас я это сказала. Я увидела, как улыбнулся Климов.
– Да? Правда? И что же вы пишете? Фантастические повести? О других планетах и мирах?
– О том, как два космонавта заблудились на планете, населенной гуманоидами. Вот представьте, нет. Вся философия этого написана Стругацкими, мне добавить нечего.
Я внимательно смотрела на Климова и, наконец, поняла, чего же ему не хватает. Небольшой округлой бородки, аккуратной, с легкой сединой. Не той, в которой застревают во время необузданных трапез и возлияний крошки. А бородки настоящего сказочника, пишущего для детей хорошие, добрые книжки.
– Правильно, сказки, – кивнул Климов.
– Вы публиковали их?
– Пока нет.
– А можно мне взглянуть?
Я, кажется, даже не успела подумать, правильно ли я делаю, что прошу у него почитать сказки. А вдруг они окажутся слабыми и неинтересными? Ведь я не возьму на себя такого права сказать ему об этом.
– Я читал их соседским детям, – ответил мне Климов и одним движением пододвинул ко мне ноутбук, стоявший на другом конце большого стола, за которым я сразу нашла какое‑ то очень удобное место. – Они‑ то и подтолкнули меня писать дальше. Не уроните свой диктофон. Требуют и требуют продолжения. Я не обольщаюсь, они ничего практически не читают, для них в новинку. Но… Вы не поверите, мне самому нравится читать то, что я написал давно и уже забыл.
«А то! – подумала я. – Неужели найдется поэт или прозаик, который откажется снова и снова читать им же самим и написанное? И каждый раз, как в первый».
– Но вы совсем не злая, – ответил мне на мои мысли Климов. – Просто у вас так мозги устроены – вы умны и насмешливы.
Нет, к этому, наверно, нельзя привыкнуть. Или придется очень долго привыкать…
– Мне нравится ход ваших мыслей, – улыбнулся Климов. – Читайте, милая Лика. Остано´ витесь, когда станет скучно.
Глава 21
Я вышла в сад, села на большие деревянные качели и стала читать. Я читала до самого обеда. Улыбалась, смеялась и разве что не всплакнула над приключениями и маленькими бедами чудесного лягушонка и его друзей – кузнечиков, бабочек, светлячков. Я давно не читала такой замечательной прозы – легкой, воздушной по слогу, увлекательной и остроумной. Я почему‑ то сразу представила себе Женю Апухтина с этой книжкой. Может быть, она бы отвлекла мальчика от его страхов? От дядьки, проходящего сквозь стены, поджидающего Женю под лестницей…
– Очень интересно, – совершенно искренне сказала я Климову, вернувшись в дом. – У вас просто талант. Неужели вы раньше ничего такого не писали?
– Ничего вообще не писал. Как вернулся к жизни после клинической смерти, сразу начал писать.
Он сказал об этом так просто. Вот и объяснение слишком ранней пенсии. Черт, в который раз сегодня я пожалела о том, что я журналистка. Ведь я должна об этом написать. Какой заманчивый поворот… Возвращение космонавта с того света – да сразу в писатели!
– Не пишите, – пожал плечами Климов.
– А вот вам почему хочется, чтобы о вас написали? – вдруг прямо задала я ему свой обычный хамский вопрос, но не Климова бы им припирать к стенке.
– Мне? – крупный человек растерянно развел руками. – Да у меня и в мыслях этого не было. Мне позвонил старый друг, поговорили о том о сем, он имеет сейчас отношение к телевидению. Вот он и предложил какую‑ то статью или передачу… А я согласился. Возможно, я был неправ. С другой стороны, я не увидел бы вас.
– Романтично, – кивнула я. – Давайте обедать. И прогуляемся, если можно. Я бы хотела посмотреть ваш город. А домой поеду очень поздно, когда схлынет поток машин.
– Оставайтесь до завтра, – спокойно предложил Климов.
Я посмотрела на него и еще раз подумала, что с бородкой он был бы точно образцовым детским писателем.
– А без бороды никак? – усмехнулся он.
– Почему? Я же вам сказала. То, что вы пишете, – отлично и прекрасно. Это нужно как можно быстрее опубликовать в хорошем издательстве. Только надо бы найти художника. Хотя… Вы сами не пробовали нарисовать иллюстрации?
Климов кивнул куда‑ то за мою спину. Я обернулась. Надо же. В таком крупном человеке, полжизни проведшем на тренажерах, готовившемся и так и не полетевшем, как я понимаю, в космос, живет абсолютный ребенок. А кто же, кроме маленького мальчика, мог вылепить и раскрасить все эти фигурки? Вот сам лягушонок, вот его подружка, вот паучок, сломавший сразу три ножки…
– А вот и их приключения… – он достал тонкий альбом для рисования и протянул мне.
Я рассматривала аккуратно сделанные рисунки и только диву давалась. Это целый прекрасный, волшебный мир, который откуда‑ то возник в голове у стоящего передо мной человека.
– Немножко не в той последовательности, – ответил мне Климов.
Кажется, я стала привыкать, что вовсе не обязательно произносить вслух то, о чем я думаю.
– Видите, а вы боялись, что на это уйдут годы, – ответил на мелькнувшую у меня мысль Климов. – Нет, мир не возникает в голове. Это как‑ то иначе. Ощущение, что я просто заглянул в небольшое окошко, которое открылось почему‑ то именно для меня. Что этот мир существует в реальности, что я не написал и сотой доли того, что там происходит. Написал лишь то, очевидцем чего сам оказался… Это звучит странно?
– Да нет, – пожала я плечами. – В меру. Возможно, так и пишутся хорошие книги – приоткрывается окно в неведомый мир, все, что успеешь увидеть и услышать, записывается.
– И придумывать ничего не надо, – на полном серьезе согласился со мной Климов. – Обед, милая Лика. Потом чай с плюшками и прогулка по древнерусскому городу, обнищавшему, но прелестному, наполненному тенями прошлого, старыми домами, если повезет – и колокольным звоном… Подходит?
Я никак не могла понять, что же мне больше всего нравится в этом человеке. Его интеллект, сравнимый с моим, – приятно и неожиданно? Его невероятная для образованного человека, прожившего бо´ льшую часть жизни в большом городе, простота? Его спокойное и, надо признать, интересное и благородное лицо? Или же его крупная, чуть раздобревшая, но еще вполне подтянутая фигура?
– Тренажер стоит за домом, – кивнул, не оборачиваясь от плиты, Климов. – Не могу не тренироваться. За годы это стало моей сущностью.
Или вот эта почти что фантастическая способность понимать без слов то, о чем я думаю. Как, однако, трудно было бы жить с этим человеком – не подумать ни о чем плохом…
– Не поверю, что у вас бывают дурные мысли, милая Лика, – проворковал Климов, накладывая мне на большую и вполне европейскую тарелку из полупрозрачного стекла хороший кусок сочного гуся с золотистой корочкой и несколько ложек гречневой каши. – Вряд ли вы съедите даже это, судя по вашей комплекции.
– Я постараюсь, – пообещала я, любуясь им и особенно не скрывая этого ни от него, ни от себя.
Как хорошо, что иногда вот так останавливается время. Отходят куда‑ то все проблемы – и суетные, и реальные, перестаешь нервно смотреть на часы и перебирать в голове пункты еще не сделанного на сегодня «Это успею, это вряд ли, это должна – кровь из носу, тут навру, что не успела, там навру, что очень хотела прийти, да здесь задержали…».
Время останавливается – его нет. Я не могла бы сказать, сколько времени прошло с тех пор, как я переступила порог этого дома. Час? Два? Может быть, четыре? Или даже больше? Судя по аппетиту, с которым я ела, около того.
Чего‑ то очень важного мы не знаем, наверно, о том мире, в котором живем. Например, почему в разных местах рождаются очень похожие люди – не внешне, внутренне. Гораздо более похожие, чем родственники по крови.
Сейчас у меня было ощущение, что я знаю Климова давно, всю жизнь или даже больше. Мы ни о чем толком не поговорили. Он ничего не знает обо мне – то есть о реальных фактах моей биографии, от которых никуда не деться. Ведь они – это отчасти я. Но лишь отчасти. Конечно, важно, где я училась. Важно, что жила с отчимом и бегала к отцу. Посмотреть, как он работает, послушать его рассказы о своем детстве, просто постоять рядом, пока он серьезно и сосредоточенно прикрепляет два проводка к какому‑ то хитроумному прибору…
Важно, что любила Сутягина больше всего на свете. Важно, что не смогла родить ребенка… И все же это не вся я. Я – это еще мои мечты. Это тот мир, который внутри меня. Это то, чего я боялась в детстве. То, чем восхищаюсь сейчас. Что люблю, что ненавижу. Всё это – в большей степени я, чем те дорожки, по которым я ходила и ездила на разных троллейбусах и автомобилях. Для того чтобы узнать вот эту меня, совершенно необязательно знать точное название учебного заведения, где я получала диплом о высшем образовании.
Я тоже не успела еще узнать о нем важного – почему он так и не полетел в космос и с чем была связана его клиническая смерть. Но я узнала что‑ то другое, что также не облекается в три‑ четыре формальных фразы официальной биографии.
И я уже решила. Если он еще раз предложит мне переночевать в его доме, я сделаю это с удовольствием. Что бы он не имел при этом в виду. И любой исход я восприму как подарок моей не очень щедрой и не склонной к приятным сюрпризам судьбы.
Глава 22
Нервный голос Герды заставил меня вздрогнуть и очнуться от обычного автомобильного оцепенения, когда едешь прямо, никуда не сворачивая, без светофоров, по практически пустой трассе на очень большой скорости. Я уже минут двадцать вела машину на автопилоте и, чтобы не уснуть, заставляла себя время от времени открывать и закрывать по очереди все окна.
– Лика! – прохрипела Герда так отчаянно, что я сбавила скорость, на всякий случай перестроилась в крайний правый ряд, хотя никого не было видно ни впереди, ни сзади, и ответила ей:
– Да, Герда. Слушаю вас.
– Ничего, что я так поздно?
– Нормально, я не сплю.
– Вчера ты была недоступна. Не знаю даже, почему ты мне внушила такое доверие. Может, я и ошибаюсь, и ты такая же сволочь, как все вокруг…
– Может, и не такая. Говорите, Герда.
– В общем… По телефону мне твой психиатр не очень понравился, но я хочу все же поехать к нему с Лизой. Ты с нами завтра сможешь подъехать?
– Завтра или сегодня? Сейчас пять утра.
– Пять? – удивилась Герда. – Я просто еще не ложилась. Тогда сегодня, конечно. Только мне бы поспать… Я тебя разбудила?
– Нет, я уже за рулем. В котором часу надо быть у Кости?
– В три.
Я прикинула, что до трех как раз успею и набросать статью о Климове, и послать ее в редакцию, и заехать еще на одно интервью.
– Да. Давайте встретимся…
– Подъезжай к нам к часу, – прервала меня Герда, нимало не сомневаясь, что это удобно и правильно.
Я поколебалась и, сама не знаю почему, сказала:
– Да.
Возможно, виной тому был вчерашний день. Я осталась в Калюкине еще на один день. И это был самый прекрасный день моих последних десяти или пятнадцати лет.
Климов научил меня правильно топить печку, и я с первого раза затопила большую русскую печь в доме и маленькую каменку в новехонькой бане во дворе. Получила от этого невероятное удовольствие – тем более что до самой бани дело так и не дошло.
Я узнала много важных и абсолютно ничего не меняющих фактов биографии Климова – что он два года работал в Центре управления полетами и ушел оттуда, не в силах ощущать себя административной единицей, пусть и в той же области, где он раньше был почти героем. По крайней мере, собирался им быть. Четыре раза был дублером, четыре раза знал до мельчайших подробностей свои функции на орбите, соблюдал строжайший режим сна, питания, всей жизни – чтобы снова и снова проходить медицинские тесты, чтобы его признали годным для полета. Признали и дали почетную и ответственную должность – дублера, готового в любой момент, на случай любого срыва перед полетом, заменить другого – того, кто все‑ таки полетел.
Я узнала, что Климов ушел в запас по собственной воле и в звании подполковника. Как, полагаю, любой нормальной русской женщине, мне еще более милым показался весь его облик – крупный, открытый, умный человек, да еще и военный!
Некоторую опаску у меня вызывал лишь его пес, по деревенскому обычаю живущий во дворе, несмотря на совершенно городскую породу, немодную сегодня в мегаполисе. Тонкого добермана с мощными лапами, красивыми торчащими ушками, изящной мордой и большими умными шоколадными глазами звали по номеру, который когда‑ то имел Климов в отряде космонавтов, а именно Пятьдесят Второй. Сокращенно, по‑ домашнему, его звали Петей. Петя внимательно и спокойно наблюдал за мной, пару раз подходил обнюхать и отходил обратно. Но пока я была во дворе, я постоянно чувствовала его взгляд.
Еще у Климова была своя собственная лодка, обыкновенная деревянная лодка, аккуратно выкрашенная темно‑ синей краской, с широкой белой полоской на боку, двумя новыми веслами и веселой надписью «Пыжик». Лодка была причалена прямо под домом, с той стороны двора, которая выходила на озеро.
Я обратила внимание, что напротив многих домов, даже очень скромных, были причалены лодки. Приятная особенность речной слободки. Есть улицы обычные, по ним ходят ногами и ездят на велосипедах, телегах, машинах – у кого что есть. А есть улица речная. И ты можешь выйти из дома, сесть в лодку и куда‑ то доехать. Не просто покататься, а съездить по делам, в гости. Что‑ то давно забытое и прекрасное было в этом.
Каждый раз, сталкиваясь со стихией воды, я понимаю, или чувствую, или вспоминаю (не знаю точно, как это происходит), что когда‑ то очень давно мои предки проводили столько же времени на воде и в воде, как я сейчас на суше.
Стоило мне попасть в Москву – въехать, продравшись через плотную и крайне неприятную пробку, образовавшуюся раньше положенного на съезде с Московской окружной дороги, обнаружить около своего дома новый забор для будущего строительства – еще два дня назад его не было, пробежать глазами в ноутбуке пятнадцать новых писем, и я почувствовала себя в привычном московском круговороте. А в нём события вчерашнего и позавчерашнего дней стали казаться мне нереальностью. Странный человек Климов с его способностью отвечать на мои незаданные вопросы. Доберман Петя с человеческим взглядом. Плотные вкусные трапезы, которые Климов готовил тщательно и обстоятельно. А я находила в это время себе какое‑ то занятие, так что не скучала и не чувствовала себя бездельницей. Моё интервью с Климовым, которое было бесконечным и больше похожим на разговор двух новых друзей. Или, скорее, встретившихся после долгой разлуки старых…
Прогулка по городку, очень мало тронутому современной эрзац‑ культурой и нарождающейся буржуазной цивилизацией. В самом деле, кому нужно в городке, едва‑ едва насчитывающем пять тысяч жителей – население нескольких московских многоэтажек, – вешать рекламные плакаты и открывать увеселительные заведения? Все, кто хотел веселиться, давно покинули этот городок в поисках быстрого заработка, быстрого успеха и счастья быть песчинкой большого равнодушного мегаполиса.
Климов сводил меня в действующий женский монастырь. На территории монастыря шло активное строительство. Монахини сажали цветы, а привычные глазу разнорабочие из бывших среднеазиатских республик не торопясь строили новые каменные палаты – «гостевой дом», как пояснил мне Климов – и ремонтировали один из трех храмов. Странно. Могут ли люди разной веры строить друг для друга молельные дома? Что‑ то в этом есть неправильное.
Мы попали на вечернюю службу, послушали медлительного, чуть косноязычного батюшку и хороший хор монахинь и послушниц. Одна из них, девушка лет девятнадцати, худая, невысокая, во время пения решительно вышла в маленькую кухоньку, видневшуюся в боковом приделе, попила воды и такими же уверенными, широкими шагами вернулась на место. Я услышала, как в небольшом хоре добавился яркий, сильный голос.
Невольно я заметила не вяжущиеся с платьем и платком послушницы широкий черный пояс с огромной пряжкой и большие черные ботинки с круглыми носами. Я никогда не видела в продаже такой обуви. Наверно, из‑ за них она ходила очень широкими шагами – как иначе можно шагать в массивной мужской обуви? Только где она их взяла и, главное, зачем? Чтобы крепче стоять на земле? Чтобы скрыть юное, нежное тело, прикрыв его черным бесформенным платьем, черным платком и надев эти ботинки, подходящие больше сержанту пехотных войск? Чем‑ то очень не понравилась, видно, этой девушке жизнь на нашей земле, все ее краски, ароматы, соблазны… Либо не понравилась кому‑ то из ее родственников и таким страшным образом этот родной человек решил уберечь девушку от тех бед, которые подстерегают ее в миру.
Следующим ярким и совершенно неожиданным впечатлением от Калюкина был огромный Ботанический сад, достойный украшать любой крупный город. Не думаю, что в год этот сад посещают больше тысячи человек. Для местных входная плата слишком высока – если ходить туда просто гулять, а туристов в Калюкине – раз‑ два и обчелся.
Я испытывала странное ощущение, глядя на собранные по всей земле экземпляры сосен, пихт, елей, краснолиственных кленов, диковинных кустарников – низкорослых, пышных, ползущих. И думала о том, что всё это великолепие существует помимо нас, независимо от нашей воли. Мы можем в одночасье уничтожить его, можем наслаждаться красотой, пытаясь постичь тайну этой очень простой красоты, найти для нее приблизительные слова, похожие краски, но создавать сами такое – живое, прекрасное, разное – не можем. Можем худо‑ бедно воспроизводить, иногда получается скрещивать, но не более того.
– Нравится? – заинтересованно спрашивал меня Климов, как будто радушный хозяин всего этого богатства, и мне совсем не обязательно было отвечать ему вслух.
Пятьдесят Второй бежал сзади, иногда обгонял нас, поглядывая на меня темно‑ рыжими глазами, и мне очень хотелось погладить его гладкую, чистую шерстку, короткую и густую. Чем хороши большие собаки – с ними сразу вступаешь в подобие человеческих отношений. Мне было понятно, что пёс не ревнует меня к хозяину, он вполне уверен в том, что я временный человек здесь, но я вызываю у него симпатию. Мне тоже был приятен домашний умный пес, чистый, воспитанный, веселый, но достаточно сдержанный. Собаки похожи на хозяев? Можно было надеяться, что все эти приятные черты характера есть и у Климова. На первый взгляд так оно и было. Хотя человек, в отличие от собаки, умеет при желании казаться, а не быть.
В лодку симпатичный мне пес запрыгнул первым и сразу занял свое место на корме. Прогулка по озеру имела даже практический смысл – Климов отвез какую‑ то книгу своей старой учительнице, жившей на другом конце города. На лодке это получилось быстро и удивительно.
Мне не хотелось ни о чем говорить, пока мы плыли по озеру. Вокруг было невероятно красиво – так красиво, что говорить об этом не имеет смысла. Как описать красоту чистой воды, безоблачного неба, меняющего цвет от нежно‑ голубого к густо‑ фиолетовому к горизонту, и живописного, веками складывавшегося ландшафта берега маленького городка, в котором и поныне церквей больше, чем магазинов и аптек? Описать и не впасть при этом в благостный маразм? Мне, с моей несентиментальной и, увы, довольно сиюминутной и поверхностной профессией это не под силу.
К тому же мне достаточно было своих собственных мыслей – о том, как многого лишен человек в современной цивилизации большого города, многих простых и очень важных вещей. Я смотрела на женщину, протиравшую лодку и тут же в реке сполоснувшую тряпку, а потом помывшую руки и отряхнувшую их – без антибактериального мыла, без полотенца… Смотрела на мальчишек, бегавших в задранных выше колена штанах в довольно холодной воде. Я потрогала воду рукой и подумала, что ни за что бы не стала купаться в такой воде. Как раз в этот момент один из мальчишек поскользнулся и окунулся по шею. Засмеялся и вместо того чтобы выскочить из воды, как ошпаренный, еще и проплыл несколько метров быстрыми ловкими саженками.
А я вот боюсь такой холодной воды. И очень боюсь инфекции – слишком частые и тяжелые вирусные инфекции появляются сейчас в городе. В городе, который я больше не люблю. Я больше не люблю тебя, моя Москва. Или я просто устала от тебя новой, чудовищной, страшной, раздувшейся, изменившей свое лицо и свой нрав? Да, я устала от твоего плохого воздуха, от пятьдесят раз фильтрованной, хлорированной, потом очищенной от той же хлорки мёртвой воды, текущей из водопровода в моей идеально отремонтированной квартире.
Я устала от вида неба с темными, грязными облаками, образующимися от дыма, вырывающегося из толстых труб теплоэлектроцентралей, от безумия неостановимой стройки, от стоящих в пробках бетономешалок и грузовиков, извергающих чудовищный, черный, вонючий дым, от вида детей с серой кожей, от искусственной еды и синтетических напитков, от нагромождения автомобилей у меня под окном, от непременного ора чьей‑ нибудь сигнализации ночью, от запахов соседской жизни из вентиляционной решетки – и это в моем‑ то новом, недешевом доме!
Устала от настырной, бессмысленной рекламы, заполняющей эфир, улицы, почтовые ящики… Рекламы, которая стоит очень дорого, и стоимость эта включена в цену продукта, который требуют срочно купить, съесть, намылить, прочитать, посмотреть в кино…
Устала от вида несчастных, грязных, озлобленных темнолицых людей, приехавших на быстрые заработки в Москву работать рабами – а как иначе можно назвать их службу в коммунальных организациях или на стройке чьей‑ нибудь дачи? Я пыталась писать на эту тему.
Начала с продавщиц и кассирш соседнего магазина, записала грустные истории их жизней – про оставленных в Чимкенте или Фергане с бабушками и сестрами детей, про зарплату в двести долларов и двенадцатичасовой рабочий день. Все было понятно, горько и безысходно. Учительницы русского языка и литературы сидят на кассе или режут колбасу с утра до вечера. Потому что в Москве они преподавать русский не могут – слишком плохо сами на нем говорят, а в родном Чимкенте он больше никому не нужен. Думаю, кстати, что временно.
Потом перешла к своим строителям – у меня за два года ремонта сменилось четыре бригады рабочих. Таджики, украинцы, молдаване и одиночка‑ москвич, не русский – немец по дедушке и мировоззрению. С немцем – это отдельная история, а вот остальные хором заявляли – за тысячу долларов в месяц они работать не собираются… Больше всего гонора и аппетита оказалось как раз у забитых, очень плохо говорящих по‑ русски таджиков, перепортивших мне на первоначальной стадии строительства все, что только можно испортить. Таджики поставили мне кривые стены, плохо их отшпаклевали, халтурно выровняли потолки и хорошо, что не дошли до прокладки электрики, хотя очень рвались. Поскольку одному нужно было накопить на машину и уехать домой, другому – докопить на новый дом и тоже побыстрее уехать домой.
Поговорив разок‑ другой‑ третий со своими строителями, я поняла, как же ошибочны порой расхожие мнения, и стала повнимательней вглядываться в столь похожие на первый взгляд лица темноголовых строителей и дворников. А статью писать не стала. Потому что даже не стоит подступаться к шефу со статьей, в которой написано, что Москву веками мели московские дворники, и что нагонять в Москву по шестьсот тысяч в год равнодушных, бесправных и зачастую враждебно настроенных иноземцев и им же предоставлять жилплощадь так же бессмысленно, как строить новые шоссе, рубить столетние деревья по краю улиц, расширяя дороги, и при этом никак не ограничивать количество машин в Москве и количество ее жителей.
Огромный странноприимный дом,
– писала Цветаева давно‑ давно, когда в Москве было раз в сто меньше жителей, –
Мы все бездомные к тебе придем…
Писала, не зная, сколько еще бездомных, безродных, безнадежных судеб потянется в Москву за счастьем или просто за куском хлеба с маслом.
По тому, как несколько раз взглядывал на меня Климов, мне казалось, что он не только понимает мои мысли, но и вполне разделяет их.
В размышлениях, достаточно противоречивых, о Климове, о его решении оставить работу и городскую цивилизацию со всеми ее ложными и некоторыми безусловными ценностями (скажем, плотным средоточием культурных сил, а также коммунальными службами, снимающими с тебя заботу о собственном жилище, его тепле, целости его стен, лестниц, крыши и наличии горячей воды круглосуточно), я практически не заметила дороги. Статью о Климове я решила задержать, односложно сообщила об этом шефу, который пришел в неожиданную ярость и даже попытался прикрикнуть на меня. Я объяснила для себя это тем, что никакому начальнику, не способному делать то, что делают его сотрудники – а Вячеслав Иванович журналистом никогда не был, он всю жизнь только чем‑ то и кем‑ то руководил, – не понравится быстрое и категоричное принятие решений подчиненными, решений, объясняемых чисто умозрительно – «не сложилась картинка, надо подумать».
– Что там думать? Ты дома у него была? Фотографировала?
– Была, фотографировала, – я старалась не впадать в тон шефа и сохранять спокойствие.
– Он, что, ни на какие вопросы тебе не ответил?
– Да я, собственно, ни о чем таком и не спрашивала…
Как обычно, моя манера отвечать шуткой вывела шефа окончательно из себя.
– В два! Или лучше в час! Отчет о поездке и интервью чтобы лежали у меня на столе!
– Вряд ли, – вздохнула я.
– Крайний срок в три! – нервно крикнул Вячеслав Иванович и отключился, а я успела поймать его мысль.
Я увидела приятную, уютную картинку, не имеющую ровно никакого отношения ни ко мне, ни к Климову. Хороший добротный особнячок на гладко выстриженной лужайке, удобное кресло с пледом, рядом круглый столик, на столике коньячок… Бедный шеф устал руководить и наглыми, самонадеянными журналистами, и хорошими, покладистыми.
Вячеслав Иванович отпраздновал юбилей в прошлом году, получил пенсионную корочку и забыл о ней. А она о нем – нет. Скромная, ни к чему особо не обязывающая, лежит она в числе прочих где‑ то в секретере или на полке, а тебе уже как‑ то по‑ другому начинают отбивать твой срок. Кто, где – мы так и не разобрались за сотни и тысячи лет.
Кто так решил, так чудовищно коротко определил срок жизни человека на земле? Срок, за который просто невозможно успеть что‑ то понять и с этим пониманием еще хоть немного пожить. Все время уходит или на суету, добывание пропитания, витье собственного гнезда и прокорм птенцов и сиюминутные удовольствия – что проще, или на попытки понять зачем и почему, и что было в начале всего, и что лежит в основе. У того, кому удавалось хоть на шаг приблизиться к ответу, на это уходила вся короткая жизнь.
Глава 23
Он ведь сказал – сказал или подумал? – но слова его я отлично помню: «Двери моего дома всегда открыты для тебя. Приезжай. Хочешь на день, хочешь на всю жизнь».
Да, я приеду. Приеду и буду жить в его прекрасном деревянном доме. Я буду топить печку, каждый день смотреть на озеро, кататься на лодке… Я буду мыться в ароматной маленькой баньке, в которой пахнет теплым июльским полднем, лугом и еще чем‑ то, прекрасным и давно забытым. Буду летом ходить по двору босиком. Я буду работать… скажем… учительницей литературы. Хотя я не уверена, что достаточно хорошо знаю русскую литературу, чтобы ее преподавать. Лучше я буду работать в местной газете. Ведь здесь наверняка есть какая‑ то газета… В общем, работа – дело наживное.
Я могу работать и садовником в Ботаническом саду. Помощником садовника. Круглый год я буду смотреть на молчаливую жизнь прекрасных сосен, дубов, кленов, обрезать засохшие ветки, следить за появляющимися бутонами и осыпающимися листьями… Наверное, впечатлений хватит. Мне ведь всегда нужно много впечатлений, разве нет? Я привыкла к постоянно меняющимся впечатлениям. Привыкла или устала от них? Так устала, что решила стать садовником, не вырастив в жизни ни одного куста или дерева.
– Лика? Ты подъезжаешь, надеюсь?
Герда по телефону говорила резко и в приказном тоне. Но я научена своей профессией – своей настоящей профессией, от которой, похоже, собираюсь в ближайшее время отказаться, – научена не обращать внимания на тон собеседника, а пытаться понять, что он все же хочет сказать, тоном своим в том числе.
– Да, Герда, я скоро буду.
– Давай быстрей.
Герда отключилась, а я в очередной раз подивилась ее самоуверенности, граничащей с хамством. А если я обижусь? Я же не пицца по вызову и не быстрая уборка помещений. Откуда это у нее? Барская кровь? Приказывать и уходить не оглядываясь, и при этом быть уверенной, что все, кланяясь, бегут выполнять твои приказы. Надо бы спросить Герду о ее предках. Жаль, что она всё соврет. Скорей всего, это обычная болезнь звезд, попавших из грязи в князи и с холопской наглостью изображающих из себя господ. Если только у нее действительно не окажутся какие‑ нибудь сиятельные предки, хотя бы один, хотя бы почти барин. Может, от этого ее тянет рядиться в графские наряды?
Мысль, посетившая меня в этот момент, неприятно удивила. Я начала думать и сама себя остановила, но было поздно. Я таки успела подумать: а ведь я могу и без ее слов увидеть ответ, надо только, чтобы она ответила – мысленно, ничего не произнося вслух, чтобы у нее мелькнула хотя бы одна мысль мне в ответ, одна картинка – один облезлый барин, сидящий в облезлом кресле и размышляющий – что бы еще такое заложить, чтобы пообедать завтра повкуснее, да и рубашки отдать постирать.
Неужели я собираюсь использовать этот внезапный дар в своей обычной, не самой чистой и не самой гуманной профессии? Ловить мысли человека, сидящего напротив и доверчиво собирающегося рассказать о своей жизни так, как о ней должны знать другие. Тяжелую наследственную болезнь назвать травмой на горнолыжной трассе, очередного богатого любовника, женатого и беспринципного, – верным другом, провал и крах карьеры – временным отходом от дел… Рассказать и самому почти поверить в это.
Человек здоровый и взрослый обязан уметь лукавить, это способ существования в социуме. Мы живем с мифами и сказками, внутри этих сказок – о себе самих и о других. По‑ другому невозможно. Иначе одни передерутся от взаимных оскорблений, другие – зачахнут от тоски и осознания собственной несостоятельности.
Встреча с Климовым зарядила меня, вероятно, такой силы положительной энергией, что Герда при встрече даже подозрительно на меня взглянула. – С тобой всё в порядке? – напрямик спросила она.
– Более чем, – кивнула я, не в силах отвести глаз от маленькой девочки, стоящей у открытой двери в самом конце огромного зала для приемов, который у Герды в доме заменяет, как я понимаю, нормальную уютную гостиную. Хотя, возможно, где‑ то в большом доме и есть гостиная, только мне, человеку чужому, войти туда пока не предлагают.
Герда заметила мой взгляд и нервно обернулась.
– Лизанька! Что, детка? Ты что‑ то хотела?
Девочка, никак не реагируя на ее вопрос, не отрываясь смотрела на меня. Потом вдруг подбежала к бабушке, по‑ детски обняла Герду за ногу, туго обтянутую фиолетовыми лосинами, и стала рассматривать меня уже вблизи.
– Лиля! – Герда крикнула куда‑ то в глубину дома. – Вот бестолочь молдавская, а! Нянька наша, – нехотя объяснила она мне.
Я не успела удивиться, зачем Герде молдавская няня, – неужели во всей Москве не нашлось для девочки порядочной русской женщины, как Герда продолжила:
– Кандидат наук, по‑ французски говорит лучше, чем по‑ русски, сказки ей рассказывает в оригинале…
Я сдержала вздох. Ведь всех тех, кто написал нашу трепетно оберегаемую классику и создал не только основы русского литературного языка, но и целую череду основных мифов о русской загадочной душе, русской неизбывной тоске и непредсказуемости, их всех воспитывали французские гувернантки и немецкие дядьки, разве нет? Так как можно сегодня запретить родителям и бабушкам хотеть, чтобы их русским детям сказки рассказывали по‑ французски кандидаты наук, пусть даже и молдавские?
Я не стала уточнять у Герды, кто же рассказывает внучке в оригинале русские сказки, потому что Лиза вдруг отпустила бабушкину ногу, шагнула вперед и потянулась ручкой ко мне. Я присела перед ней. Она тут же потрогала прядку моих волос.
Герда, кажется, хотела что‑ то сказать внучке, но под моим взглядом неожиданно промолчала. Лизанька же подержала мои волосы и отпустила. И внимательно, долго стала рассматривать мое лицо, как будто там было нарисовано что‑ то очень интересное. Рассмотрев, отвернулась и пошла обратно к двери, точнее, к высокому проему в стене, объединяющему две части парадного «зала».
Повинуясь непонятному чувству, я обогнала девочку и снова присела перед ней на корточки. Лиза замерла. Я очень осторожно протянула к ней руки. Я слышала, как Герда сзади то ли крякнула, то ли охнула, но говорить она ничего не стала, сделала пару тяжелых шагов и остановилась. Я взяла Лизу на руки, и она не сразу, но обняла меня холодными ручками. В огромном зеркале на стене я увидела Гердины глаза, в которых ужас и возмущение были смешаны с полной растерянностью. Я сделала ей быстрый знак и прошла с девочкой через круглую застекленную террасу в сад.
Там Лиза вдруг оживилась и показала мне рукой на какое‑ то дерево. Мы подошли к нему. Девочка упорно тянула ручку и показывала мне на высокую ветку. И я увидела. Я увидела то, что было в гнезде, хотя до него было метра два. Только вот откуда знала это Лиза? Ведь именно у нее в голове был образ этого гнезда, в котором уже и не пищали, а только еле‑ еле дышали три серых, растрепанных, несчастных птенца.
– Сейчас, я поняла. Сейчас мы что‑ нибудь придумаем. А куда девалась их мама, ты не знаешь?
Почему же, девочка знала и это. В соловьиху из пневматической винтовки попал ее собственный папа, а его пес, беломордый питбультерьер с маленькими красными глазами и дрожащей розовой пастью, принес ему окровавленный трофей, перекусив по дороге шею птички своими страшными кривыми зубами, которыми он давным‑ давно хочет изгрызть бедную маленькую Лизу…
– Да ты что, Лизанька! – я подумала, что лучше всего называть девочку так, как привычно звала ее бабушка. – Собаки вовсе не грызут девочек…
Лиза испуганными глазами посмотрела на меня. Ну, конечно. Как же не грызут! Ведь я сама писала о бойцовских собаках, внезапно нападающих на своих хозяев и их детей. А Лизину соседку укусил пес ее же сына. Соседке, правда, не четыре годика, а семьдесят шесть, и ее много врачей увозили в больницу, и очень громко плакала ее внучка, Лизина подружка. Бывшая подружка, потому что теперь она не хочет дружить с Лизой, раз та перестала разговаривать и отвечать на вопросы. И не отдает Лизе ее большой прыгающий мяч с ушками, за которые можно держаться и прыгать по дорожке в саду. Она спрятала его где‑ то в своем саду, за большой беседкой, а Лиза даже и сказать никому ничего не может.
– А давай пойдем сейчас за мячом? Отберем его у твоей подружки. Как ее зовут? – это я спросила зря.
Лиза вдруг попробовала пошевелить губами. Личико ее напряглось, тонкие губки побелели от напряжения, но звук, раздавшийся через мгновение, был больше похож на тихий свист, чем на человеческий голос.
– Да ладно! – быстро сказала я и прижала к себе девочку. – Я совершенно не хочу знать, как ее зовут! Кому интересно, как зовут такую жадную и вредную девчонку! Давай‑ ка мы попробуем спасти наших птенчиков, они ведь хотят есть и пить… А потом пойдем за мячом. Да?
Девочка, уткнувшись в мои волосы, кивнула. Я спустила ее с рук и огляделась в поисках какой‑ нибудь лестницы или скамьи, которую можно было приставить к дереву. И увидела Герду в окне террасы. Она стояла близко к нам, но даже не выходила в сад. Мне всегда раньше Герда казалась умной женщиной, несмотря на ее боевой репертуар и манеру одеваться, как на бал к Екатерине Второй.
Совершенно некстати заиграл мобильный телефон. Не знаю почему, но постоянное нахождение «на связи» со всем миром, с любым желающим задать мне любой вопрос в любое время суток стало меня крайне раздражать. Но отключая телефон, ты берешь на себя ответственность за то, что не успела, вовремя не узнала, не поддержала, не приехала по чьей‑ то просьбе – потому что дозваться тебя было невозможно. И я телефон не отключаю, хотя в отпуске, наверно, можно это делать, хотя бы ночью.
И сейчас самая невинная мелодия моего телефона заставила маленькую Лизу вздрогнуть. Когда она прислушалась, то мелодия ей не понравилась совсем – может быть, девочка знала ее, или же ей просто было обидно, что я спустила ее с рук и вместо продолжения нашего тихого разговора о птичках и мяче сказала громко и отчужденно:
– Алло!
– Лика! У меня… я… – плакала в трубку Верочка и говорила что‑ то еще, но крайне невразумительно.
– Ты где? Сосредоточься и скажи главное, я не могу сейчас долго говорить.
– А… – горестно выдохнула Верочка и отключилась.
Я посмотрела на собирающуюся плакать Лизу и на трубку, которую я держала перед собой, – на дисплее четко записался принятый вызов: «Верочка. 13. 30», и решила позвонить ей чуть позже. Тем более что быстрая на решения Герда уже стояла рядом с нами. Она подхватила Лизу на руки и внятно проговорила:
– Лиза ни к кому не идет, тем более на руки. Наплевала бы ты на этот звонок.
– Да, правда, – искренне согласилась я.
– Теперь поздно. Поехали. Сейчас будем психовать в пробках.
– У вас сирены нет?
– Да уж прямо! – засмеялась Герда, отпуская Лизу с рук. – Все мои сирены закончились, знаешь, когда!..
– Ну да. У кого уж теперь сирены и мигалки! – кивнула я, чтобы прекратить этот неприятный для Герды разговор.
Вот если бы кто из моих сотоварищей узнал, что я занимаюсь с Гердой ее тайными семейными делами и не собираюсь ни слова из этого упоминать в своей статье, которую писать все же надо…
Глядя, как маленькая Лиза одна быстро топает к дому, оглядываясь на нас, но не останавливаясь, у меня вдруг мелькнула мысль: «А может, попробовать без Костика… Я, конечно, не дипломированный психиатр… Я вообще не психиатр, но…» Я взглянула на Герду. И не решилась ей этого предложить. Тем более, что предложить мне ей было особо нечего. Рассказать, что я услышала Лизины мысли про птенчиков и про мячик, чтобы Герда сочла меня сумасшедшей и выгнала вон?
– Кстати, – сказала Герда. – А что вы там с Лизой на дереве высматривали?
– Там птенцы, совсем маленькие, без мамы… Мне нужна лестница, чтобы залезть туда.
– Ясно… – кивнула Герда, явно занятая в это время другим.
Во двор въезжала машина, красивая, большая, желтая, и благодаря Герде я уже знала, что в машине сидит ее ненавистный зять. Герда быстро взглянула на меня:
– Что? Навострилась? Побежишь его снимать?
Я пожала плечами:
– А что, надо? У меня вообще‑ то фотоаппарат в машине. Я же не бегаю по вашему участку с фотоаппаратом, по крайней мере, сейчас, Герда, – я позволила себе сказать это чуть укоризненно, и Герда фыркнула:
– Ну ладно! А посмотреть на него хочешь? Такие рожи даже ты не часто видишь!
– Хочу, – повинуясь внезапному чувству, что мое участие в этой истории не закончится сегодня, сказала я.
– Идем, – Герда ни много ни мало взяла меня за руку и просто потащила через весь дом, опять гаркнув куда‑ то в глубину комнат: – Лиля! Белый костюм на Лизу надевай! И причеши ее! Мы выходим через пятнадцать минут! Сама еще не одета… – пробормотала она.
– А вы идите так. Отлично смотритесь. Молодо, необычно.
– Что, правда? – недоверчиво взглянула на меня Герда.
Я не успела ответить, потому что мы были уже на переднем дворе и шли навстречу грузному молодому человеку в свободной светлой одежде. Тому, которого я увидела или – как лучше сказать? – представила, общаясь с Гердой первый раз.
– Люсик! И что тебе здесь надо? – спросила Герда, останавливаясь и крепкой рукой придерживая меня за рукав.
Люсик очень неприятным образом засмеялся и ответил:
– Я вообще‑ то здесь живу. Здесь мой дом.
– А вчера ты где жил? – повысила голос Герда, а я, к своему удивлению, почувствовала в ее голосе неуверенность.
Люсик опять засмеялся и достал из нагрудного кармана тренькающий телефон.
– Чего? – свободной рукой он поковырял в своем некрасивом бесформенном носу. – Ну и чего? Так пошли его и всё.
– У нас домашние машины в подземный гараж ставят, ты не знал? – продолжала Герда, крепко расставив ноги и взглянув на меня, чтобы убедиться, что я смотрю все теми же сочувственными, а вовсе не журналистскими глазами и при этом не щелкаю фотоаппаратом.
– Слушай, – Люсик сделал очень странное движение руками, как будто на расстоянии хотел схватить Герду за шею, – как же ты меня достала!
– Вот мерзавец, а! – Герда горько засмеялась и снова оглянулась на меня. – В моем собственном доме!..
А я… Все‑ таки какая чудесная способность появилась у меня после аварии! Этого же не купишь ни за какие деньги, этому не научишься, наверно. Я‑ то уже несколько секунд точно знала, что лежит у Люсика в правом кармане широких белых бриджей. Лежит, аккуратно завернутое в платочек, застегнутое на потайную пуговицу… Люсик несколько раз нервно проверял, хорошо ли застегнута эта пуговица.
Я даже видела, правда довольно нечетко, каким образом Люсик приобрел этот замечательный предмет… Он его взял у какого‑ то плотного, туго затянутого в корсет… – да, да, именно в корсет – мужчины, в фиолетовом джемпере, с палевым шелковым платком на шее. Мужчина, доверяя Люсику, отвернулся, наливая что‑ то в рюмку, а тот ловко открыл ящичек секретера, достал из него маленькую синюю коробочку и сунул ее себе в карман. Теперь Люсику очень хотелось поскорее спрятать этот предмет, спрятать так, чтобы можно было спокойно вздохнуть и поесть. Он так ничего и не съел, не выпил с тех пор, он мчался сюда, где его сразу не будут искать, – все же знакомые в курсе их недавних скандалов…
– Я тебя спрашиваю – зачем ты приехал? Если повидать Лизу, то имей в виду…
– Он приехал, чтобы спрятать огромный сапфир, который у него вот в этом кармане брюк, – сказала я и, не давая Люсику опомниться, подошла к нему. – Он взял его у своего лучшего друга, да, Люсик? Друга, который верит ему, как сыну. И даже больше.
Люсик побагровел, хотел что‑ то сказать, потом сделал неуверенный шаг ко мне, кажется собираясь ударить меня большим потным кулаком. Но передумал. Какая, кстати, удобная и оригинальная привычка решать одним ударом все свои проблемы. Р‑ раз и…
Тяжело дыша, Люсик стал ощупывать карман, потом быстро открыл его, нашел, не сразу, сверточек, закрыл карман, потом снова открыл, достал сверточек, развернул его, быстро удостоверился, что всё на месте, завернул снова, засунул в карман, но никак не мог его закрыть. Посмотрел на нас с Гердой совершенно диким взглядом и стал отступать назад.
– Я советую вам сразу ехать в аэропорт, брать билет в любую страну, куда вас пустят прямо сегодня, и уезжать. Сообщите только своему другу, что вас в стране нет, чтобы не трогали Герду. А лучше верните сапфир и живите спокойно. С таким камешком вам спокойно не прожить. Это же целое состояние. Редкий королевский сапфир, да еще такого размера.
Люсик очень грязно прокомментировал свою неудачу или мои слова – что, в общем, неважно, и вприпрыжку побежал к машине, что при его комплекции получалось довольно неловко.
– Люсик – это как? – спросила я Герду, глядя, как Люсик с визгом выезжает из автоматически раздвинувшихся ворот.
– Люсиний.
Я недоверчиво взглянула на Герду.
– А дальше?
– Дальше… Люсиний Шимсад‑ Рисадович Пиязов.
– Вот именно так? – засмеялась я.
– Да вроде того, – вдохнула Герда. – Смешно, правда? Так что там с каким‑ то камнем? Ты вообще кто, а? Лика… Засланный казачок ты, что ли?
– Я…
И как ей всё объяснишь? Хотя… А если попробовать по‑ простому? Как есть?
– Что у него было в кармане‑ то? Действительно сапфир? Откуда? Что он разворачивал? Я не поняла, – продолжала допытываться Герда. – Сорвался как оглашенный… И вообще, ты‑ то откуда все знаешь?
– Герда, собирайся, – я поймала вопросительный Гердин взгляд в ответ на мое «тыканье», но поправляться не стала. – По дороге я постараюсь всё как‑ то объяснить.
По дороге нам было не до того. Тем более, что после долгих препираний Герда все же решила поехать на своей машине – моя ей показалась маловатой, несолидной. Маленькую Лизу покормили на ходу прямо перед выездом, и ее сразу стало укачивать и тошнить. Герда то и дело останавливала свою машину и выходила с Лизой подышать. Я тоже останавливалась и выходила к ним, не в силах никак помочь маленькой девочке.
Кое‑ как мы добрались до Москвы и тут же на въезде встали в пробку. Я взглянула в зеркальце заднего вида на Герду, ехавшую за мной и сейчас сидевшую с крепко сжатыми губами, глядя перед собой. Будь у меня хоть намек на медицинское образование, я бы, наверное, попробовала помочь ее внучке сама. Ведь я понимаю, что происходит в ее маленькой душе, а она потянулась ко мне. Но, полагаю, Костик лучше меня разберется, как и что надо сделать, чтобы малышка снова заговорила и навсегда забыла ту страшную сцену.
К Костику мы приехали с большим опозданием, но он ждал нас спокойно и встретил крайне доброжелательно. На меня так он просто посмотрел глазами голодного щенка, счастливого оттого, что вернулась домой припозднившаяся хозяйка, чем меня несколько смутил, с Гердой же корректно раскланялся, а маленькую Лизу взял за ручки и очень мягко спросил:
– Ты – Лиза?
Девочка несколько секунд смотрела на Костика, потом еле заметно кивнула. Вот и хорошо, подумала я. Кажется, контакт налажен. Моя миссия, вероятно, закончена. Про птенцов и мячик я найду как рассказать Герде, чтобы она навела во всем порядок.
Я потихоньку стала отступать к двери, кивнув Костику и сказав одними губами: «Позвоню! », Лиза покорно пошла с Костиком в кабинет, Герда неотступно следовала за ними. Я уже закрывала за собой дверь приемной, когда Лиза вдруг обернулась и посмотрела на меня. И я четко увидела то, что видела она, – ее папу Люсика с винтовкой и растерзанную, окровавленную соловьиху с перекушенной шеей. Сколько, однако, горя от одного неудачного отца!
Каким‑ то загадочным образом Лиза знала, что я понимаю ее ужас, и что я могу ей помочь со всеми ее маленькими детскими бедами, по крайней мере, готова это сделать.
– Я подожду вас, – коротко сказала я.
Герда лишь кивнула, а Костик обрадованно махнул рукой:
– Заходи, посиди, ты не помешаешь.
Герда напряженно взглянула на него. И я покачала головой:
– Мне надо позвонить. Я… чуть попозже.
Лиза вопросительно смотрела на меня, поэтому я быстро добавила:
– Лизанька, я помню, я не забыла, что их надо спасти.
Лиза внимательно проследила, как я уселась на маленький удобный диванчик в приемной, и даже слабо помахала мне ручкой.
Глава 24
Было это всё или нет? То, что произошло со мной в Калюкине. Или мне всё показалось?
Долгий, теплый день, взгляд и близость Климова, мое ощущение, что я знаю его всю жизнь… Кажется, это очень хорошее ощущение. Не считаю себя большим специалистом в этом смысле, но кто‑ то до меня успел понять – если новый человек кажется тебе хорошо знакомым, значит, ты уже давно представлял себе его именно таким, еще до встречи. Но я вообще не думала ни о какой встрече. Или не осознавала этого – что хочу кого‑ то встретить. А рядом со мной, выходит, был некий эфирный образ, который я давно создала, не отдавая себе отчета.
Или вовсе не было этого дня? Откуда он взялся в моей суматошной жизни? Как я позволила себе бросить дела, пропустить эфир – ничего, конечно, не случилось, бедная Марина, которую я беззастенчиво потеснила, в тот день с радостью поболтала в эфире с Генкой вместо меня.
Как я вообще смогла так сразу и так близко подойти к совершенно неизвестному мне человеку? Поверить в каждое слово, которое он говорил? О себе, о жизни, обо мне. Да он, собственно, и говорил не очень много. И тем более не приходилось много говорить мне – он ведь понимал мои мысли, вопросы, желания…
Я сплю? Я брежу? Кто он? Может, он такой же фантом, как мой чудом проснувшийся и не поддающийся никакому управлению дар?
Да, наверно, я все это придумала – и самого Климова, и его умного пса, и учительницу, к которой мы плавали на лодке…
Когда Климов, ничего не объясняя, повернул лодку к маленькому аккуратному белому дому, палисадник которого заканчивался прямо у берега озера, пес заволновался, попробовал даже выскочить первым и побежать по воде, но под укоризненным взглядом хозяина сел на место, продолжая оживленно бить коротким хвостом по дну лодки.
Учительница Ольга Вениаминовна оказалась веселой пожилой дамой, которой можно было дать на вид лет пятьдесят пять.
– Семьдесят первый, деточка, – вздохнула Ольга Вениаминовна. – А хорошо законсервировалась – от голода, то есть от натурального питания. Хлеб, сыр, молоко, да трава с огорода – рацион долгожителей. Вот Женечка пытается меня подкормить от доброты душевной мясом да рыбкой, а не понимает, что они мне – только вред.
– Ольга Вениаминовна! – Климов прижал к себе маленькую, худенькую женщину. – Нельзя же одной морковкой питаться. Сыр… А давно вы сыр покупали? Вот я вам привез.
– Разносолов разных? – Ольга Вениаминовна подозрительно взглянула на большой пакет.
– Да нет… Сыра да масла, да еще там! Ладно, что мы будем пререкаться! – Климов махнул рукой, а Пятьдесят Второй принял этот жест за команду и помчался в сторону дома. – Вот Петька правильно делает – в дом бежит, в гости. Познакомьтесь. И напоите нас чайком, если не возражаете. Лика Борга, московская журналистка, весьма… известная особа, – Климов перевел взгляд на меня, и что‑ то в этом взгляде было такое, что я почувствовала себя счастливой школьницей, девятиклассницей, только что сдавшей последний экзамен. А впереди – целое долгое лето, бесконечное, полное загадок и неожиданных сюрпризов.
Ольга Вениаминовна взглянула на меня внимательно и чуть настороженно.
– Очень приятно. И что же вы, Лика, приехали писать о нашем городе? Или… – она перевела взгляд на своего бывшего ученика.
Я кивнула.
– И о городе напишу. А какой предмет вы преподавали Евгению Павловичу?
– А угадайте! – пожилая женщина засмеялась, оглядываясь на меня и энергичными шажками направляясь к дому. – Женечка, давай в саду чай попьем, не возражаешь?
Мы присели на широкую скамью, Климов облокотился на спинку, раскинул руки и слегка дотронулся до моего плеча.
– Хорошо, правда?
Я взглянула на него, чтобы понять, о чем он спрашивает. Но он уже смотрел на озеро, раскинувшееся перед нами. Да уж конечно лучше, чем крыши многоэтажек с широкими трубами, похожими на котлы предприятий общественного питания, или чужие окна, или облезлая стена соседнего дома. Но нельзя же, в самом деле, остановить жизнь, сидеть и смотреть на озеро с утра до вечера!
– А если она сама как‑ то взяла и остановилась? Замерла где‑ то во вчерашнем дне? – Климов сжал мое плечо, и я почувствовала, как хочу тоже замереть, прислонившись к этому большому и совершенно непонятному пока мне человеку. Непонятному и одновременно бесконечно симпатичному.
Взрослые люди – нормальные, не те озабоченные предстоящим климаксом мужчины сорока пяти лет, которые готовы бежать по обломкам собственных жизней за чужой и крайне эгоистичной молодостью, а нормальные взрослые, отягощенные былыми страстями, от которых остались привычка, привязанности, дети, долги, разочарования и шрамы от давно заживших ран, – не могут влюбиться в одночасье. Так мне всегда казалось.
Ведь нужно время, чтобы рассмотреть друг друга, очароваться чем‑ то близким, родственным или, наоборот, неожиданным и невозможным в самом себе. Привыкнуть к существованию другого, к его привычкам, суметь отказаться от части своих, что равносильно порой отказу от части самого себя… Долго и мучительно открывать свою душу, которая уже вовсе и не стремится кому‑ то открыться, трепетать от сильных чувств и уж точно не хочет потом страдать. Вот, наверное, и есть взрослая любовь.
Поэтому то, что я сейчас ощущала – легкость, и беспричинную радость, и свет вокруг, и притупленность всех остальных рефлексов и чувств, не направленных на общение с Климовым, было неожиданно и необъяснимо. Так же неожиданно было то, что мой всегда готовый на иронию и самоиронию разум встрепенулся было и отступил под натиском чего‑ то неотвратимого и непонятного.
Пока Ольга Вениаминовна налаживала чай, я, глядя на нее и на Климова, переговаривавшихся между собой как близкие и давно знакомые друзья, пыталась отгадать, какой же предмет преподавала пожилая женщина. Математику? Может быть. У нее ясная голова, легко обобщает… Литературу? И это возможно, уровень интеллигентности явно позволяет… А может, географию или биологию? Думаю, какой бы предмет ни вела эта женщина, она была хорошей учительницей.
– Нет, никак? – Климов взглянул на меня, и мне стало хорошо от его взгляда. Не волнительно, а именно хорошо.
Я покачала головой. В доме было бы проще угадать – какие‑ нибудь предметы выдали бы – глобус, бюстики поэтов – что дарят учителям на праздники благодарные ученики, кроме цветов и конфет. Я посмотрела на Ольгу Вениаминовну, пытаясь услышать хоть какой‑ то обрывок ее мыслей. Я прекрасно знала, еще по неудачному опыту с Костиком, когда он просил меня подтвердить искренность слов его докучливой пациентки, что по заказу мой дар не включается.
– Чем же вы, деточка, стали известны в большой Москве? – спросила меня Ольга Вениаминовна, разлив всем чай и взяв свою чашку. – Вы там и родились?
– Да, родилась в Москве. Если бы не это обстоятельство, вероятно, уехала бы оттуда. Знаете, мне тяжело стало жить в монстроподобном мегаполисе… Это невозможно описать, надо месяц побыть, поездить в метро, постоять в многокилометровых пробках, надышаться диоксидом азота и двуокисью углерода, увидеть бессмысленность суетливой возни маленьких и больших капиталистов, пытающихся заработать все, сразу, любой ценой, – я замолчала и посмотрела на своих внимательных слушателей.
Ольга Вениаминовна улыбнулась:
– Мне интересно, продолжайте, я люблю такие передачи по телевидению. Пусть там и много неправды.
– На телевидение меня не пустят, я слишком… – я хотела сказать то, что я обычно, ничуть не смущаясь, объявляю о своей внешности, но отчего‑ то при Климове мне не захотелось называть себя серенькой, страшненькой, похожей на шустрого подростка…
– И отчего бы это? – негромко проговорил Климов, пряча улыбку и слегка пожимая мое плечо.
Как глупо и как… приятно, черт возьми. Я встряхнула головой, чтобы вернуть себе способность здраво рассуждать. Я точно знаю – мне не надо углубляться в подобные ощущения. Сладко у меня заныло плечо от его пожатия или горько, хочется мне спрятаться в его объятиях и видеть лишь то, что останется, а не останется ничего, кроме него, – и хорошо… Это – не мое! В мире сладких грез для меня уж точно места нет. Почему? Потому.
Я заставила себя продолжить:
– Рядом с моим домом раньше был прекрасный парк. Но кто‑ то решил: пусть гибнет парк – зато будет новый дом, в нем купят квартиры люди из Архангельска, Норильска, Воркуты… Они будут продолжать жить и копить деньги в своих далеких от моего бывшего парка городах, но в Москве у них будет квартира – один из пунктов благополучной жизни, престижа для разбогатевшего провинциала.
Кажется, меня никто об этом не спрашивал. Нарушаю основной закон общения – много говорю о себе, о своем, нимало не заботясь, интересно ли это окружающим.
– Интересно, – заверил меня Климов, опять коснувшись рукой моего плеча и слегка дольше, чем нужно, задержавшись на нем. – Еще как интересно. Про большую политику и про большие города нам здесь всё очень интересно знать.
Ольга Вениаминовна кивнула с улыбкой.
– Так чем же вы стали известны? Своими статьями?
– Я? Во‑ первых, не так уж я известна… Чем… Тем, что меньше, чем другие, вру и пишу не то, что просят, а то, что вижу.
– Да, – кивнул Климов. – Вот Лику просили написать о безумном отставнике, рисующем странные картинки, а она напишет о вполне приличном и спокойном провинциале, пенсионере, который умеет готовить гуся с яблоками. Правда, Лика? Если вообще найдет, что об этом стоит писать.
Я посмотрела на Климова, чтобы понять, насколько серьезно то, что его волнует. А мне ведь действительно он показался спокойным и самодостаточным. Значит, нет? Значит, что‑ то болит и тянет и не дает спокойно смотреть на озеро и радоваться размеренной, неторопливой жизни?
– О пенсионере или офицере запаса, Женечка? – учительница искоса взглянула на меня, думаю, не совсем уверенная, что я так же искренне и тепло отношусь к ее любимому ученику, как она сама.
Я ведь не знаю, как он, маленьким, упорно, в любую погоду ходил к ней на занятия, как сидел в жарко натопленном помещении единственного класса музыкальной школы и занимался допоздна, а потом в темноте бежал по городу один, в легких, тут же промокающих ботиночках, словно растущих вместе с ним. Не знаю, сколько сил ушло когда‑ то у нее, чтобы уговорить его не бросать музыку, когда в шестом или седьмом классе он вдруг увлекся авиамоделированием. Она видела такой необычный талант в хрупком русском мальчике, такую удивительную музыкальную память и ощущение языка, на котором говорят, увы, не все в этом мире, а лишь некоторые, кто слышит что‑ то то ли из других миров, то ли из далекого, давно забытого прошлого…
– Музыка, пианино, – сказала я. – Учился до пятого класса, потом бросил.
– Потом кое‑ как все‑ таки доучился, – кивнул Климов. – Потрепал много нервов Ольге Вениаминовне.
– Это уж точно, – кивнула та, с любовью глядя на бывшего ученика. – Теперь пытается компенсировать продовольственными заказами.
– Ольга Вениаминовна! – Климов укоризненно покачал головой, а я еще раз увидела, как тепло и искренне они посмотрели друг на друга.
Хорошо, что у него есть время и силы в пятьдесят лет тепло и искренне смотреть на бывшую учительницу, пусть даже и такую замечательную, и спокойно, не торопясь пить с ней чай.
– В сорок девять, – негромко поправил меня Климов. – Что будет в пятьдесят – еще посмотрим.
Я заметила быстрый и, пожалуй, ревнивый взгляд Ольги Вениаминовны. Да, тут уж ничего не поделаешь. Можно всю жизнь знать человека, многое с ним пройти, а потом появляется кто‑ то новый в его жизни и почему‑ то становится ему близким и интересным, интереснее, чем все верные и близкие друзья.
Климов лишь кивнул в ответ на мои мысли и сел так, что мне ничего не оставалось, как облокотиться на его плечо. Ольга Вениаминовна вопросительно подняла бровь, но ничего не сказала.
Глава 25
Что представляю собой я на сегодняшний день, восемнадцатое июня две тысячи… – страшно подумать какого уже года. Разве не только что вся Земля праздновала вступление в третье тысячелетие? А вот уже побежали – год за годом, год за годом…
Полный сумбур в голове, сумятица чувств, давно переставших руководить моей жизнью, некий непонятный полуреальный дар, проснувшийся во мне после аварии, – и в связи со всем этим (или параллельно, не знаю) – полная переоценка всех ценностей, простых и довольно неоспоримых. Вот не было у меня за всю жизнь большой взаимной любви – это данность моей судьбы, в другом достаточно щедрой. Но вопреки доводам рассудка и свидетельству зеркал – оказывается, у меня есть надежда…
Далее. Я перестала гордиться своей профессией, к которой так отчаянно стремилась в свое время и которой жила много лет. Может, именно моя профессия открыла всю сложность, многообразие мира и относительность его ценностей, заставила вдруг усомниться во всем, что я так самонадеянно, без оглядки, полагаясь лишь на свое внутреннее ощущение правды, делала много лет?
От моих размышлений меня отвлек звонок шефа. – Еще раз повторяю, – шеф и в самом деле был недоволен, но, главное, очень старался, чтобы его голос звучал непреклонно и строго, – жду материал о Климове.
– Я поняла, – ответила я, вдруг почувствовав, что могу отстраниться от всего и написать то, что написал бы совершенно посторонний человек, которого еле‑ еле пустили на порог и выпроводили восвояси через полчаса, как это часто бывает с нашим братом.
Я быстро включила ноутбук и набросала статью. Интересный человек, и жнец, и швец, и на дуде игрец. Рифмуем дальше: между прочим, жених, соломенный вдовец – жена уехала в Америку и там живет, горя не знает. А он тут тоже ничего – справляется с проблемами, сплошь приятными, идиллической провинциальной жизни в трех часах езды от Белокаменной… Хороший дом, верный пес, изысканный кулинарный вкус хозяина, обед в славных русских традициях, которым накормили корреспондента, то есть меня, вид на озеро, открывающийся из окон и особенно со второго этажа, где корреспондент прилег отдохнуть – устал с дороги…
Все ведь так? А что не так? Все не так. Но я об этом писать не буду. В другом случае, возможно, и попробовала бы – иначе моя профессия теряет смысл, по крайней мере, для меня. Я очень остро ощущаю и всегда ощущала конечность и невероятную краткость жизни. Как будто у меня есть гены, генная память какого‑ то другого человека, жизнь которого была гораздо длиннее. И тот человек мучительно пытается ухватить ускользающую, с каждым годом ускоряющуюся жизнь, приостановить ее, замедлить, раз уж продлить – до нормального, того – срока нельзя. Поэтому делать что‑ то, что обессмысливает и укорачивает и без того сумбурную и сутолочную жизнь, я не хочу.
Но я пишу для журнала, который читают три миллиона человек во всей стране. Кто‑ то покупает его из‑ за качественной телепрограммы, но большинство – вот как раз из‑ за таких статей – про известных или чем‑ то очень отличившихся людей. Но по жанру нашего массового журнала совсем не полагается публиковать и читать их откровения – настоящие, а не показные. Это все равно что взять и напечатать фотографию звезды утром, без прически, без элементарного макияжа – показать людям некрасивую, тусклую, неузнаваемую в своей обыденности звезду, лишить их привычного мифа.
Я послала в редакцию статью прямо из приемной Костика, пока ждала Герду с Лизой, с помощью своего ноутбука и мобильного Интернета. Удивительно, как быстро меняются способы связи и передачи информации. Единственное, что не меняется, – человек.
Ему обязательно нужно верить в некий внешний фактор спасения, избавления от бед, в высшую силу. Как она, высшая и абсолютная сила, называется – дело десятое. Ощущение своей беспомощности и одиночества – без этой высшей силы – не покидало человека никогда и не покидает сейчас, в эпоху невероятных технических открытий. Какая мне, в самом деле, разница, звоню я из быстро устаревшего таксофона, везет ли мое письмо в другой город упряжка лошадей или же я, вставив в ноутбук маленькое высокотехнологичное устройство, посылаю по мобильной связи целую статью с фотографиями, и через день ее, сверстанную, уже перешлют в типографию, а через три – будут читать те самые миллионы.
Какая мне разница, на чем носиться по земле, если я точно знаю, что мой срок на этой земле предопределен кем‑ то или чем‑ то жестко и однозначно. И я буду просить этого кого‑ то, чтобы мне в сумятице и хаосе мира помогли прожить хотя бы его, этот краткий срок, прожить без болезней, без тяжести на душе, омрачающей и сокращающей несправедливо короткую жизнь.
Дверь в приемную внезапно открылась, и из кабинета Костика появилась как будто спокойная, но подозрительно мрачная Герда. За ней, держась рукой за лохматый карман ее модных светло‑ зеленых джинсов, шла Лиза. Маленькая девочка, точно так же, как Герда, сжала губы и нахмурилась. Сейчас было некстати говорить Герде, как похожа на нее малышка, я решила сказать это позже.
Костик из кабинета не появился, но позвонил секретарше, сидящей напротив меня, и попросил ее позвать меня. Я взглянула на Герду:
– Я зайду на секунду?
– Заходи, – пожала плечами Герда, – зачем ты мне нужна?
Лиза отпустила ее карман и шагнула ко мне. И вопросительно на меня посмотрела.
– Я помню, – ответила я. – Ты подождешь меня?
Я увидела яростный взгляд Герды, но не стала ничего объяснять. Я почему‑ то была уверена, что она не уедет без меня. Она не могла не заметить, что внучка вдруг расположилась ко мне и доверяет больше, чем кому бы то ни было.
– Лика! – Костик поднялся навстречу мне и нажал кнопку, чтобы за мной тут же медленно закрылась дверь. – Ты знаешь их историю?
Я пожала плечами:
– В общих чертах. А что?
– Да то, что бабушка мне очень мешала. И вообще… – он подошел поближе. – Черт, все‑ таки приятно, что есть женщины, рядом с которыми тут же забываешь…
Я не стала уточнять, о чем забыл Костик, увидев меня, потому что уже точно знала, о чем он вспомнил. Мне стало приятно и смешно. Вот уж не думала, что могу вызывать такие сильные положительные эмоции просто своим присутствием.
– Извини, – вдруг смутился Костик, возможно, оттого, что я засмеялась. – Сам не знаю, что на меня находит, когда вижу тебя. Просто мистика какая‑ то…
– Как с Лизой? – решила я перейти на менее опасную тему.
– Пока никак. Герда… Как ее, кстати, на самом деле звать?
– Да Гердой и звать. По‑ другому она не отзывается.
– Ладно. Короче говоря, она упирается, говорит, что был шок, семейная ссора, а больше ничего не рассказывает. А как мне тогда подбираться к девочке?
– Понятно. Хорошо, я поговорю с ней. Вы условились на второй раз?
Костик вздохнул.
– Пока только расплатились. Вон, – он кивнул на стол, – швырнула мне деньги и ушла.
– Она просто измучена с докторами. Никто помочь не может, Лиза молчит уже полгода. Она же большая девочка, вовсю болтала до того случая. И еще Герда никому не доверяет.
– А ты мне доверяешь? – Костик вдруг опять с очень глупым видом шагнул поближе ко мне и, протянув руку, стал перебирать пуговки на моей блузке.
– На все сто! – ответила я, похлопав его по руке. – Костик, угомонись, пожалуйста, я совсем неинтересна в том смысле, о чем ты сейчас думаешь. Твоя секретарша, например, гораздо интереснее.
– Да что ты понимаешь! – вздохнул Костик и убрал руку. – Да, вот смешно… Знаешь, я иногда напоминаю себе хорошо отлаженный механизм, белковый механизм с компьютерной начинкой, который вовремя ложится, вовремя встает, по расписанию чувствует голод и… и все остальное. И если вдруг у меня происходит какой‑ то сбой, глюк…
– Например, ты на завтрак хочешь рыбы, с персиковым компотом, – подсказала я, чтобы он не стал уточнять природу своего «глюка». – Или покурить гавайскую сигару, хотя вообще‑ то ты не куришь.
– Да вроде того, – засмеялся Костик, но не очень весело. Все же ему хотелось хотя бы поговорить со мной о себе. – И мне это нравится. Как будто мне пообещали лишние пять лет жизни…
– Причем сейчас, а не в старости, – продолжила я. – Сейчас сорок, и в следующем году будет сорок. И через два года тоже. Слушай, я пойду. Хочешь, поговорим как‑ нибудь в другой раз? Мне неудобно перед Гердой, они меня ждут.
– В другой раз – это никогда или в эту субботу? – тут же уточнил Костик.
– Давай в будний день.
– У тебя… – вопросительно посмотрел на меня Костик.
– У тебя. У тебя семья.
– Ну да, – как будто удивился Костик. – Семья, да. Ну… в общем, да. А… Хорошо. Давай в пятницу или в среду.
– Звони, встретимся! – сказала я, сама не знаю зачем поцеловала его в щеку и вышла.
Возможно, мне все‑ таки было очень приятно, что я вызвала у своего старого товарища такие острые ощущения. Как будто и мне пообещали лишние два‑ три года молодости. Последней, не видной никому, кроме тебя самого. Да еще тех, кто знал тебя в детстве и видит сейчас сквозь годы тебя того, решительно собирающегося взрослеть. А вот спроси сейчас у десятиклассников, молоды ли мы с Костиком…
– Наверно, теперь журналисты действуют и такими методами… – Сначала я услышала очень знакомый голос, а потом, оглянувшись, увидела на экране телевизора в приемной знакомое лицо.
– Вы считаете, она вас сглазила? То есть, что‑ то вам такое… гм… наколдовала?
Я быстро посмотрела на значок канала. Не центральный, естественно, – слишком уж рискованная ересь шла сейчас в эфир, но и не самый последний, не на девяносто седьмой кнопке у добропорядочных граждан.
– А как считаете вы? Если я был жив‑ здоров до той встречи, у меня ничего нигде не болело! А после того как Борга мне сказала, что у меня что‑ то такое страшное внутри, да еще и показала где…
– Прямо вот так показала? – подхватила со смешком, как будто речь шла о чем‑ то невероятно смешном и пикантном, молоденькая корреспондентка.
– Да‑ да! Ткнула пальцем, вот там у меня и заболело! Прямо на следующий день!
– Вот идиот… – пробормотала я и только тут столкнулась с бешеным взглядом Герды, стоящей на пороге входной двери.
– Значит, о тебе это он говорит, да? То‑ то я почувствовала, что с тобой что‑ то не так…
– Герда! – я не дала ей договорить и первая пошла к двери. – Пойдем, я все по дороге расскажу. Поверишь ты или нет, дело твое. Но мне скрывать совершенно нечего. Как бы странно это ни звучало.
– Нет уж! – Герда пришлось специально тянуться до меня, чтобы оттолкнуть мою руку, хотя я вовсе и не пыталась придержать ее или дотронуться до Лизы. – О тебе всё сейчас рассказали по телевизору. Кто ты и что. И какими методами действуешь, чтобы собирать информацию. И не тыкай мне, ясно?
Я остановилась. Герда пронеслась несколько метров и тоже остановилась. Я некстати подумала, что не с ее бы сердцем такие эмоциональные перегрузки… Она обернулась на меня, тяжело дыша:
– Говори.
– Он просто идиот, мой старый знакомый. Идиотом был, идиотом остался. Ему нужно сейчас лежать на операционном столе, а не болтать на всю страну о своей болезни, которая у него была и есть, без всякого моего участия. Не верите – ваше дело. Жаль, что у Кости с первого раза ничего не получилось. До свидания, Лизанька! – я присела на корточки, не подходя близко к девочке.
Проходящий мимо мужчина с удивлением смотрел на нашу необычную компанию. Яркая красотка непонятного возраста, разъяренная и растерянная, – вряд ли без кудрей и сценического макияжа кто‑ то смог бы узнать в ней привычную Герду, певицу любви и расставаний. Трогательная маленькая девочка, красиво одетая, но бледненькая и тоже растерянная. И еще сидящая на корточках посреди тротуара особа, с ноутбуком под мышкой, в красной кепке, перевернутой для удобства обзора задом наперед. На кепке, подаренной мне Леней после очередного эфира, написано «Радио Soul», оно же «Радио души» – каламбурь – не хочу.
Лиза как‑ то недоверчиво посмотрела на меня, словно хотела убедиться, что не ослышалась, когда я с ней попрощалась. Потом, мгновенно набрав полные глаза слез, тихо шагнула ко мне и взяла меня за руку своей крохотной ледяной ручкой. Вот это да. Давно мое сердце так не сжималось и не ощущало такого тепла и нежности. Может, и никогда не ощущало. Я ведь никогда не была нужна маленькому, совершенно беспомощному и сильному именно этой своей полной открытостью миру и беспомощностью человеку. Разве можно отказать в такой просьбе? Молчаливой и безоговорочной.
Герда, конечно, не пропустила нашего с Лизой бессловесного разговора. Не могу сказать, что она была очень довольна, но, мудрая и настрадавшаяся бабушка, Герда произнесла со вздохом:
– Тебе заправляться надо? У меня на нуле бензин. Сейчас наверняка пробка на выезде из Москвы. Пошли! Перекусим где‑ нибудь. Потом заправимся и домой.
Я почувствовала толчок в голодный желудок и даже не поняла, мой ли это голод вдруг проснулся или Гердин. И только когда явственно увидела жирные баварские колбаски, политые красным соусом, да с печеной картошкой, и еще с масляными, скворчащими шкварками, поняла – не мой. Я бы съела чего‑ нибудь попроще, что не нужно мучительно переваривать два часа, ни о чем другом, кроме как о движении пищи по органам пищеварения, не думая.
Я порадовалась, что у меня не было ничего запланировано на вторую половину дня и я успела отправить «заказную» статью о Климове. Все равно все неправда. И то, что я написала о нем, и то, что будет написано в других статьях нашего журнала…
Да что со мной такое? Кому же нужна некрасивая, неинтересная, часто страшная или жалкая правда? Кто купит журнал, где будет написано, как Климов во всем разочаровался, не достиг своей цели, сидит в городе Калюкине, пишет детские сказки, которые очень понравились мне, не вырастившей ни одного ребенка, и думает о том, когда наступит полная старость – завтра или через год.
Кто будет читать о том, например, какой ценой девочки становятся известными певицами или как плохо живут звездные пары? Читать и думать, как же все плохо в этом мире.
А у нас журнал приличный, с хорошим русским языком, пристойными картинками и причесанной, приукрашенной полуправдой о жизни известных личностей, отличающейся от настоящей правды ровно настолько, насколько отличаются, например, рассказы о себе на сборе одноклассников от реальности.
Неужели кто‑ то, не видя друзей по многу лет, подняв на встрече бокал вина, расскажет о том, как его в прошлом году рвало по ночам желчью, и как пришлось срочно вырезать желчный пузырь, или как тяжело и плохо протекал развод, как шла настоящая война в собственном доме – с драками, самыми последними словами, обманом, подлостью? Кто же это скажет? И кто захочет услышать? Нет уж. «Были кое‑ какие проблемы со здоровьем, но теперь все нормально! Все ок, ребята! Вы же меня знаете! » «Вот, развелся, наконец, нелегко далось, но теперь все нормально»… И всем хорошо, и самому приятнее от такого угла зрения.
Мне всегда говорил папа, когда я сильно о чем‑ то переживала: «Ликуся, отойди чуть‑ чуть в стороночку, самую малость. И посмотри с другой стороны. Это самое трудное, но надо научиться менять угол зрения». Иногда коллективно это сделать проще. Смотреть в ту сторону, куда все смотрят, а потом дружно повернуть голову в другую… Вот вчера все не верили в бога, а сегодня опять поверили, как сто и двести лет назад. Молимся, крестимся, поздравляем друг друга со святыми праздниками, смысла которых не понимаем, но что‑ то в душе волнуется от слов «Успение», «Благовещение»… Вчера еще или позавчера строили коммунизм, жизни не жалели на это, ни своей, ни чужой, а сегодня меняем Тойоты на Хонды, строим крепкие загородные дома на старых бабушкиных шестисоточных участках и копим детям на образование – у кого они есть, дети, которым предстоит жить в обществе «демократии» и жесточайшего неравенства.
В ресторане, который, разумеется, выбирала Герда – точнее, повела нас в хорошо известное ей место, – она вела себя так, как будто ничего не случилось. Не стала при Лизе обсуждать визит Костика и даже не вернулась к теме о том, как я якобы сглазила Сутягина, отчего он, как только что поведал по телевидению, сильно приболел. Лиза ела мало и всё вопросительно взглядывала на меня. Я же только улыбалась ей, стараясь вложить в эту улыбку всё, что мне хотелось бы пообещать девочке. И что я спасу птенчиков, они нас обязательно дождутся, не погибнут. И что верну Лизе мяч, отобранный соседкой. И что никогда больше Люсик не станет кулаками бить по лицу ее маму, которую я, кстати, так и не видела.
Герда вдруг вскинула глаза на меня, как будто тоже услышала мои мысли:
– Ты ведь не знакома еще с моей дочерью, Лизиной мамой?
Я покачала головой.
Герда секунду смотрела на меня в некотором недоумении, словно сама не зная, отчего она это спросила. И больше ничего говорить на эту тему не стала. Я же не знала, как подступиться к тому, что мне нужно было поехать к ним домой. Либо хотя бы поговорить с Гердой без Лизы. Но всё решилось проще, чем можно было придумать.
К концу обеда Лиза вдруг встала, с трудом перетащила свой стул поближе к моему и села рядом со мной. Герда молча проследила за ее передвижениями и ничего не сказала. Через некоторое время Лиза пододвинула мне свою вазочку с десертом и посмотрела на меня.
– Так, похоже, тебе придется менять профессию или брать отпуск в журнале. И идти ко мне – к нам – няней.
Я засмеялась, а Лиза встревоженно переводила глаза с Герды на меня. Я осторожно погладила девочку по голове.
– Насчет няни обещать не могу. А вот в гости к Лизе приходить буду. Если она, конечно, меня позовёт. Позовешь?
Девочка тихо кивнула и положила ручку мне на запястье. Возможно, будь у меня свои дети, я бы так остро не реагировала на неожиданное знакомство и расположение малышки. Но много лет мир детства был просто закрыт для меня. Мне казались неинтересными и непонятными детские отделы в магазинах, раздражала суетой и пестрыми красками вся качельно‑ карусельная часть города, никак не интересовали дети моих знакомых, их разговоры, проблемы, победы и смешные детские фразы, которыми взрослые развлекают друг друга: «А он вчера сказал… А моя‑ то, представляешь…»
И вдруг эта малышка вызвала во мне целую бурю неожиданных чувств. Няней… Не знаю, смогла бы я пойти няней к одной девочке, а вот заниматься чем‑ нибудь с группой малышей я бы, возможно, и смогла. Чем только? Азами журналистики?
Как обычно, малейшая мысль о том, что я могла бы тоже иметь ребенка, пусть не своего, пусть рожденного кем‑ то другим, мгновенно блокировалась в моей голове неким глубоко спрятанным во мне запретом. Я много раз пыталась задать сама себе вопрос – а почему я даже думать не могу о приемном ребенке? И каждый раз уже от самого вопроса мне становилось невыносимо пусто и тоскливо, и ответить себе я ничего не могла. Может, я всю жизнь надеюсь на чудо?
На то, что отсутствующие или просто спящие, очень важные клетки моего организма вдруг оживут, вспомнят о мощной, первичной, самой главной программе жизни – о том, что любому живущему на земле существу надлежит жизнь эту продолжить во времени, оставить кусочек себя, наделить его всем лучшим, что есть у тебя самого, научить выживать, научить жить, несмотря ни на что, справляться с болезнями, трудностями, видеть свет и любить?
Глава 26
– Лика, расскажи о себе, – мужчина, чей голос пропустили в эфир, был явно настроен игриво.
Его настроение никак не совпадало с моим в тот момент. Да еще Генка показал руками что‑ то очень маленькое и корявое и сделал соответствующую рожу – кривую и жалкую.
– Я смешливая блондинка с большим… – я увидела, что Генка рвется вставить слово и кивнула ему: «Валяй! »
– Кузовом! – радостно подсказал Генка.
А я только развела руками. Действительно, не о моем же недюжинном интеллекте он рвался известить нашу аудиторию.
– Правда? – обрадовался наивный радиослушатель.
– Неправда, – засмеялась я. – Мне скоро сорок лет, у меня дурной характер и я очень хочу выйти замуж. Желательно за умного человека. С хорошим генотипом и благородным лицом.
– Гм… а… – радиослушатель слишком долго мялся, пытаясь остроумно отреагировать на мой ответ, и его отключили.
– Лика хочет выйти замуж за меня, – подхватил тему, не растерявшись, Генка, – а я вот что‑ то, глядя на нее…
– Тебе отключить микрофон? – спросила я его в эфир, хотя, разумеется, никак не могла бы этого сделать, разве что встать, пройти через всю комнату, обогнуть стол, наклониться и выдернуть шнур из входа.
Я увидела напряженный Генкин взгляд и поняла, что именно такую картинку он и увидел. Смешной человек.
– Смешной человек Гена боится, что я лишу его стабильного заработка и престижной работы. Он знает, что нет ничего опаснее энергичной одинокой сорокалетней дамы с острым языком и скверным нравом. Да, Геник?
– Оу, йес! – ответил Генка и с облегчением откатился от стола – выпускающий звукорежиссер пустил положенный музыкальный блок.
– Слышь, Борга, а ты что, правда, хочешь замуж? – Генка смотрел на меня прищурившись и был похож сейчас на большого, глупого, одуревшего от пива и недосыпания за компьютерными пулялками подростка.
Я пожала плечами.
– Тебе я не буду отвечать.
– И почему?
Я посмотрела в Генкины глаза. Мутноватые белки, с трудом удерживающийся в твоих глазах взгляд.
– Мне скучно с тобой разговаривать, Ген. Ты очень неискренний человек.
Генка хрюкнул, чавкнул, что‑ то еще попытался изобразить лицом и губами. Но, похоже, его задели мои слова. Значит, все‑ таки я думаю о нем хуже, чем есть. Раз его можно задеть подобными словами.
В рубку заглянул редактор:
– Лика, ну, жди теперь шквала звонков. Такая интересная тема!.. Ведущая знаменитой волны хочет замуж…
– Я поговорю на эту тему, если кто заинтересуется, – кивнула я. – Мне тоже интересно. Только дураков не надо.
– Надо поумнее, с хорошей шевелюрой и спортивной осанкой, – подсказал Генка.
– Стабильная работа, здоровая психика, навыки серьезного чтения и – категорически! – отсутствие вредных привычек, – продолжила я.
– А московская прописка в низкоэтажном элитном доме в Центральном округе? И счет в надежном банке?
– Генотип, Геник! Хороший генотип! При чем тут этажи и банки? С генотипом можно уехать на Алтай и там быть свободной и счастливой…
– Пока климакс не припрет! – закончил за меня Генка, чем‑ то очень недовольный.
– Друзья, вы в эфире, – махнул рукой нам режиссер. – Можете озвучить еще раз ваш разговорчик? Три, два, один, поехали!
Я действительно хочу замуж? Я ведь искренне ответила тому человеку. Так проще – говорить искренне, чем лукавить, если, конечно, твои слова не обижают собеседника. Мой собеседник, похоже, лично обижен не был. Да и остальные слушатели тоже. После того разговора мне пришлось пропустить несколько эфиров, потому что звонящие хотели говорить исключительно на тему моего гипотетического замужества, а еще более – на фривольную тему причин моего желания. Ведь запретов в современной культуре почти нет, границы между тем, о чем можно думать, а о чем следует говорить вслух, стерты.
Мне иногда страшно подумать – а что будет дальше, еще через сто лет? Или не будет ничего? И снятие запретов, безумие сегодняшнего дня – это лишь эсхатологический прорыв? В никуда, в тот самый последний день, в который можно все? Totentanz, Пляска смерти, сюжет которой так увлекал поэтов и художников, особенно немецких, во все времена.
Нет, о конце света думать невозможно. Если он наступит, меня, несмотря на мою активную жизненную позицию и честный взгляд на мир, все равно тоже не спросят. Лучше о замужестве. Представим, что конца света на моем веку не будет.
Итак, действительно, зачем мне замуж? Это зов моей бедной плоти, годами лишенной постоянного мужского участия? Или души, тоже лишенной мужского внимания? Но я же не выйду замуж за тридцатилетнего – скорей всего, мне не о чем будет с ним говорить. А мужчины старше сорока… Мужчины так отвратительно стареют. Эта постоянная озабоченность потерять потенцию… Хотя понятно. А что остается от многих мужчин, когда орган размножения и общения с противоположным полом слабеет? Остается непроходимая глупость, беспомощность, несостоятельность, болезни, неприятные и часто неприличные, о которых и поговорить‑ то толком ни с кем не поговоришь, а также и сожаления об упущенном или, хуже того, – упреки остальному миру.
Климов не звонил ни разу с того дня, как я уехала. Я, наверно, ждала звонка. Ждала и ждала, пока моя поездка не стала казаться мне моей собственной выдумкой. Мало ли я придумывала и приукрашивала в жизни? Так не было ничего этого. Ни ботанического сада, ни прогулки по озеру, ни старой учительницы. Ни позднего чая на веранде, остывавшего быстрее, чем я успевала его отпивать, ни большого окна неправильной формы на втором этаже, в котором покачивались ветки высокой березы, ни раннего молчаливого завтрака утром, когда я только успевала что‑ то подумать, а Климов кивал или улыбался, качая головой. Это я все придумала для статьи, чтобы читателям было интереснее. Всё, точка. Только статью написала о другом…
– Борга! – шеф слегка привставал на носки и вразнобой размахивал руками – очевидный признак того, что он очень нервничает. – Что, что? Сосредоточься! Очень мало времени!..
Я понимала, что он это говорит скорее себе. Почему он так нервничает? Ага, понятно. Ищет Верочку, которая разок явилась на работу, и он тут же послал ее на невыполнимое задание, потребовавшее, видимо, от бедной девочки столько сил, что она, не справившись, пока больше не появлялась в редакции.
– Позвони Верочке, вместе будете писать…
Я вздохнула. Если я сейчас скажу то, что мне хочется сказать, он взовьётся, раскипятится, потеряет нить разговора.
– Ок, – мирно кивнула я.
– И не привыкай, кстати, к этим вот… – шеф с отвращением покрутил руками перед собой, – «ок», не «ок»… Что за выражения? Так! «Реконструкция московских районов послевоенной застройки»! Поняла? Огромная тема, красивая, сложная. Два дня на проработку, так… завтра напишешь, послезавтра мне. И про немцев, про пленных немцев обязательно напиши, сейчас очень актуально. Что‑ нибудь пусть такое слезливое проскочит, вроде того, что тоже люди, душегубами были по принуждению, а дома´ вон какие нам построили – на века. И название соответствующее придумай – что‑ нибудь шикарное, умное, ну, ты сама все знаешь.
Я удивленно взглянула на Вячеслава Ивановича. Он не шутил, говорил совершенно серьезно, при этом все так же качался на носках и потряхивал руками, как будто хотел освободить мышцы после тяжелой физической работы. А, вот! Неожиданно я уловила его мысли. Как хорошо, что все‑ таки это случается лишь выборочно. Если бы я слышала такое постоянно… Только недавно я пыталась отговаривать саму себя от бесплодных надежд на запоздалое замужество. И рассуждала о проблемах стареющих мужчин.
А вот как, оказывается, сворачиваются мозги мужчины, вновь и вновь терпящего фиаско в своем любимом, привычном, незамысловатом удовольствии. Вот и все. Больше этого нет. Как беспомощно, как жалко, как унизительно он себя ощущает. Как хочет, чтобы никто об этом не догадался. А ведь все так и приглядываются, так ненароком и опускают глаза в совершенно неприличное место и с трудом скрывают усмешку. Вот и я, по его мнению, стою и просто наслаждаюсь его бедой.
– Через три дня приношу материал? – уточнила я.
– Послезавтра, я сказал! – рявкнул Вячеслав Иванович и иноходью пустился прочь, как будто стесняясь своего собственного большого и бесполезного тела.
Глава 27
…Господи, как же я устала от этого неожиданного подарка – странной, нечеловеческой или надчеловеческой способности влезать в чужую душу, в чужие кишки. Я не могу больше ежесекундно видеть, слышать чужую боль. Мне стало больно жить, я не могу просто радоваться солнцу, теплому ветру, пению птиц, я постоянно чувствую рядом чье‑ то страдание. За что мне это? Я не жила лучше других, чтобы быть выделенной, отмеченной этим даром, крайне обременительным, между прочим.
Вот зачем мне Верочка с ее бессмысленной и неразделенной любовью? У меня у самой достаточно было неудачной любви в молодости, а сейчас и вовсе никакой нет.
Зачем мне грустные мысли бывшего космонавта? Его попытки сделать что‑ то не сделанное за пятьдесят лет – за сорок девять…
Зачем страхи малыша, которого не любят и бросают влюбленные в жизнь, другую жизнь, родители, жизнь, в которой нет темной лестницы, подвала, страшного соседа и одиночества маленького человека?
Зачем мне тягостные мысли моего начальника о старости, вот‑ вот собирающейся навалиться всей своей душной тяжестью и раздавить, прижать к земле, сровнять с ней хорошего в общем‑ то человека, так и не успевшего в суете своей службы спокойно оглянуться и понять, понять хоть что‑ то об этой жизни?
Зачем мне, в конце концов, унижающие меня мысли человека, которого я когда‑ то любила и который не любил меня ни тогда, ни сейчас? Зачем мне его неприязнь, обретающая физическую силу в моем теле, сковывающая, парализующая меня, долго не отпускающая после встречи с ним? Зачем мне Сутягин и его неизлечимая болезнь, которую я почувствовала первой и с которой, увы, ничего поделать не могу? Я ведь не лечу, я только чувствую эту чужую боль.
Я устала, я хочу просто жить, не думая ни о ком в особенности. Я хочу с удовольствием завтракать, радоваться, глядя на сверкающие бока своей новой машины, и гонять на ней на предельно допустимой скорости, не слыша при этом обрывки чужих охов, стоя в нетерпении у светофора. Я хочу подсмеиваться вместе с Генкой над наивным радиослушателем, стремящимся прозвучать любой ценой в эфире, хочу получать удовольствие от собственного остроумия и способности вести блестящий интеллектуальный диалог, а не страдать вместе с ним, с подлецом Генкой, да еще и за компанию с каждым позвонившим нам человеком.
Что мне сделать, чтобы избавиться от этой неожиданно свалившейся на меня способности? Еще раз попасть в аварию и снова посмотреть на землю откуда‑ то снизу и сбоку, как я смотрела тем холодным весенним утром из окна своей перевернувшейся машины?
Наверно, я знаю место, где избавляют от душевных невзгод. Не всех и не всегда… Но попытаться надо. Я взяла старую фотографию своей бедной прапрабабки, изведенной соседями зазря, спросила ее, зачем ей был ее дар и хорошо ли ей было с ним. Бабушка Вера смотрела на меня с фото кротко и сочувственно, но ничего мне не ответила. Я не услышала ни дуновения эфира, ни тихого шепота у себя в голове, никакой мысли, чужой, непохожей на мои обычные, быстрые и понятные мне. Как тебе было с твоим даром, бабуля? Тяжело и одиноко? Ты помогала людям, как умела? Только не смогла помочь себе в самый последний момент…
Я пошла в церковь, поставила свечки всем известным мне святым, помогающим от болезней и недугов, почему‑ то отчетливо ощущая, что мое состояние никак к болезням не относится и поэтому помогать святые мне не станут. Постояла у темной иконы Богородицы в золотом киоте и не стала ни о чем просить. Странно было бы даже думать о моем новом качестве перед лицом всепрощающей и всевидящей вечности. И все‑ таки я подошла к батюшке, отпускающему грехи прихожанам – и мужчинам средних лет, и одиноким дамам неопределенного возраста с настрадавшимися лицами, и мамам с очень маленькими детьми, у которых, видимо, мамы тоже обнаружили кое‑ какие смертные грехи – и, наверно, правильно сделали, приучая малышей оценивать свои поступки и, главное, мысли и чувства. Слукавил? Пожелал другу Вите споткнуться? Позавидовал? Очень сильно ругал котенка, старательно выговаривая все известные тебе плохие слова? Вот изволь все это собрать, протрясти в голове и душе, сформулировать и пожалеть о том, что ты сделал или не сделал – не помог, не извинился, не осмелился заступиться за кого‑ то…
Но больше всего, как обычно, было в очереди на исповедь пожилых женщин в платочках, – и тех, кто давно, привычно и радостно верует, и, на внимательный взгляд, выделяющихся неофиток, росших когда‑ то с комсомольским значком на груди, имевших иную веру, идеалы, слегка похожие на христианские, но все же иные, и теперь с некоторой неуверенностью приспосабливающихся к внешне строгой, но, по сути, довольно уклончивой и расплывчатой системе церковных условностей и церемоний.
Постишься? Молодец. Не забудь, что кроме мяса, рыбы, яиц и вина еще запрещены все плотские удовольствия, а также дурные мысли. Поэтому какой смысл не есть мяса, если все равно удержать себя от зависти к соседке Нинке не можешь? Старайся, и бог поможет.
Нарушил пост? А ведь вроде никто и не заметил этого. И бог как будто не наказал. Ничего, в следующий раз будешь построже соблюдать.
Пришел на причастие? А с утра зачем крепкий кофе пил, да еще и сигаретку выкурил? Слаб человек, это правда. Поэтому вера и нужна.
Полгода в церковь на службу не ходил вообще и даже просто – свечку поставить – не заглядывал? Так не на работу же.
Церковь как стояла, так и стоит, готовая в любой момент отворить тебе дверь в загадочный, не очень реальный, чуть‑ чуть похожий все‑ таки на детскую сказку мир святых, угодников, чудодейственных икон, безгрешных старцев, канонизированных мучеников и умных, интеллектуальных, пугающих своей академической образованностью и абсолютной адекватностью сегодняшним знаниям о мире и его физической природе священников.
Католические священники нашли смелость и заговорили о своей неполной святости, о том, как много греховного и мирского в их душах и обителях. А наши? Пусть лучше не говорят, пусть лучше кажется – тем, кому это жизненно необходимо, – что есть хоть где‑ то на земле правильный, справедливый мир. Маленький осколочек его в золоченом киоте.
Среди прихожан стояла женщина в длинном, спускающемся на спину черно‑ зеленом платке. Не знаю, почему я обратила на нее внимание. И узнала свою бывшую школьную учительницу. Да не только узнала, а услышала ее мучительную, тоскливую боль. Я даже отступила подальше, чтобы невольно не подслушать, – ведь она не собиралась говорить о том, что чувствовала, никому, даже священнику.
И успела подслушать, и почувствовала себя воровкой, настоящей воровкой. Я не должна была слышать сокровенное, самое тайное, то, что человек может поведать только Богу. В которого он, может быть, ради этого и поверил – чтобы было кому рассказать, чтобы облегчить изболевшуюся душу…
Дочка учительницы, избавляющаяся от одного ребенка за другим, без счета, почему‑ то беременеет от любого мужчины, с которым встречается. А ребенок у нее уже есть, только мужа никак не найдется. Вот она и пробует, и пробует, а вместо желанного получается совсем другое – очередная беременность, которую дочка не замечает или, глупая, до последнего надеется на очередного избранника. И в результате – все ее аборты на таком позднем сроке… А потом, когда приходит домой после операции, она срывается на ней, на учительнице, и на маленьком сыне.
А когда дочка срывается, она теряет разум, как когда‑ то терял разум покойный муж учительницы. Становится сама не своя. Сильно дерется, может разбить всё лицо мальчику и ей самой, не старой еще и вполне крепкой пенсионерке. И даже как будто нарочно старается бить так, чтобы до крови, не просто до синяков. Чтобы было страшно и дальше в тот момент всё казалось черным и последним. А потом с нее это сходит. И дочка ставится обычной – доброй, уступчивой, чуть недалекой. Но она не виновата – она в точности повторила генетический код своего отца, которого когда‑ то выбрала в мужья моя учительница. Дочка все помнит, она кается, плачет, просит прощения, старается загладить вину – хоть как, хоть чем. Моет полы, покупает на последние деньги мальчику конфеты и игрушки. И любит, на самом деле искренне их любит – и сына, и свою мать, мою учительницу литературы.
А вот учительница стала все забывать. Слова, людей, то, что делала вчера… Случилось это с ней после одной драки, которую с горя устроила ее бедная дочь. Иногда учительница говорит совсем хорошо, радуется, что легко, свободно может называть фамилии, помнит, как называются овощи, цветы, детские игрушки. А иногда, чтобы вспомнить слово «георгин» или «волчок», ей нужно долго тереть виски, мучительно перебирая соседние, крутящиеся в голове, путающиеся в бесконечную, неопрятную, тяжелую нить слова…
«Вертушка», «крутилка», «зайчик»… нет, не зайчик. Что‑ то рядом, похожее. Вот оно сейчас выскочит, нужное слово… Или не выскочит. Останется, запутавшись в соседних похожих словах.
«Сто восемьсот рублей» говорит учительница в сберкассе. И сама понимает, еще до того, как на нее удивленно взглядывает кассир, сама понимает, что уставший, всю жизнь не подводивший ее и совершенно незаметный орган – мозг – отказывается и отказывается, и опять ее подводит… Ключи, очки, шариковая ручка – всё приходится искать подолгу, потому что учительница стала класть их совсем в странные места. Но главное даже не это.
Она так ждала, когда у нее будут внуки, пусть один. Она сможет передать ему всё, что знает, сможет открыть прекрасный мир литературы и поэзии. Она же знает наизусть столько стихов, сказок, даже отрывков из великих прекрасных романов… Знала. А теперь спотыкается на самом неожиданном слове, и все, что дальше, скрывается в тяжелой, мутной мгле. А если читать по книжке, то стоит ей отвлечься – забывает, где, на какой строчке, даже на какой странице читала, – о чем, зачем…
Я стояла как оглушенная. Секунду назад я быстро вышла из церкви и встала сбоку от крыльца, чтобы отдышаться. Что, мне и заходить теперь нельзя в церковь? За несколько секунд, что я стояла – и не рядом ведь с бывшей учительницей, на некотором отдалении! – я услышала всю ее жизнь, всю ее боль. Как будто сгусток чужой боли попал мне в душу, как влетает в комнату загадочный физический объект, условно называемый шаровой молнией – потому что иного названия ему нет, не придумали. А как назвать то, что происходит со мной? Сверхчувствование, оно же экстрасенсорика, если пользоваться латинскими корнями – ничего лучше тоже не придумано.
Из церкви потихоньку потянулись прихожане. Я еще немного подождала и вошла в церковь. Я увидела, что священник разговаривает с мужчиной, стоя к нему чуть вполоборота, как‑ то не глядя, склонившись ухом. Больше никого рядом не было. Я подошла поближе. И зря.
Прежде чем поспешно отступить назад, я успела как будто наяву увидеть окровавленную женщину, с откинутой назад шеей и неправильно раскинутыми руками. Она только что выпала из окна – случайно, случайно! Он совершенно не хотел ее смерти, он ее так любил и любит теперь. Только любить уже некого. Он просто хотел тогда ее обнять. А она его оттолкнула, оттолкнула как‑ то слишком сильно и неловко, откинувшись назад сама. Она сидела на коленках на большом подоконнике низкого окна в их новой квартире и что‑ то читала, что‑ то свое, непонятное, раздражающее его больше, чем ее пряные, зовущие, какие‑ то слишком откровенные духи.
Она откинулась назад, а он, от обиды, еще и подтолкнул ее. Совсем несильно, не для того, чтобы она упала, нет! Хотя она и замучила его, замучила своей нелюбовью, капризами, странностями. Но не убивать же за это! Нет, просто так получилось! И что ему теперь делать? Судить его не будут, это был просто несчастный случай. А ему надо еще много лет прожить – он‑ то ведь точно не собирается умирать. И в этой новой жизни, без нее, ему будет очень и очень мешать то, что произошло. Не хочет он тащить с собой эту смерть, эту вину. Не хочет помнить, как странно, беспомощно посмотрела она на него, когда стала падать.
Он просыпается от этого взгляда, он никуда не может от него деться. Вот уже полгода ее нет. Все уже по‑ другому в жизни. Уже новая, милая, нежная девушка будит его поцелуями каждое утро и не отталкивает его, когда он подступается к ней с любовью. Но та, что мучила его шесть лет, никуда не делась. Она здесь, она мешает, она мучает, она живет в своем доме… То вдруг неожиданно запахнет ее духами, резко, отчаянно, непонятно откуда. То ночью зашуршат страницы, и он утром, плохо выспавшийся, злой, все думает и вспоминает – а просыпался он ночью и лежал, замерев, слушая тихое шуршание и легкий, далекий голос, небрежно напевающий по‑ французски, или ему это все приснилось…
Я попятилась, как будто кто‑ то мог понять, что я слышу все то, что в душе у этого хорошо одетого человека, тихо разговаривающего со священником. У меня пролетела одна мысль, и я не смогла ее остановить, сказать ей: «Не смей! » А что он говорил на самом деле? Вот бы было интересно сравнить…
Я решила дождаться священника, чтобы задать ему один и очень простой вопрос: с точки зрения церкви – что со мной? Стоять в церкви и просто ждать мне было неудобно. Я вышла опять во двор. Странно, как внутри церкви усиливается моя способность. Или просто там концентрируются все человеческие чувства, страхи, боли, надежды, чаяния?
А что мне может сказать священник? Зачем я сюда пришла? За помощью? За ответом? Затем, чтобы у меня отобрали эту способность? Так ведь не в ведении священников этим распоряжаться. Скажет еще что‑ то такое, что оттолкнет меня от церкви, как когда‑ то на несколько лет оттолкнул самоуверенный и жестокий батюшка, пытавшийся решать от лица Бога чужие судьбы.
Я брала у него интервью, как у человека, восстановившего заброшенную церковь в Калужской области, человека, про которого много хорошего и интересного говорили. А оказалось, что восстановить‑ то церковь он восстановил, молодец, нашел деньги у бывших коллег, проследил за стройкой, сам обжился. А вот только кем он ощущает себя на земле, он, обычный православный священник, не имеющий специального духовного образования, по нехватке кадров поставленный руководить приходом, – это другой вопрос. Как знает всё за всех – за всех своих немногочисленных прихожан и московских «духовных детей», приезжающих к нему за советом. Знает, кому развестись, кому кого не прощать, чьи дети должны жить без отцов, раз судьба так распорядилась и родители их расстались, кто должен смиренно принимать свою болезнь как испытание божье и не лечиться, а лишь молиться от избавления от болезни, кто – оставить все земные дела и просто тихо готовиться к смерти, за которой будет вечная блаженная жизнь и личная встреча со Всевышним.
Я не знала тогда – смеяться мне или плакать во время разговора со священником, рассказавшим мне несколько житейских историй со своими комментариями. А если есть люди, которые его безоговорочно слушаются? Поступают, как он им велит, не рассуждая и не задумываясь?
Только при чем тут сама церковь? Ни при чем. Просто после разговора с ним у меня ноги не шли в мою собственную, «домашнюю» церковь, где я когда‑ то крестилась в сознательном возрасте, по своему выбору, куда хожу, если что‑ то нахлынет – в основном, что‑ то плохое, то, что болит и требует выхода и помощи свыше.
Потом это прошло. Священник просто‑ напросто напомнил мне, что там, где человек, – там может быть ложь, высокомерие, стремление главенствовать любой ценой. Напомнил прописные истины о природе человека.
В путаных, неясных, свободно трактующихся шумерских мифах есть весьма своеобразная версия создания человека. Точнее, для них, для шумеров, это почему‑ то казалось непреложной истиной. Но мы‑ то знаем другую истину, которая нас устраивает гораздо больше, чем то, что оставила нам древнейшая, первая из известных нам письменных цивилизаций. Из тех, от которых остались письменные источники.
И это ведь не сюжет фантастического романа, это записи древних знаний – или древних же фантазий, как угодно. Неким людям – не нам, другим, похожим на нас сегодняшних, но жившим в три тысячи шестьсот раз дольше нас, нужно было золото для того, чтобы распылять его в атмосфере своей погибающей планеты. Они нашли это золото на нашей Земле, а именно в Африке. Но вот добывать его в южноафриканских копях было крайне тяжело. Странно, почему у них не было совершенной техники… Возможно, по каким‑ то причинам они не могли привезти эту технику на Землю? Или на Земле для нее не было источников энергии? Но об этом в мифах не говорится. А говорится, что те, другие люди, много знавшие и умевшие, сотворили себе чернорабочих из подручного материала. А именно: взяли яйцеклетку африканской обезьяны (или же древнего обезьяноподобного существа), смешали ее с глиной или с чем‑ то, похожим на глину, а также взяли свой собственный генетический материал. И в получившееся существо вдохнули непонятным нам доселе образом дух, сделавший это существо в чем‑ то подобным его творцам.
Эта версия никому, кроме нескольких ученых, не нравится и не может нравиться. Ведь гораздо лучше ощущать себя Творением Шестого Дня – последним, самым итоговым творением Всевышнего. Не самым удачным, правда, – иначе зачем было бы уничтожать всех в одночасье за грехи Всемирным Потопом? Ощущать себя не лучшим, но всё же творением настоящего Всемогущего, непознанного и непознаваемого в принципе, всевидящего, всезнающего, сотворившего горы и моря, свет и тьму, и нас в том числе.
Есть еще одна версия – для категорически неверующих, они всегда и во все времена были, те, кто пытается откреститься от высшей силы, кто чувствует себя вполне самодостаточными в огромном космосе, чтобы обходиться без помощи свыше, без самого верховного судьи – одного на всех. Их вполне устраивает, что обезьяна – или какой‑ то наш общий с обезьяной предок – лазил по деревьям, там и спал, и прятался от хищников, сбивал палкой бананы и кокосы и в результате миллионов лет эволюции научился строить дома и корабли.
Но все‑ таки насколько приятней знать, даже не сильно веря в библейские чудеса, что ты – безалаберное детище Всевышнего, неудачное, своенравное, слабое, но созданное тем, кто может и знает Всё, а вовсе не праправнучка макаки (ведь именно к этим обезьянкам ближе всего человек) с высшим образованием и правами водителя категории B. Тем более – не потомок какого‑ то искусственного существа, выведенного для конкретной практической цели, в пробирке, и брошенного здесь на Земле равнодушными и корыстными создателями – размножаться и расселяться, не понимая – зачем, для чего, почему мы именно такие…
Я пошла по церковному дворику к выходу с внезапной и очень ясной мыслью в голове – просто так нужно. Просто за все, чего у меня не было в жизни, за все, чего я была лишена, я теперь получила награду, которую по глупости и неразумности своей рассматриваю как тяжесть и даже прошу забрать ее у меня обратно. Награда эта – вот так мучительно, ежедневно, ежечасно ощущать душу другого человека, ее тоску, ее боль, ее усталость от череды непрекращающихся бед и страданий. И дальше – поступать уж как получится. Как повелит мне моя собственная душа. Вмешиваться, помогать. Или просто утешать. Или даже только переживать вместе с человеком, делить его страдание на две, пусть неравные части. Ведь если я заберу часть чьего‑ то страдания, его станет меньше? Я обернулась на церковь и на секунду замерла. Спасибо, Господи. Я так слабо в тебя верю, так хочу быть умнее, так хочу понять твой замысел, так сомневаюсь в его безупречности, я ищу и ищу доказательств того, что все в мире совершается помимо тебя, – я читаю статьи по физике, биологии, я интересуюсь кварками и темной материей, я пытаюсь разобраться в теории струн и горячо верю, что скоро будет создана теория Всего, объединяющая законы макро– и микромира… Только вот почему сегодня, когда я шла в церковь, у меня в душе был сумбур и тоска, а теперь – покой и ясность?
То ли ты, Господи, просто обратил на меня свой взор – так, особо не разбираясь в мелочах, просто заметил, что вот есть я, крохотная, со своими проблемами. То ли я наконец во всем разобралась сама. Я ведь настолько совершенна и самодостаточна – самоорганизующаяся система с цифровым программным управлением. Цифры эти только никак мне узнать не удается. А так хочется – взломать таинственный код, преодолеть ограниченность своего разума, выйти за пределы собственного «я»… Поможешь, Господи?
Глава 28
Сутягин умер. Он не дожил двух часов до назначенной операции. Я теперь не смогу никому и нигде доказать, объяснить – прежде всего ему самому, что я предупреждала его, а вовсе не хотела навредить ему, сглазить. Хотя меня никто об этом и не спрашивал.
Я узнала о его смерти в редакции. Материал о моем бывшем друге уже пошел в следующий номер, и надо было срочно решать, ставить его или нет.
Нервный, злой Вячеслав Иванович, едва завидев меня, затрясся и замахал рукой:
– Давай, быстро! Зайди ко мне! Слышала уже? Он же там что‑ то по телевизору говорил о тебе, оказывается, незадолго до смерти? Ты умудрилась ему что‑ то накаркать?
Я вздохнула. И как мне ему объяснить? Уж точно – говорить сейчас правду не нужно.
– Я давно его, оказывается, знала, Вячеслав Иванович. Мы говорили о здоровье. Я посоветовала ему проконсультироваться у одного врача, вот и все.
– А с чего ты такие советы даешь, чтобы потом тебя и меня вместе с тобой могли позорить по телевизору? Ты что, врач?
– Нет. Просто он плохо выглядел.
– Да что ты говоришь! А вот я сегодня плохо выгляжу, потому что меня все за полчаса уже успели достать до печенок, и ты в первую очередь! И что, мне ты тоже посоветуешь к врачу сходить?
Я посмотрела на него. А может, сказать? Что ему не мешало бы сделать электрокардиограмму. Можно еще и магнитно‑ резонансную томографию головного мозга. Шеф так нехорошо краснеет, чуть только начинает кричать…
– Я, Вячеслав Иванович, думаю, что статью надо о нем дать. Я бы только слегка ее переписала.
– Да мы не пишем панегирики! У нас другой жанр, оптимистический! Мы не даем статьи в светлую память! Ты что, первый год работаешь? Никто не должен закрывать наш журнал с плохим настроением. Приятно, любопытно, не обидно, всем по заслугам, всё хорошо, а будет еще лучше – вот общая тональность. Ну что я тебе объясняю, как школьнице, в самом деле!
– Действительно, – согласилась я. – Тем более, что статья не получилась, он же сам о себе что‑ то написал и хотел, чтобы мы именно это и опубликовали, с фотографиями. А его настолько никто не знает, по крайней мере в России, что это не могло быть интересным. Даже за те деньги, которые он собирался проплатить нашему журналу.
И тут шеф проявил неожиданную проницательность. Или же я как‑ то выдала себя.
– А ты в каком смысле его давно знала? – вдруг спросил он. – В личном?
Говорить правду? Врать? Унижать себя, свое прошлое и уже покойного Сутягина?
– В разном, – ответила я. – Я пойду?
– Иди‑ иди! Про Геннадия Лапика готовь материал. Люди его любят, оказывается. Я‑ то не слушаю его, но рейтинги невероятные, говорят.
Я кивнула – спорить бесполезно. Вот смешно будет. Я напишу полное вранье – а не правду же писать, кому она нужна, в нашем приятном и оптимистичном жанре? Иногда я пишу вранье, лишь догадываясь, насколько далеко от правды то, что будут читать в моей статье об известном человеке. А тут знаю заранее.
– Что? Опять какие‑ то закавыки? Ты же с ним на радио вместе работаешь?
– Работаю. Я поняла задание. Хорошо. Он плохой человек, но я напишу об этом в оптимистичном жанре.
– Ой, ё‑ пэ‑ рэ‑ сэ‑ тэ!.. – Шеф одной рукой сильно стукнул себя по лбу, а другой стал от меня отмахиваться, как от чумной.
Все‑ таки годы работы в советских изданиях приучили шефа к существованию в закрытой капсуле формальной правды. Хотя кто сказал, что и сейчас мы все не запихнуты в одну большую капсулу, из которой вырваться можно только ценой собственной жизни и свободы?
Ведь самую большую правду обсуждать не принято. А как же все‑ таки практически в одночасье сломался огромный, тяжелый механизм нашего бывшего социалистического отечества? Кто его доломал? Кто те люди, кто все это знал заранее и успел приготовиться, успел первым добежать до бывших народных богатств и наложить на них руку? Откуда взялись те люди, которые правят нами сегодня? Они – кто? Кто сидел и решал, что вместо социализма, ради которого голодали три поколения, у нас теперь будут лавочники и миллиардеры? Кто тихонько, шепотом где‑ то постановил, что отныне вся наша земля станет большим лакомым праздничным пирогом, который можно растаскивать по кусками, продавать, из него – из сытного пирога – можно, не всем, некоторым, самым ловким, выковыривать все его изюминки и лакомые начинки? Что огромные просторы нашей страны будут незаметно заполняться людьми других вер, других рас, совсем других корней, которым негде жить у себя на родине или не за что получить свой кусок хлеба…
– Что? – красный и взбудораженный шеф и в самом деле выглядел плохо. – Ну что ты от меня хочешь, Борга? Открывай свой собственный журнал и пиши там любую правду, какую хочешь, понимаешь? Я не знаю, плохой или хороший Лапик, и мне на это наплевать, но я знаю, что люди его любят и он им интересен.
– Хорошо, я напишу, что смогу.
– Вот именно. Поперчи там, посоли… Ты же все знаешь, как надо. Да?
Я смотрела на усталого шефа, и мне даже стало его жалко.
– Конечно, Вячеслав Иванович. Это я так, не обращайте внимания.
Кто бы мог подумать. Профессия, много лет доставлявшая мне удовольствие и только удовольствие, стала меня тяготить. И чем? Несоответствием идеалу. Кшиштоф Занусси, великий польский кинорежиссер, как‑ то сказал: «Элита – это не те, у кого больше всех денег, как думают многие. Элита – это те, кто берет на себя ответственность за остальных, у кого сильнее всего стремление к идеалу».
Понятно, что он имел в виду и себя в том числе, и что говорил это в самом высоком смысле. Но в приземленной реальности ответственность за остальных чаще всего берут как раз не те, у кого сильнее всего стремление к идеалу, а те, кто хочет иметь как можно больше денег. А те, у кого очень сильное стремление к идеалу, как правило, раньше всех погибают или совершенно выпадают из общества, потому как идеалисты в обычной жизни крайне неудобны и даже опасны.
И в журналистике возможно стремление к идеалу. Но тогда нужно писать о простых, честных людях, об их победах и радостях, или, наоборот, тяготах и бедах. А еще лучше – о животных или научных открытиях. Можно, конечно, и о великих и знаменитых, но – как? Полируя и отряхивая пылинки с их прижизненных памятников или, наоборот, показывая во всей красе – с царапинами, сколами, ржавчиной, грязью? Как будет интереснее? И на кого ориентироваться – на тех, кому интересны тонкие душевные переживания публичного человека или его семейные неурядицы в подробностях? А если я пишу по заказу и по приказу, то я – лакей, а не художник.
– Борга! Вернись!
Я услышала голос шефа, уже закрыв к нему дверь.
– Да, Вячеслав Иванович?
– Значит, так. Верочка у нас оформлена младшим редактором. Но ты ее бери с собой везде и что там к чему показывай. Понятно?
– Ей бы на даче сидеть, свежим воздухом лучше дышать, Вячеслав Иванович.
Шеф как будто удивился:
– Да? А… Так, знаешь, это мы решим.
– Может, мне в «Науку и жизнь» перейти? Или в «Знание – силу»? – спросила я вслух то ли себя, то ли своего бедного, уставшего от всего и от всех начальника. – Есть еще такой журнал – «Новости науки»… Там, по крайней мере, врать не нужно.
– Ага, переходи. Вот про Лапика напиши, поярче и повеселее. И переходи. Давай. Скатертью дорожка! Если возьмут тебя с твоим характером. Врать ей надоело, надо же, смотрите, какая пионерка у нас нашлась… Иди пиши, всё как есть – про жуков, или молекулы какие‑ нибудь, или про что ты хочешь честно писать?
– Про то, на какие деньги был создан наш медиа‑ холдинг, например.
– Ага, напиши. До ближайшего угла не дойдешь.
– Тогда лучше про молекулы, – кивнула я. – За углом у меня еще много дел. Верочка на выданье и вообще…
Я не стала ждать реакции шефа, измученного разговором со мной, и побыстрее вышла из кабинета.
Не хочется впадать в мистику, но все же зачем мне была нужна эта встреча с Сутягиным? Чтобы вспомнить саму себя – другую, юную, влюбленную? Не вспомнила. Чтобы увидеть, какого неприятного человека я любила? Зачем? Перечеркнуть единственную любовь, которая была у меня когда‑ то в душе? Или для чего‑ то другого? Мне не давало покоя, что я не смогла убедить его срочно сделать операцию. Я должна была вмешаться и спасти его? Любой ценой? Так, что ли? А можно ли было его еще спасти? Не знаю, и никто теперь мне этого не скажет.
Наверно, я сама должна учиться жить по новым правилам – с теми правами и возможностями, которые мне теперь даны. И не даны. Я же никак не смогла убедить его. Мысль материальна, ощутима, но в качестве орудия воздействия слаба. Увы. А словам моим он не поверил.
Я поймала себя на том, что совершенно не переживаю. Ужас. Как странно. Конечно, я давно простилась с Сутягиным, даже не сразу его узнала. Но всё же. Меня никак не взволновала его смерть. Та часть меня, которая отчаянно любила Сутягина, умерла раньше него самого. Мне жаль его, как бывает жаль любого человека, не дожившего до старости, и все.
Несколько раз мне пришлось отбиваться от журналистов из самых глупых, самых желтых газетенок, по сравнению с которыми наш журнал – просто научное академическое издание. Один раз позвонили с того самого канала, по которому Сутягин рассказывал о том, что я каким‑ то мистическим образом навредила его здоровью. Но интерес прошел быстро – сам он никого не интересовал, потому что его никто раньше не знал. А что касается меня… Слухи все‑ таки просачиваются по каким‑ то странным, им одним свойственным законам. Вот вчера еще никто ничего не знал о том, что со мной случилось после аварии. А сегодня, стоило мне зайти к кому‑ то в редакции, или появиться на радио, или еще где‑ то, где меня хорошо знают, все замолкали и с любопытством начинали меня разглядывать.
– Борга, а ты можешь заговорить бородавку? – с ходу спросил меня Генка, как только на стене перед нами загорелось табло «прямой эфир».
– Смотря в каком она у тебя месте, – ответила я, удивляясь самой себе, как будто слушая себя со стороны.
Я такой здесь стала или меня за это и пригласили, а вовсе не за умение говорить правду, какой бы неудобной она ни была, выбирая при этом красивые, литературные слова? Я, нимало не задумываясь и не смущаясь, говорю пошлости на всю страну и прекрасно себя при этом чувствую.
– То есть, если место тебе покажется интересным…
– То есть, я не умею заговаривать бородавки.
– Уважаемые радиослушатели, – радостно потер руками Генка, вот сейчас он отыграется за все. – Сегодня у нас в гостях известный экстрасенс и парапсихолог, ведьма черной и белой магии… – Генка сделал эффектную паузу, почему‑ то думая, что он – один игрок на поле.
А я очень быстро тем временем продолжила, не давая ему вставить ни слова:
– Корделия Лиманс! Обещавшая заговорить Гене все бородавки и заодно вылечить всех желающих от других неприличных болезней. Но она застряла в пробке на Дмитровском шоссе. Вот как раз сейчас она звонит. Корделия! Корделия, вы в эфире, говорите! Ждем вас на передаче! Нет, к сожалению, связь пропала. А мы пока поговорим о других чудесах.
Я знала, что теоретически мы должны сегодня обсудить проблему, волнующую многих родителей, – как бы сделать так, чтобы ребенок получал хорошее, полноценное образование в школе, а при этом не сидел на стуле по 10–12 часов в день, не читал бы лишнего, не учил бы того, что абсолютно не нужно для развития интеллекта, и в пятнадцать лет четко осознавал бы, где его место в жизни, и легко делал выбор между физикой, журналистикой, медициной и торговлей.
Пока я на долю секунды замешкалась, Генка уже продолжил:
– Вот какая замечательная у меня все‑ таки соведущая. И какая у нее интересная фамилия. Нашим уважаемым слушателям интересно, а как же она произошла? От какого слова? Лика, почему у тебя такая фамилия? Вот у меня понятно – я приятный во всех отношениях, милый человек, поэтому я Лапик, – Генка произнес свою фамилию с искренней теплотой в голосе. – Ге‑ ена! Ла‑ апик! Ну а ты, милая? Из каких краев к нам занесло твоих предков, и чем они занимались? Ссужали деньги?
Я поняла, что Генка подготовился. Да, чем‑ то я очень его достала за время наших совместных эфиров. Хотя, казалось бы, надо только радоваться своему умному товарищу, тем более если работаешь с ним вдвоем.
– Если ты имеешь в виду немецкий глагол borgen, то он означает равно как давать в долг, так и брать взаймы. Но думаю, что ни borgen, ни Borgo – «деревня», к моей русской фамилии отношения не имеют.
– Ну, оно понятно, что в России живут одни русские, и дедушки у них были сплошь русские, и девушки у дедушек в основном были Параши и Маняши, – заржал Генка. – Поговорим об антисемитизме и других формах национал‑ шовинизма?
– По‑ русски Борга – это одно из старинных названий сильного ветра, дующего с моря. Бора или борга. Где как называли. Диалекты разные были.
– Да? – погрустнел Генка. – Крайне интересно. Про диалекты в особенности. Ну, тогда поехали дальше. Мне совершенно не нравится, сколько задают на дом семиклассникам. Какой смысл детям писать рефераты, точнее, скачивать их из Инета…
Мысли мои всё возвращались к маленькой Лизе. Но я физически не могла найти времени к ним поехать. Да и Герда не звонила. Я знала, что на самом деле очень боюсь. Боюсь неожиданной привязанности к маленькой девочке, боюсь, что не смогу помочь, хотя очень хочу. Боюсь, что вспыльчивая и своенравная Герда все повернет как‑ то по‑ своему. Столько всего боюсь. Значит, очень хочу вмешаться. Очень хочу снова почувствовать на своей шее маленькие, доверчивые пальчики, погладить тонкие, светлые волосики. Хочу, чтобы эта девочка, рожденная здоровой и нормальной, снова смогла говорить, смеяться, баловаться. Звоню сама? – Да, Лика. – Голос Герды звучал устало и обыденно. – Что ты хотела? Статья готова? Что‑ то мне ее пока не переслали.
– Перешлют, Герда. Она пойдет еще только через три номера.
– Фотографии хочу посмотреть, как получились.
– И фотографии вам покажут. Получились отлично.
– Хорошо, спасибо за звонок.
– Герда, подождите! Как Лиза?
– Что? А, спасибо, все нормально.
– Герда, я могу приехать?
– Можешь, конечно. А куда ты хотела приехать?
Да, очевидно, очень меня зацепила эта история, если я иду на такое.
– Хотела приехать к вам. Я обещала Лизе.
– А… Понятно. Лиза уехала с Лилей в Австрию. Я нашла хорошего врача. Извини, тут у меня другой звонок. Жду материалы!
И не боится ведь. Знает, чутьем все видавшей за сорок лет эстрадной акулы знает, что не буду болтать, что не буду писать о чудесах, происходящих в ее семье. Интересно, уехал ли Люсик? Навсегда ли уехал? Интересно, действительно ли Лизу увезли – тем более, с няней за границу? Из разговора я ничего не поняла и не почувствовала. Да и ладно. Ломиться в закрытую дверь не буду.
Глава 29
Уже некоторое время я знала, чего я очень хотела. Я хотела сесть рано утром в машину, очень рано, пока не выехали грузовики с бетоном, пиломатериалами и молочными продуктами, пока спят студенты, сдающие сейчас последние экзамены летней сессии, спят даже водители троллейбусов и дворники. Поехать по едва светлеющим улицам, минуя сонно мигающие желтым светом светофоры, выехать на МКАД, промчаться до нужного мне поворота, и там, никого не обгоняя, не перестраиваясь нервно из ряда в ряд, по пустому, свободному шоссе полететь в маленький город, где неожиданно я недавно на два дня выпала из жизни. Или, наоборот, вошла в какую‑ то жизнь, идущую параллельно с моей.
В ту жизнь, где я другая.
Где я с бешеной скоростью не перебираю пальцами по клавиатуре по четыре часа в день, сжав губы и запивая третью чашку кофе четвертой, забывая или не успевая пообедать.
Где я чувствую себя не только известной журналисткой, радиоведущей, хорошей подружкой, старшим товарищем Верочки, неудобным, но очень ценным сотрудником в штате нашего популярнейшего журнала, отличным водителем отличной машины, хозяйкой просторной современной квартиры с видом на новый Крылатский мост в стиле резвого техно. Глядя на этот мост, невозможно, например, читать классику или слушать на полном серьезе Шуберта. Нет, все уже не так. Другая жизнь. Человек, наверно, тот же, а жизнь, ее звуки, ее ритмы другие. В воздухе висят красные тонкие тросы, переплетаясь, поддерживая длинный, тоже красный мост. И по мосту денно и нощно мчатся машины. Красные и белые огни, как два живых, нервных потока, две пульсирующие нити, которые нельзя соединить, не убив их этим.
А я хочу смотреть из окна второго этажа двухэтажного дома на белый гладкий ствол старой березы, на то, как слегка раскачиваются ее раскидистые ветки, как будто говоря мне: «Не спеши! Не суетись, Лика! Осталось не так много жить на земле! Гораздо меньше, чем мне. Успей оглядеться на той земле, где ты жила, вряд ли будет другой шанс…»
Я хочу приготовить, никуда не торопясь, завтрак. Себе и кому‑ то еще. Я хочу проснуться не от электронной мелодии будильника, а оттого, что кто‑ то уберет мне спутавшуюся прядку волос со лба. Я хочу погулять по лесу с выключенным телефоном. Я вообще хочу не брать его с собой. И главное – я не хочу слышать больше чужих мыслей. Награда это мне или наказание за что‑ то – не хочу.
И вообще – мне тридцать восемь лет. Жизнь только начинается. Станет очень себя жалко – посмотри на соседку, которая на двадцать лет старше, и у которой, кроме одиннадцатилетней эрдель‑ терьерши с вытертыми боками и унылой, покорной мордой, никого на свете нет. Не поможет – посмотри на бабушку, которой несколько лет назад ее шестидесятилетний сын купил трехногую палку, и с тех пор эта бабушка все идет и идет по улице с этой палкой – два шага – минута, еще два шага – постоять, отдышаться. В тяжелом пальто на ватине, большой меховой шапке, сердитая, все идет и идет, потому что очень хочет жить… А я ною.
Вот сейчас мне надо быстро собраться и очень быстро, проталкиваясь в толпе машин, доехать до метро, посмотреть, движутся ли там машины в сторону центра. И если не движутся, машину бросить на обычном месте в чужом дворе, а самой помчаться на метро, не забывая посылать время от времени сообщения Верочке, чтобы та не перепутала, где мы с ней встречаемся. Потому что Новослободская – это не Новокузнецкая, и полпятого – это вовсе не 17. 30. А также напоминая ей, что на сборы у нее времени совсем не осталось и что там, куда мы идем, меньше всего кого‑ то будет волновать, насколько модно причесаны и одеты две журналистки. Пустили бы без проблем, и то ладно.
Верочка почти не опоздала, и мы пришли вовремя. Вовремя прийти на день рождения известного композитора – это значит застать всех знаменитостей трезвыми и еще интересными нашему журналу. В другом состоянии их обычно фотографируют для других изданий. А нам нужны причесанные, блестящие, красивые и аккуратные знаменитости, на которых приятно взглянуть, пролистывая наш приятный журнал в поисках интересной статьи или телепрограммы.
С платьем Верочка перестаралась. Как я ни убеждала ее, что для журналистов этикет другой, профессиональный, и журналист не только не обязан одеваться в Думу, как преуспевающий политик, а на вечеринку – как нарядный гость, она все же нарядилась, как подающая надежды артистка или дочка уже оправдавшей все и вся надежды звезды.
Вздохнув, я поправила ярко‑ синий бант на черном плиссе платьица, весело плещущегося на заметно округлившемся Верочкином животике, и поздоровалась со знакомым артистом:
– Привет, Вадик!
– Ты его знаешь? – порозовела Верочка.
– Успокойся, пожалуйста. Я тут многих знаю. Тебе бы очки темные надо было захватить.
– Чтобы меня не узнали? – удивилась она.
– Нет, чтобы не видно было, как ты глазами во все стороны вращаешь. Сейчас здесь соберется очень много известных людей. Не надо на них так откровенно пялиться, понимаешь? Либо нужно было тебе взять фотоаппарат, и тогда уж пялься на здоровье и с пользой.
– Я фотографировать не очень люблю, – честно сказала Верочка. – И не умею, – добавила она, вывернув голову назад.
Я смотрела на ее хвостик, свернутый в три ролика и заколотый большой красивой раковиной с блестящими камушками. А Верочка смотрела на очень высокую и нереально тонкую девушку, подхватившую маленького любимца публики – корявого, страшноватого и пошловатого шоумена, каким‑ то забавным образом попавшего на роль шута всея Руси. На год, на два – неизвестно, но сейчас он смешит миллионы людей, как столетия назад мог смешить бы короля и его свиту. Или развлекать триста человек, собравшихся на площади, чтобы посмотреть, как кого‑ то казнят, послушать, как кого‑ то милуют, просто поглазеть на знатных и недоступных – как они промчатся в золоченой карете… А сейчас в каждой квартире, где хотят вечером смеяться, появляется маленький смешной человек, строит рожи, кривляется, не жалея себя, и, наверно, имеет на это право, раз это радует столь многих уставших от работы, семейных неурядиц, безденежья и просто от монотонности жизни людей.
Я сфотографировала его со спутницей и без, и еще других разных, увидела, что Верочка с восторгом смотрит на известного спортсмена, пробующего петь, и танцевать, и играть в кино, сняла и его. И почему‑ то вдруг подумала о Славе Веденееве. Точнее, о его картине.
Я повесила картину Славы в своем большом бесполезном холле, который сделала, планируя квартиру, именно для того, чтобы в квартире можно было свободно ходить, ощущая свободу пространства и не задевая углы. И видела ее каждый раз, проходя по квартире. Большой Славин жук так неожиданно украсил мое жилище. И не просто украсил. Когда я даже мельком взглядывала на картину, мне всегда становилось как‑ то хорошо и приятно на душе, как в первый раз, когда я увидела ее у Славы.
Сегодня, просидев в задумчивости за столом у стеклянной стены на лоджии, думая о том, что что‑ то изменилось в жизни или во мне самой после поездки в Калюкин, и потом бегая из кухни в спальню, спеша на работу, я почувствовала, оказавшись рядом с картиной… Трудно объяснить что. Звук? Нет. Шорох? Нет. Какое‑ то неприятное дуновение? Нет, ничего такого. Но мне стало как‑ то не по себе. Я особенно не обратила на это внимания. Но вспомнила сейчас, увидев чем‑ то напомнившего мне Славу знаменитого спортсмена. Надо вечером обязательно посмотреть на картину еще раз, повнимательнее.
Нужный мне артист никак не появлялся, поэтому я пока фотографировала всех и вся, тем более что делать это было одно удовольствие. Большинство из присутствующих были как будто заранее готовы к фотосессии, и выбрать хороший и интересный ракурс труда не составляло.
Я оглянулась и не увидела Верочку. Только что она была рядом, и я еще чувствовала тонкий, но устойчивый запах ее ванильных духов. Я несколько раз щелкнула группку стоящих передо мной популярных этой зимой певичек и пошла по полутемному залу клуба, пытаясь найти Верочку.
Сначала я увидела его. Верочка не показывала мне фотографии своего любимого и не рассказывала, какой он. Но я сразу поняла, что стоящий вполоборота ко мне вальяжный, довольно приятный, гладкий человек – это и есть Елик. С ним была, очевидно, жена – молодая и тоже вполне симпатичная особа. А напротив, у большой квадратной колонны, подпирающей потолок бывшего подвала бывшей карамельной фабрики, где теперь расположился модный дорогой клуб, стояла в полуобмороке Верочка и не отрываясь глядела на своего Елика.
Синий бант под ее грудью сбился набок, тонкими ручками Верочка нервно и очень выразительно крутила переливающуюся всеми цветами радуги длинную сумочку, похожую сейчас на какое‑ то диковинное оружие из фантастического блокбастера, – вот сейчас она покрутит‑ покрутит этой сумочкой, и раздастся хлопок, и появятся разноцветные молнии, пронзающие насквозь Елика и его красивую и всем довольную жену. Понятно… Я побыстрее подошла к Верочке, чтобы прервать ее фантазии и чтобы она действительно не стала стрелять чем‑ нибудь из своих подручных средств защиты в Елика.
– Это он? – спросила я.
Верочка, ничуть не удивившись, кивнула.
Это был и вправду тот самый Елик, какой‑ то финансист, непонятно на чем разжившийся, которого я встречала на разных светских сборищах. А запомнила именно потому, что услышала чудно´ е имя. Елика назвали Елизаром лет тридцать пять назад, когда детям крайне редко давали еще древнерусские имена и на пять первоклассников не было три Насти и две Полины, или два Данилы и три Егора. И уж мальчиков по имени Елизар в поколении тридцатилетних точно один на сто тысяч, а то и меньше.
– Лика! – меня окликнул знакомый фотограф из другого журнала.
Я оглянулась, чтобы помахать ему рукой, и тут Верочка шагнула вперед и громко сказала тонким неуверенным голоском:
– Привет!
В шуме прибывающих и тут же начинающих праздновать гостей ее расслышала одна я. Я шагнула за Верочкой и аккуратно взяла ее за локоть. Взяла и… отпустила. А почему, собственно, я решила, что имею право вмешиваться? Ведь для Верочки это поступок. Глупый, неправильный, но она же должна совершать какие‑ то осознанные поступки, а не только плакать в съемной квартире. Я чуть отступила в сторону.
Верочка подошла еще ближе к Елику, разговаривавшему сейчас с каким‑ то толстым и крайне самодовольным человеком, кажется сильно поправившимся известным певцом, – то‑ то его не видно в последнее время. Правильно, нельзя показываться любящей публике в таком виде, надо сначала любым способом стать похожим на себя прежнего…
– Елик, здравствуй! – Верочка, вытянувшись в струнку, встала прямо перед Еликом, даже чуть оттеснив в сторону растолстевшего певца.
– Вы мне? – спросил Елик, и я, наконец, разглядела его глаза.
Точно – как мне раньше и казалось, ничего симпатичного в нем нет и быть не может. С такими водянистыми, пустыми глазами. Куда только смотрела Верочка? Уж точно не в эти глаза…
Я успела встретиться с ним глазами и поймать его страх. Не сильный, не панический, но довольно внятный. Может, все‑ таки вмешаться? Если бы мне не было так жалко Верочку, сама не знаю почему, я бы могла сфотографировать сейчас их троих – Елика, жену и Верочку. Певец, по‑ прежнему стоящий рядом, как раз не влезал в кадр. И дать фотографию с вечеринки – известный в узких кругах финансист с молодой беременной женой и совсем юной и тоже беременной, любовницей.
А собственно, почему нет? Это же не Верочка его фотографирует?
Я подошла и сделала несколько кадров.
Елик нервно повернулся ко мне:
– Что такое?
Я пожала плечами, просматривая получившиеся фотографии:
– Медиахолдинг «Нооригмы». Вы же вышли в свет, Елик? Вот и будьте готовы к публичности.
Верочка, не понимая, хорошо или плохо то, что происходит, взглянула на меня, набрала воздуху и сказала:
– Елик, что же ты мне больше не звонишь? И не берешь трубку?
– Елик, это что такое? – наконец подала голос его жена.
– Это… это ошибка, – проговорил Елик, пренеприятно показав зубы в подобии улыбки, и постарался ретироваться.
– Нет, Елик, это не ошибка, – неожиданно пошла ва‑ банк Верочка. Может быть, от присутствия соперницы, может быть, подсознательно чувствуя, что другого шанса у нее не будет. – Я жду ребенка, Елик, ты же знаешь. А ты даже не хочешь узнать, как я себя чувствую и кто должен у нас с тобой родиться.
Да, забавно. Лучшего места для подобного разговора, чем светская вечеринка с аккредитованными журналистами из известных изданий, не придумаешь. И хотя Елик в очень малой степени мог бы заинтересовать наших читателей, а значит, и наш журнал, все равно попасть на страницы прессы в качестве неизвестного гостя, устроившего потасовку с беременной любовницей на дне рождения известного певца, он вряд ли захотел бы.
Чтобы Елик в панике не забыл о том, где он находится, я еще щелкнула в разных ракурсах их группу. Растолстевший певец к тому времени уже потихоньку ретировался, зная, что веселого в подобных разговорах мало.
– Да уйди ты отсюда! – попробовал махнуть на меня рукой Елик.
Я покачала головой и с удовольствием сняла рассерженного Елика. Не для журнала, так Верочке пригодится фотография. Мало ли как жизнь потом повернется, сколько фотографий папы останется у нее для малыша… А может, смеяться когда‑ нибудь будут вместе счастливые родители, вспоминая, как непросто шли к своему счастью.
– Так, давай пойдем отсюда, – наконец нашел самый верный путь Елик и попробовал увести свою жену, до этого молчавшую.
– Нет уж, дорогой, пусть она все скажет, что хотела, – неожиданно подала голос жена.
– Я жду ребенка от Елика! – повторила Верочка, и я вдруг почувствовала, что запас смелости и сил у нее подходит к концу.
Верочка глубоко вздохнула и отступила назад. Вот и все, и весь ее поступок. Теперь плакать и до бесконечности думать, как бы развивались события, если бы не эта случайная встреча.
– Это не мой ребенок, я ее не знаю, я тебе все объясню, дорогая. Просто есть такие девушки, которые находят богатого человека и объявляют ему, что они от него беременны. Это известная шутка. Она думает, что я такой идиот и на это куплюсь. Я ее вижу первый раз в жизни, понимаешь? Что тебе надо? Как тебе не стыдно? Иди туда, где тебе помогли сделать такой живот, ясно?
Елик, конечно, перестарался. Говорил он тихо, со стороны могло бы показаться, что мы четверо обсуждаем что‑ то серьезное, но вполне мирное. Жена для верности взяла его твердой рукой чуть выше локтя. Правильный психологический жест. Так берут провинившегося ребенка, чтобы не зарывался дальше, чтобы чувствовал, что за то, что уже сделано, спуска ему не дадут и никуда больше не отпустят в ближайшее время. Мне хорошо была видна небольшая грудь жены Елика и ее совсем плоский живот, обтянутый кремовым шелковым платьем. А где же, собственно, ее критический срок беременности, на котором ее нельзя волновать, как Елик объяснял Верочке еще месяца полтора назад?
Верочка же набрала полную грудь воздуха, полные глаза слез, вся покраснела, поднесла руки к медленно открывающемуся рту – видимо, чтобы помешать себе самой зарыдать в голос. Я шагнула к ней и обняла ее.
– Тихо, пожалуйста. Не здесь. Слушай, – обратилась я к Елику, который уже повернулся, чтобы уйти. – Какая же ты свинья, в самом деле! Если ты хочешь отделаться деньгами, прибавь два нуля к той сумме, о которой ты сейчас подумал. Это же твой ребенок, он не должен хлебный мякиш сосать, правда? А жена твоя, кажется, и не беременная? Зачем ты Верочке врал?
Я поймала бешеный взгляд Елика.
– Нормально, нормально! Ты все правильно понял! Твой ребенок должен будет носить твою фамилию и иметь все, что нужно. Это самое малое, что ты можешь сделать для него в этой ситуации.
Мне показалось, что Елик хочет бросить в меня чем‑ нибудь тяжелым. Например, подносом с коктейльными бокалами, который как раз мимо нес официант в золоченой жилетке. Елик протянул к нему обе руки, а официант очень ловко в одну из рук вставил высокий бокал.
Елик постоял с этим бокалом, потом резко выпил его и поставил куда‑ то вбок, где ничего не было. В шуме голосов звон разбившегося бокала был слышен очень слабо. Но откуда‑ то тут же появилась уборщица в красивом темно‑ синем сарафане, с белым кружевным воротником, и, не поднимая на нас глаз, мгновенно убрала осколки.
– Пойдем, на сегодня достаточно, – я взяла под руку Верочку и отвела ее в противоположный угол. Усадила на высокий стул у барной стойки и пододвинула ей корзиночку с засахаренными орехами. – Ешь.
– Я хочу домой, – сказала Верочка и стала плакать.
– Водички дайте нам с лимоном, – попросила я бармена. – И последите, чтобы девушка не упала со стула. Сиди! Никуда не уходи! Сейчас с очень известным артистом к тебе подойду, поняла? С Вадиком, которого мы вначале видели, хорошо?
Как ни странно, Верочка согласно кивнула и даже слабо улыбнулась.
Отпустить Верочку я не могла, уйти с ней – тем более. Да и какой смысл был Верочке оказываться сейчас в одиночестве съемной квартиры, где она по‑ прежнему жила и ждала Елика? Думаю, ее родители как‑ то по‑ другому смотрели на всю эту ситуацию, обманывая себя и других. Может, надеялись на порядочность Елика. А может, как раз на его беспорядочность в подобных вопросах. Пожил там в законном браке – пусть поживет и с их дочкой. По крайней мере, будет в ее биографии законный муж и законный ребенок. А как его иначе подманить? Не угрозами же. Разве что ожиданием, готовностью в любой момент усладить и приятно развлечь. Вдруг что‑ то в нем переломится, и он останется с Верочкой навсегда, точнее, на какое‑ то время. Ужасно, конечно, но надо же как‑ то выпутываться из этой ситуации…
– Ты мне как сестра, Лика, – всхлипнула Верочка, когда я подошла к ней в очередной раз на минутку. – У меня никого нет…
– Ты мне тоже как сестра. А у тебя есть мама и папа. Они тебя очень любят. Сиди и смотри по сторонам. Как в телевизоре, интересно же! Смотри, сколько известных людей, все такие красивые. Сейчас все соберутся наконец, и начнется самое главное. Все будут поздравлять именинника, петь, дарить подарки.
– А мы? – спросила Верочка, разглядывая диковинный костюм стоящего рядом певца. Его костюм был стилизован в духе африканской религии Вуду – с яркими вставками, свисающими зубами каких‑ то зверей, обрывками другой материи, пришитыми в беспорядке то здесь, то там.
– А мы будем это все фотографировать и возьмем одно интервью. И запоминать, если что‑ то интересное произойдет. Все, сиди, никуда не уходи.
– Спасибо, Лика, – Верочка приподнялась и поцеловала меня в щеку.
Надо же. Я почувствовала тепло от девушки и настоящую благодарность. Хорошо, если ей в моем присутствии действительно становится менее одиноко.
Глава 30
Я вспомнила про Славиного жука, еще открывая квартиру, и, скинув туфли, сразу подошла к картине. Около картины мне стало тревожно, не более того. Я не могла сказать, что именно меня тревожило. Я попыталась подумать о Славе, но ничего не надумала. Рассмотрела жука повнимательнее. Темно‑ золотистый панцирь с еле заметными тонкими перламутровыми полосками, огромные антрацитовые глаза, которые Слава с мастерством голландца XVII века написал блестящими и поглощающими свет. В них не заглянешь, как не заглянешь в глаза настоящему жуку, у него же обзорное зрение. Человеческими глазами не посмотришь жуку в глаза.
Ничего… Я налила себе чаю и села на лоджию за свой стеклянный стол у стеклянной стены, в очередной раз вдруг подумав, почему я всегда сажусь у окна и почему в последнее время меня так тянет заменять привычные предметы – деревянные, пластиковые – прозрачным стеклом. Прозрачный стол, прозрачные стулья, прозрачные раздвижные двери, прозрачная, как будто отсутствующая стена…
Мне хочется видеть все насквозь? Мне мало того, что я заглядываю людям в их сокровенные тайники души, куда и сам‑ то заходишь по большим праздникам? Или же наоборот, я хочу предельно объединиться с окружающим меня миром, чтобы не затеряться в своей маленькой коробочке, где меня никто не зовет по имени, не просит налить чаю, купить игрушку, завязать бантик, требовательно не спрашивает, люблю ли я его. В моей маленькой коробочке, где меня никто не любит. Трогательно! Ужасно жалко себя, уже не в первый раз за последние дни. С этим надо что‑ то делать, потому что с этим жить ненормально.
Я перестала думать о Славе и его нарисованном жуке, допила чай, просмотрела в камере фотографии, которые успела сегодня сделать, некоторые получились забавными. Позвонила маме, у которой не была уже больше месяца, ответила приятельнице, звавшей меня на воскресные шашлыки на дачу, набрала Верочкин номер, практически уверенная, что Верочка выключит телефоны в надежде, что Елик позвонит и разволнуется, почему она не отвечает, и, может, приедет…
И вдруг я поняла. Два молодых человека. Один очень высокий, странноватый на вид, с очень характерной походкой. От своего высокого роста он как будто все время покачивался вперед, словно у него был нарушен центр тяжести. Другой совсем обычный, никакой. Они что‑ то хотят забрать у Славы… Что именно? Какой‑ то свёрток, бумажный… Нет, наоборот. Они хотят отдать ему этот сверток. А ему точно брать его не надо. Почему? Что там такое? Что они хотят? Но от этого свертка исходит какая‑ то опасность, что‑ то тяжелое, неприятное, как едкий желтый дым, наполняющий комнату… Я от неожиданности закашлялась.
Так, и что мне делать? Как предупредить Славу непонятно о чем? Допустим, я сама себе верю – после всех странностей последнего времени. А как отреагирует Слава?
Я посмотрела на часы. Что может делать в первом часу ночи депутат Госдумы и олимпийский чемпион Слава Веденеев? Что угодно. Это абсолютно личное время. Может, подождать до утра?
Я пошла в ванную умыться, смыть незамысловатые краски, которые наложила на лицо, чтобы не очень выделяться обычной бытовой бледностью от пестрой блестящей толпы звезд и их свиты, веселившихся сегодня в клубе.
Проходя мимо Славиной картины, я почувствовала как будто сильный толчок в спину и в грудь. У меня даже перехватило дыхание. Я не понимаю… Славу избили? Собираются избить? Две вещи… Две вещи, которые он должен сделать… Или не делать… С кем‑ то вместе что‑ то не делать… Не голосовать, видимо… Наверно, фантазирую уже, потому что не могу понять главное. Не ходить… нет, не понимаю… Не брать этот сверток, там деньги… плохие деньги… Хотя Слава уж как‑ то разберется без меня, брать ему деньги или не брать. Но там очень плохие деньги, меченые, что ли… Не понимаю… Что‑ то мутное, сиюминутное, какие‑ то игры взрослых, глупые, но опасные…
Помня реакцию бедного Сутягина, я решила со Славой разговаривать очень аккуратно. Верить мне он не обязан. Тем более, я не знаю ничего конкретного.
Я быстро написала ему: «Перезвони, если не спишь. Лика».
Слава не звонил. Я попробовала уснуть, но в голову лезли мысли, разгоняющие сон. Плохо, что мне не с кем обо всем этом поговорить.
Почему церковь так плохо относится ко всем проявлениям человеческой психики и способностям человека, находящимся за гранью понимания? Сегодняшняя церковь, пользующаяся всеми достижениями науки и техники. Хорошо, что я не дождалась тогда священника. Пришла я в церковь от растерянности и беспомощности, как приходят многие. Я часто слышу рассказы, как вчера еще неверующие люди, воспитанные в другом обществе, пришли на службу в минуту, когда прийти больше было некуда. Но церковь – в лице священника – не будет разбираться в твоих проблемах. Разобраться в них ты должен сам. В церкви скажут как надо и как не надо. Куда идти. И уж изволь пройти этот путь самостоятельно. Это мудро, это трудно. И это не уберегает от ошибок и грехов, увы.
Я посмотрела на фигурку лошадки в разноцветной попоне, которую привезла с собой из Калюкина. О чем он думал, делая эту лошадку, он, взрослый, серьезный человек? О лошадках? Или о чем‑ то еще? Я взяла телефон и набрала номер Климова. Пока не успела передумать. Спрошу про лошадку, к примеру, как ее зовут.
– Лика?
Это его голос? Конечно, я же ни разу не разговаривала с ним по телефону. И не слышала уже – сколько? – три недели или больше?
– Привет… Я… – Я в растерянности замолчала.
Он как будто удивился моему звонку.
– Как у тебя дела? Я рад тебя слышать.
– И я рада. Все хорошо. Как у тебя? Как Пятьдесят Второй?
Климов почему‑ то вздохнул и, мне показалось, улыбнулся.
– Приезжай на выходные. А, как?
Он это сказал или мне захотелось услышать?
– В выходные у меня эфир. Я же веду передачу на радио.
– Да, я помню.
– Ты пишешь дальше сказку?
Ужасно, я и не думала, что так мучительно и странно говорить по телефону с человеком, с которым… Впрочем, ладно. То, что у других получается весело и просто, у меня вышло тяжко.
«Приезжай! Приезжай навсегда и оставайся! Здесь будет твой дом, семья, тебе будет с кем поздороваться утром и с кем порассуждать вслух о странностях и сложностях бытия. Рядом буду я, и я буду смотреть на тебя с любовью и нежностью. Ведь именно этого тебе так недостает в последние тридцать восемь лет твоей жизни? »
Мне хотелось, чтобы он сказал так? Так или почти так.
Но Климов сказал что‑ то другое. Про холодный июнь, про красивые поздние закаты на озере, которые он снимал на этой неделе. И еще я услышала то, чего он не говорил.
Он хочет куда‑ то поехать, не то чтобы рвется, но очень хочет. Что‑ то его зовет. Позвало после встречи со мной. Но не я. И не Москва. Что‑ то другое. А что – я не успела понять. Потому что мы поговорили и попрощались. Ни на чем. Я не поняла, пригласил ли он меня приехать. А он больше не вернулся к этому. А мне‑ то ведь хотелось, наверно, чтобы он только об этом и говорил. Я уж думала – ехать, не ехать, все бросать или нет, и есть ли у меня что бросать в Москве. Кроме квартиры с видом на мост, похожий на архитектурно‑ поэтическое воплощение выражения о натянутых человеческих нервах, кроме эфиров с хулиганистым и поистрепавшимся Генкой Лапиком и моей работы – наверное, интересной и престижной, и еще крайне глупой. С точки зрения вечности.
На следующий день с утра я проснулась от звонка. Взяла трубку. Климов помолчал и сказал:
– Доброе утро. Я тебя не разбудил?
– Нет, – ответила я и только тогда проснулась.
Мне никто не звонил. Это я сама позвонила себе во сне. Моя голова позвонила моей душе, которой, по всей видимости, очень недостает чего‑ то важного.
Душа хочет любить и быть любимой – и никто не знает почему. И дело не только в продолжении рода. Тот, кто род уже продолжил, по‑ прежнему хочет быть нужным и любимым, до самой старости, до самого холодного и неотвратимого нечто, куда мы ступаем каждый в свое время, осознавая, что уходим. Жесточайшая придумка, честное слово.
А голова хочет все понять – почему так устроен мир, кто его так устроил, что есть этот кто‑ то, где он, как к нему достучаться, как понять его законы – ведь они есть?
Иногда мне кажется – а может, я не смогу выдержать тяжесть этого знания, даже если оно мне откроется? Может, самое главное и остается тайной для человека, потому что приятнее придумать себе такое начало и конец мира, такую историю рода человеческого и себя в нем, в которых можно ощущать себя вершиной творения Создателя. И это уже кто‑ то сделал до нас, кто‑ то, зная другую правду…
Мне кажется, человек будет доискиваться до тайны своего Создателя до тех пор, пока ее не разгадает. Главное, чтобы в конце не ждало полное разочарование. Чтобы человек не оказался результатом чьей‑ то игры… Или шутки. Или равнодушного, корыстного умысла.
Кто такой человек? Самый хитрый хищник на свете, подчинивший себе природу – живую и неживую, и кичащийся этим? Сам себя объявивший вершиной творения. А может, наоборот? Человек – самая обидная и страшная ошибка Создателя, или, если угодно, создателей? Как только начинаешь думать о боге во множественном числе, сразу становится неуютно и страшно в огромном космосе.
Какие же это боги во множественном числе? В гору Олимп и ее обитателей верится с трудом. Что имелось в виду в Ветхом Завете под словом «боги» – а именно так, во множественном числе, употреблено слово «элогим», которое мы переводим сегодня как «Бог», – тоже никто точно не знает. То, во что хочется верить человеку последнего тысячелетия, – что‑ то непознаваемое, загадочное, всемогущее, скорее, сила, чем существо с руками и ногами. Хотя мы же созданы по образу и подобию – так написано в настольной книге христиан, по крайней мере. Боги всех мировых религий имеют имя, внешность и судьбу.
Стоит чуть отойти в сторону и взглянуть на историю человечества хотя бы нескольких тысячелетий – на то, что как‑ то известно, письменно зафиксировано, объяснено, сформулировано, – и истинной, интуитивной, нерассуждающей религиозности остается все меньше и меньше. Меня всегда удивляют начитанные, прекрасно знающие историю, философию и несколько иностранных языков священники. Как же они могут безоговорочно верить, так много зная? И еще больше удивляют верующие биологи и физики.
Правда, одна доктор биологических наук как‑ то сказала, что, выпив чашу познания до конца, на дне её можно обнаружить Бога и только Бога – настолько совершенно создано и до конца неподвластно человеческому уму все сущее – от снежинок до тайн ДНК. То есть для физиков и биологов Бог – это не творец и координатор морального закона, в первую очередь, а сами законы физического мира, точнее, их средоточие в какой‑ то точке…
Нет, не понимаю. И не понимаю, и мало верю. И сильно не надеюсь на помощь. Столько раз просила – о чем‑ то своем, наверно, очень маленьком. И почти никогда не получала. О том ли просила?
Как приятно создала меня природа вместе с моими родителями, наделив способностью рассуждать. Когда становится тоскливо и одиноко, я, как правило, начинаю рассуждать о чем‑ то далеком, большом, том, что гораздо больше моей собственной жизни, о том, что было до нее и будет после. Глядишь, и собственное одиночество растворяется в огромном космосе вечных и неразрешенных проблем человечества.
Итак, Климов куда‑ то хочет ехать. Ведь не приснился же мне вчерашний разговор? Мне приснился только сегодняшний. Кажется… А я… Я хочу поехать к нему. Похоже, я очень устала от суеты своей жизни. И еще я устала от одиночества. Я устала от того, что никто, ни один человек на свете не зовет меня теплым и родным «Ликуся», как звал когда‑ то папа, что никто не чмокает меня в щеку перед сном, никто не будит утром, никто не ревнует, не требует внимания, никто не ждет от меня подарков ко дню рождения и не делает подарков мне…
Да, я еду в Калюкин. Не рассуждая, не сбивая саму себя многословными отвлечениями от самой главной темы. Я, кажется, влюбилась. И совершенно не хочу себя разубеждать в этом.
Пятнадцать минут ушло у меня на то, чтобы собрать сумку. Десять – чтобы убедить мгновенно разъярившегося шефа, что мне нужен срочный отпуск и желательно подлиннее. Отпуск я получила на три дня, но про себя подумала – если что, задержусь. Вот останусь и всё, под любым предлогом. Возьму справку… Насморк, простуда, гипертония…
Кажется, я сошла с ума. На моем месте хотели бы очутиться тысячи молодых и не очень молодых журналистов. А я собираюсь добровольно отказаться от него. Ведь собираюсь? Иначе зачем я положила в сумку фотографию папы, красивое вечернее платье и осенний шарф? Я собираюсь остаться в Калюкине навсегда?
Да, собираюсь. Всё. Точка. Я устала быть одна. Я встретила человека, с которым могла бы жить оставшуюся часть жизни. А он? Разберемся на месте. Никаких сомнений сейчас не будет.
Папа когда‑ то учил меня принимать важные решения, не раздумывая. Раздумье – трусость, говорил он. Он, который лет пятнадцать раздумывал, стоит ли ему попробовать предложить свои открытия и проекты куда‑ нибудь за границу, раз они здесь никому не нужны. Да так и не предложил. А я, быстрая на решения, чему бы стала учить своих детей? Не поступать опрометчиво и не рубить сплеча?
Я вышла из квартиры со странным ощущением – я покидаю ее надолго. Поскольку она не стала еще по‑ настоящему моим домом, то и ощущение это было скорей приятным. Строманте, пустившей листик, я поставила бутылку автополива. Недели на три хватит. А за это время все как‑ то решится…
Лифты пришли сразу, два из трех. Внизу мне встретилась самая симпатичная соседка, чью тревожно‑ радостную мысль я тут же уловила – у соседки намечалось свидание, долгожданное, приятное…
– Удачи, – улыбнулась я ей, и соседка радостно кивнула в ответ.
Дорога от дома была мне открыта. Светофоры переключались на зеленый при моем приближении, машин было на удивление мало, нигде поперек дороги не стояла авария или заглохшая «Газель», не обесточивались некстати троллейбусы и не затевался ремонт дороги. Как будто мне открыли «зеленый коридор», вот уж точно. Зеленый коридор от моего дома, так и не успевшего стать родным, к чужому, манящему и неожиданно нужному. Добраться до МКАДа, побыстрее протолкнуться до Ярославки, терпеливо проехать первые тяжелые пятнадцать километров, а там уж…
Я включила радио, что делаю в машине крайне редко, именно потому, что не люблю передач вроде той, что веду сама. Но сейчас я постаралась найти волну с обычными, нормальными новостями. Все‑ таки я же не собираюсь выпадать из жизни насовсем. И праздничное платье я не зря взяла, оно мне пригодится для семейных праздников (семейных? ого… что ж, голова опять подсказывает то, чего хочет душа, это ясно). Но я же не в тундру еду, и не на Аляску, и не на острова, затерянные в Тихом океане. Что тоже было бы неплохо. Но только с Климовым.
Как приятно задать себе прямой и правильный вопрос и честно на него ответить. Хотя иногда это и есть самое трудное. Годами не можешь не то что ответить, а спросить себя: «Чего ты на самом деле хочешь? » А ведь тот, кто спросил и ответил, живет гораздо проще. Но ответ может оказаться таким болезненным. Ведь часто мы хотим невозможного. Это невозможно, а мы продолжаем хотеть. И все душевные силы уходят на подавление этого желания. А оно живет где‑ то глубоко внутри и в самые неподходящие моменты напоминает о себе. Когда тебе и без него плохо. Или во сне.
Вот мне то и дело снится, что я в своей старой квартире. Что‑ то делаю, собираю какие‑ то вещи или открываю дверь, а там стоят давно забытые институтские друзья. Или папа, с букетом цветов и тортиком. Именно так он пытался навещать меня, когда я была маленькой. Что мне эта старая квартира? Я ее продала, заплатила кредит за новую, большую. Живу теперь, как королева, одна на семидесяти метрах. У меня есть огромная лоджия, удобная гардеробная, просторный холл с книгами и картинами. У меня есть спальня и гостевой туалет, вдобавок к моей личной ванной комнате. Внизу в доме сидит охранник, и пол в моем подъезде моют три раза в день, чтобы в мраморном полу отражалась довольная жизнью я, в частности.
А мне снится старый дом, моя крохотная квартирка с сидячей ванной и метровой прихожей. И во сне я чувствую себя дома. Мне хорошо, спокойно, как бывает только дома. Русский ли народ придумал особую миссию родных стен, или так чувствуют и другие? Но уж точно не легкие на переезд в лучшую жизнь американцы, не те миллионы рациональных европейцев, которые, чуть разбогатев, снимают жилье получше, а потом еще получше… А также не кочующие оленеводы и не миллионы нищих китайцев и индийцев, живущих в домиках из картонных коробок.
И во сне я почему‑ то не знаю, что у меня уже нет ключей от той жизни, от моей старой квартиры, что у меня теперь новый дом. Значит, у моей души нет пока нового дома, я так понимаю. И она рвется назад, домой. А ее не пускают. И во сне я не знаю, что папы давно нет. Значит, для моей души это несущественно – его физическое пребывание на земле. Она продолжает любить его и скучать о нем.
– …совершено нападение на известного спортсмена, олимпийского чемпиона…
Я услышала что‑ то невероятное по радио и быстро сделала громче. Слава Веденеев? Да нет, не может быть. Я же не могла… Конечно! Я же что‑ то смутно видела, не понимая точно, что именно, стала ему дозваниваться, не дозвонилась и бросила, занятая своими личными переживаниями.
– …сейчас Вячеслав в тяжелом состоянии находится в больнице. Милиция уверена, что преступники, тяжело ранившие спортсмена и похитившие у него медали и деньги, будут в скором времени найдены…
Вот оно что! Кто‑ то готовил нападение на Славу! Я пока толком не знаю, как оно было осуществлено, но оно совершилось! А я не смогла ничего сделать. А что я могла? Я не знаю, как управлять моим даром, я вижу только то, что вижу, ничего больше. Я могла и хотела предупредить Славу, что какие‑ то смутные личности намереваются то ли взять, то ли дать ему какой‑ то сверток, и от этого будет очень плохо. Не думаю, что на Славу мои слова произвели бы хорошее впечатление…
Ой‑ ёй, кажется, мой дар стал приносить мне неожиданные неприятности. Теперь я как будто причастна к тому, что случилось со Славой. Может, мне пойти к кому‑ то из хорошо известных колдунов и попросить научить толком пользоваться этой неведомой мне ранее способностью? Это уже обсуждали, это ерунда. Так. По крайней мере, надо сообщить приметы преступников в полицию и постараться сделать это так, чтобы мне поверили и не сочли сумасшедшей или шарлатанкой.
Я выключила радио и уже с меньшим энтузиазмом стала пробираться к МКАД по привычно переполненным в будний день улицам. Авария, еще авария. Мальчишка лет девятнадцати выехал на тротуар, смел рекламный щит и помял две припаркованные на тротуаре машины. Парковаться на тротуаре нельзя, ездить по нему тем более. Интересно, куда он спешил? Встал рано, в спешке натянул узенькие, смешные спущенные штанишки, еще и голову залил гелем, зачесал наверх редкие светлые волосики… Очень спешил, но все же выправил из‑ под штанишек полосочку белых трусов, на широкой резинке которых четко пропечатана знаменитая фирма одежды. Что будут показывать миру дети вот этих детей, ведь каждое последующее поколение становится все более и более откровенным в своих диалогах с миром?
Господи, почему многое в нашей сегодняшней цивилизации кажется мне признаком ее заката? Потому что я слишком много знаю, читала лишнее? Читала, что у всех цивилизаций был период расцвета и заката? Что есть неоспоримые признаки вырождения человека и общества, во внешности людей, в том, чем занято общество и каждый в частности?
Хотя сегодня для этого и читать много не надо. Включи телевизор, услышишь и про грядущую гибель цивилизации, и про поворот оси Земли, и про предначертанный и рассчитанный еще далекими предками апокалипсис, сроки которого известны беспокойным мистикам и астрологам… А послушай порой нас с Лапиком, так поймешь, что конец света уже наступил, только мы его не заметили, живем уже по ту сторону – думаем, что живем…
Я резко затормозила, не доехав буквально сантиметра до вдруг остановившегося передо мной как вкопанного светлого Лексуса. Хорошая машина, большой дорогой внедорожник, имеет право на капризы на дороге – так, наверно, думает хозяин. Из машины вышла сильно обтянутая офисным костюмчиком средне молодая женщина и процокала на каблучках к багажнику, чтобы убедиться, что я ее не задела. Как, интересно, она водит машину на таких каблуках?
– Коза! – она подошла к моему полуоткрытому окну. – Ездить научись! – Хозяйка Лексуса еще сказала несколько матерных слов и даже потрясла перед моим носом остро пахнущим ванилью и еще чем‑ то горьким кулачком. Я успела заметить длинные красные ногти с нарисованными на них черными и серебряными затейливыми веточками и толстое обручальное кольцо.
Я только пожала плечами и закрыла окно. Вот то, что мешает мне жить в сегодняшнем дне и радоваться, что я родилась в конце двадцатого века. Когда прошли войны, когда появились фантастические средства связи и передвижения. А человеческая глупость и хамство остались. Так какая мне разница – вываливаю я по утрам помои из окна на улицу или аккуратно завязываю целлофановый пакетик с мусором и выбрасываю в мусоропровод, который регулярно моет хлоркой дворник Файзулла, который живет в подвале моего дома и ненавидит меня так же, как вонючий мусоропровод, в который мои преуспевшие в жизни соседи не гнушаются порой выливать недоеденный гороховый суп?
Какая разница – пью ли не имеющую вкуса фильтрованную воду из специального тонкого краника или тащу два тяжелых ведра ледяной, сводящей зубы водицы на собственных плечах? Сижу ли я одна в новостройке с панорамным остеклением или в чистом поле… Разве это меняет главное?
Суть человеческая остается той же. Так же становится больно от жестокости и несправедливости жизни. Так же болит душа, так же не хочется думать о плохом, смотреть на неприятное, так же хочется надеяться и верить, что самым немыслимым мечтам суждено сбыться.
Так. Что мне надо сейчас сделать, чтобы в душе не было столь гадко? Чуть не разбила машину, услышала в свой адрес мерзкие слова… Выйти, толкнуть эту тридцатилетнюю наглую тетеньку, чтобы она полетела в своем тугом перламутровом костюмчике до ближайшей лужи, плюхнулась бы в нее, посидела бы, может быть, одумалась, не стала бы так хамить. Все‑ таки зря интеллигентные люди перестали драться. В лучшем случае можно получить пощечину. А так чтобы по‑ настоящему, от всей задетой души…
А почему, собственно, нет? Сидеть и ныть, что меня обозвали ободранной козой, которую давно не желал ни один козел (если перевести с тетенькиного языка на приятный мне русский), да еще с утра пораньше, когда я еду в свое прекрасное будущее с Климовым?
Я быстро открыла дверцу, вышла из машины, подошла к тетеньке, с сосредоточенным видом ковырявшей свой номер, до которого я не доехала полсантиметра, и изо всех сил толкнула ее на землю. Тетенька от неожиданности крякнула, плюхнулась в серую пыльную канавку на продавленном асфальте, на тугом костюмчике отлетела пуговица, и тетенька, набрав побольше воздуха, прокричала что‑ то сильно матерное. Вот и ладно. Пока она вставала, отряхивалась и бежала ко мне, чтобы, соответственно, дать сдачи, я села в машину, ловко встряла в плотный поток машин, обтекавший нашу несостоявшуюся аварию, и уехала.
Вот бы Генка Лапик видел меня! Материалу было бы на всю беседу. А тема, кстати, хорошая. Сколько интеллигентских соплей пролито по поводу интеллигентских же соплей русской интеллигенции. Тем она и хороша, русская интеллигенция, что честь не позволяет ей ни унизительной работой заниматься, ни сдачи давать, ни играть с плохими людьми по их плохим правилам. Не оттого ли она всё проигрывает и проигрывает, уже больше века, и всё тает и тает. Так я и скажу. Представляю, что ответит Генка.
Ответит Генка? О чем это я? А я разве не еду… А зачем тогда я взяла осенний шарфик и праздничное платье? Разве не затем, чтобы проводить осенью в Калюкине семейные праздники? Как‑ то этот инцидент чуть не сбил меня с главной темы дня, не эфирного, не журнального – моего собственного.
Глава 31
Пробка, в которую я только что встала, тянулась невыносимо долго. Вот, кажется, знакомый двор, через который можно сигануть и хорошо сократить путь. Так мы и сделаем. Я завернула во двор, не сразу поняв, чем же он мне знаком. И лишь когда поехала мимо старой пятиэтажки с покосившимися козырьками подъездов, у меня в душе что‑ то ёкнуло. Или кажется, или точно он. Двор, где живет мальчик Женя Апухтин. У родителей своя жизнь на лыжах, в которую почему‑ то не берут Женю, а у мальчика – страшный дядька, проходящий сквозь стенку, и ночевки у соседей. Почему, собственно, я решила, что так бывает всегда? Просто я случайно тогда попала в такое время.
Я сама не заметила, как остановила машину. Посидела пару секунд и вышла. Вот он, этот подъезд, где в стене прячется страшный дядька. Вот и три окна у подъезда на первом этаже, где живет Женя Апухтин. А вот, собственно, и сам Женя. Из машины его сначала не было видно.
Мальчик сидел на траве под своим собственным окном с карандашом и толстой книжкой в мягком переплете. Я подошла поближе и взглянула – судоку.
– Получается? – я присела на корточки рядом с мальчиком.
Женя взглянул на меня и, похоже, сразу узнал и улыбнулся:
– Трудно.
– А почему ты не в школе?
Женя вздохнул очень по‑ взрослому:
– Потому что сейчас каникулы, Лика.
– Да, точно. Просто я как‑ то…
– А я вас слышал по радио.
– Ты слушаешь радио?
– Не я, папа. Мы ехали в машине…
Вот, значит, напрасны были мои опасения, что Женя – брошенный, никому не нужный мальчик. Всё нормально, и папа есть, и машина, и Женя в ней ездит – говорит как о чем‑ то само собой разумеющемся. Только вот почему сидит на земле под своим окном в разгар лета?
– А почему ты никуда не поехал?
Женя посмотрел на меня.
– Я хотел… Но просто там очень долго надо лететь на самолете, и потом еще ехать на катере. И очень холодная вода. А я обязательно в эту воду полезу.
– А это все где находится?
Женя мечтательно махнул рукой куда‑ то вдаль.
– Это далеко… На Северном море. Там совсем нет людей. И воду можно пить прямо из ручья. Мама с папой пьют. И вчера мне звонили. Там очень много комаров и особенно мошек. Они спят в сетках. Они бы меня съели.
– Мама с папой?
Женя засмеялся:
– Нет! Комары! Они там просто огромные, как шмели!
Кажется, я все поняла.
– А ты‑ то с кем остался?
– Я? – Женя взглянул на меня, раздумывая, стоит ли мне говорить, что он остался в городском летнем лагере.
И решил не говорить.
Что воспитательницей была хорошая папина знакомая, добрая, она приносила Жене персики и разрешала по вечерам приходить к ней смотреть фильмы по телевизору. И что еще там были два мальчика, которые не давали Жене спокойно ни есть, ни спать. Их тоже не забирали домой ночевать. И Женя оставался с ними один в палате. Тогда он взял и написал записку воспитательнице, и ушел. Только вещи забрать не удалось. С вещами он спокойно не прошел бы мимо охранника. А так – сказал охраннику, что его послали за чипсами, и пробежал, пока тот думал, стоит ли выпускать Женю. Конечно, его искали, приходили домой, и родителям звонили, но Женя же не такой дурачок – он тете Лене сказал, что в летнем лагере все отравились, просто родителям не хотят это говорить, чтобы не возмущались, – ну, как обычно… А дома он первые три дня не ночевал, попросился к дяде Коле, соседу, – тоже, как обычно, когда родителей нет. А дядя Коля – свой человек, он Женю никогда не выдает. А теперь Женя и вообще один ночует и не боится. Тетя Лена каждый день почти ему звонит.
– Тетя Лена – это?.. – спросила я молчащего мальчика.
Он поднял на меня встревоженные глаза. Он ведь мне ничего не говорил о ней.
– Кто такая тетя Лена? – повторила я, стараясь, чтобы мой вопрос прозвучал как можно мягче.
– Тетя Лена – это моя мама.
– Понятно. А папа – настоящий?
Я неправильно сформулировала вопрос. Я увидела, как Женя стал краснеть от ушей до самого носа.
– Мама тоже настоящая! Просто она появилась позже, чем папа.
– Хорошо, да, понятно.
– Тетя Лена – моя мама, она меня любит.
– Нисколько в этом не сомневаюсь. Ладно. А хочешь пойти со мной на эфир? На радио? – Я быстро взглянула на часы. – И… И еще в милицию, то есть в полицию, или в прокуратуру… – Я подумала, что надо быстро узнать, где открыли дело по происшествию в Славиной квартире и как‑ то поучаствовать. Может быть, сходить туда, вдруг я еще что‑ то увижу, пойму. Хотя двух молодых людей я довольно отчетливо себе представила и могла бы их описать. – Так что?
Женя не очень уверенно кивнул, а я быстро набрала Лёне Маркелову эсэмэску: «Буду сегодня на эфире, черкни тему. У меня есть интересный эпизод».
Да, придется расстроить в очередной раз бедную Марину. Я ведь сказала, что пропущу три эфира. Генке моя тема наверняка понравится – драка вместо сотрясания воздуха вежливыми укорами или невнятными угрозами.
– Вы всё про всех знаете, да? – Женя смотрел на меня со смешанным чувством восторга и страха.
– Только бояться меня не надо. Нет, не всё знаю. Я же не знала про твоего страшного дядьку, ты мне сам сначала рассказал. Как, кстати, он?
Женя вздохнул, но не очень тяжело.
– Конечно, сейчас, когда я один ночую, он пытается пролезть ко мне. Один раз у него получилось…
– Но он ведь сидел под кроватью и только слегка дергал твое одеяло, правда? И то, когда ты засыпал. Но так и не вылез.
Женя кивнул.
– Я около кровати магический круг с числами нарисовал, он не смог вылезть.
– Вот и правильно. Люди всегда раньше так делали, когда призраков больше было.
– Значит, он все‑ таки призрак… – прошептал мальчик.
А я прикусила язык. Но все – уже сказала.
– Да, призрак. Но это же лучше! С ними есть много способов борьбы. И абсолютно надежных.
– Правда? – обрадовался Женя.
– Правда. Магический круг, три зажженных свечи… – Опять не то, самому сгореть и дом спалить можно. – Хотя нет‑ нет! На современных свечи уже не действуют. Они же радиоволнами питаются…
– Точно радиоволнами? Не кровью младенцев?
– В двадцать‑ то первом веке? Нет, конечно! Тем более, что ты уже и не младенец, несъедобный.
Женя с подозрением посмотрел на меня.
– Я все серьезно говорю, не переживай. Надо просто мобильный телефон на пол положить и… сориентировать его точно по сторонам света. Сможешь?
– Конечно!
– Отлично. Так что, на эфир со мной пойдешь?
– А что там надо говорить?
– Просто посмотришь, как делаются передачи. Тебе интересно?
Мальчик неуверенно кивнул.
– И, может быть, скажешь что‑ то, подумаем еще. Тебе не надо зайти домой?
– А у меня нет ключа.
– Как нет ключа?
Женя посмотрел на меня и отвернулся.
– То есть… ключ у дяди Коли…
– У соседа? – уточнила я.
Женя кивнул.
– Я теперь отдаю ему ключ, после того, как он потерялся и новый замок пришлось делать. Дядя Коля сначала дверь плечом открыл, а потом я квартиру сторожил, а он за новым замком бегал. А он вчера почему‑ то не пришел домой вечером.
– Понятно, – я осторожно, стараясь не спугнуть мальчика, погладила его по голове. – И где же ты ночевал?
Женя молчал, а я все поняла. Уютная днем и очень страшная и холодная хижинка под елкой – огромной, когда‑ то голубой елью, изросшейся в городе в серо‑ зеленого великана, однобокого и кривого. Булка с изюмом и полбутылки «Фанты», очень вкусно кстати, гораздо вкуснее, чем капустный салат, пахнущий хлоркой, и толстые черные котлеты в лагере.
Да, как быстро маленький человек приспосабливается к тем условиям, которые ему предлагают нелепые, занятые своими сиюминутными интересами суетные взрослые.
– Пойдем.
Мне вдруг остро захотелось купить Жене, как и в прошлый раз довольно прилично одетому, только сейчас в помятую и не очень чистую одежду, какую‑ нибудь толстовку – модную, оранжевую или фиолетовую, с веревочками, надписями, и брюки, и новые сандалии, тоже модные, на толстой подошве, смешные и страшноватые – я видела на каком‑ то ребенке. На них можно кататься на пятках – там встроены специальные колесики… Так, стоп.
Я ведь взяла отпуск на три дня – а в душе чуть ли не на три месяца, чтобы ехать в Калюкин, к человеку, которого я искала и нашла…
Ну, во‑ первых, никого я и не думала искать. Просто так вышло. Во‑ вторых, на эфир я точно пойду – я только что написала Лене Маркелову, и он обрадовался. А в‑ третьих… Я быстро набрала номер Климова. Вот сейчас скажет: «Здравствуй, любимая, единственная…» и я отведу Женю… Куда? К своей маме? А если он и от нее сбежит, когда мама заставит его мыть руки до и после еды и полоскать рот между сменой блюд, потому что после рыбы зефир во рту неприятен и даже противен – по крайней мере, всем домашним моей мамы? И что он вообще будет делать у моей мамы? Придумывать, как поостроумнее от нее сбежать? И вообще, как я ей все объясню? Резон «взяла ребенка под ёлкой в чужом дворе» моей маме точно не понравится. Тогда куда?
Климов был недоступен. Вот и хорошо. Вот и отлично. Вот и ура. А если бы сказал: «Здравствуй, любимая Лика…»? Не сказал бы – это раз. И ничего бы не изменилось – это два.
Вовсе не к Климову я ехала в это утро, выходит. А вот под эту елку. Даже если дядя Коля через полчаса придет с ключами. Почему – не знаю, но я уже не смогу спокойно ехать в Калюкин.
– А когда приедут твои родители?
Женя тревожно взглянул на меня.
– Что? Чего ты боишься? Что я отведу тебя в лагерь или в милицию? Нет. Ко мне пойдешь в гости? Я позвоню твоим родителям, если хочешь, спрошу разрешения. А у тебя есть бабушка, кстати?
Женя сначала помотал головой, а потом, под моим взглядом, медленно кивнул. Тяжелая, важная старая женщина, с большими, как будто вывернутыми наизнанку губами, всегда треснувшая посередине нижняя губа с запекшейся в трещинке кровью, с огромными глазами навыкате, без ресниц, с седыми, наползающими на глаза бровями, с пухлыми пятнистыми руками, на которых всегда много металлических колец, сильно врезающихся в плохо подвижные пальцы…
Я даже вздрогнула от этой картинки.
– Остановись, прошу тебя! – засмеялась я. – Ужас какой! Я уверена, что все не так плохо. Бабушка есть бабушка. Просто ты фантазер и художник. Ты чем любишь рисовать?
Женя пожал плечами.
– Я не люблю рисовать. А вам нравится всё про всех понимать?
– Ты меня уже что‑ то в этом роде спрашивал. Нравится, но не очень. Садись‑ ка в машину. Мы мешаем проехать.
Сзади нас уже довольно нервно сигналила мусорка. Да, в этих двориках не развернешься, только ехать вперед. Никто не думал сорок лет назад, что будет столько машин. Как‑ то вообще коллективный разум человечества удивительно слаб. Хуже, чем у муравьев, перелетных птиц и тараканов. Человек не понимает опасностей – главных, глобальных для всей популяции, может думать только в пределах своей собственной жизни, да и то…
Женя недоверчиво посмотрел на меня.
– Вы хотите меня увезти?
– Да. Увезти в темный лес, разрезать пополам и съесть.
Женя с маленькой паузой засмеялся.
– Послушай. У меня есть три свободных дня на работе, то есть в журнале. Сегодня сходим на эфир, а завтра что‑ нибудь придумаем. Например, съездим на дачу.
Я на самом деле уже лет сто не была на старой папиной даче. По крайней мере, год, это точно. Надо хотя бы покосить траву, вообще посмотреть, что да как, не упал ли окончательно забор, не протекла ли крыша, под которой в прошлом году синичка вывела птенцов, не развалилась ли подозрительно просевшая печь. Женя подышит свежим воздухом, а я, раз уж он (или кто‑ то еще) остановил меня от поездки в Калюкин, поразберусь со своими мыслями. Если печь не развалилась, испеку в ней для Жени, да и для себя, колготно´ й и плохо питающейся, свое фирменное дачное блюдо – картошку в тяжелой чугунной кастрюльке. Кастрюльке лет больше, чем мне, и картошка получается в ней необычайно вкусная – без всего, безо всяких приправ и добавок.
До эфира оставалось еще четыре часа. Я решила для начала поехать в большой торговый центр, чтобы купить Жене одежду, подходящую для внезапно наступившей в Москве жары. И оранжевую курточку, на случай холодов. А также зубную щетку, сандалии с колесиками и… какую‑ нибудь игрушку.
Я посмотрела на мальчика.
– Ты какую игрушку хотел бы получить в подарок, если бы у тебя завтра был день рождения?
Женя молчал.
Все‑ таки иногда мой дар кажется мне просто бесценным. Мне бы такое не пришло в голову.
– Ласты и радиоуправляемый вертолет?
Женя кивнул. Смешной вихрастый мальчик с недоверчивыми серыми глазами. Мог бы играть скандинавского парнишку в каком‑ нибудь нашем фильме. Как известно, русские плохо играют иностранцев, хотя они нас играют еще хуже. Что‑ то неуловимо русское, задумчивое, горестное, дремучее – а оно есть, пусть в малой капле, в каждом из нас, – сыграть просто невозможно, каким бы славянским ни казалось лицо.
– Итак, мы едем за вертолетом и еще за тем, что нам вдруг понравится, да?
– Да, – Женя вопросительно посмотрел на меня, и этот вопрос был мне понятен.
Вот так и покупаются самые умные детки, когда к ним подходят плохие дяди из «девяток» с тонированными стеклами, а потом увозят их в неизвестном направлении, пообещав вертолеты с куклами.
Я взяла мальчика за руку и решительно остановила поползшие было сомнения – «а вот имею ли я право исполнять роль доброй волшебницы, которая потом исчезнет и все станет как было? » Во‑ первых, я никуда не исчезну. А во‑ вторых, покажите мне человека, который отказался бы в детстве – том, которого уже давно нет, – встретить вдруг добрую волшебницу, пусть даже на один день.
Глава 32
В ГУВД округа, где жил Слава, я знала одного следователя, мы учились когда‑ то в университете на параллельных курсах. Я – на журфаке, он – на юридическом, и встречались в четверг, на военной кафедре, которая нашим мальчикам заменяла службу в армии, а девочкам доставляла массу интересных дополнительных впечатлений, мне по крайней мере.
К нему я и направилась, крепко держа Женю за руку. Хорошо, что мой приятель оказался на месте.
– Лика, привет! Слышал тебя вчера как раз по радио. Очень смешно.
Я кивнула:
– Спасибо, мне тоже. Сереж, послушай, я вот хочу ориентировку дать на двух негодяев.
Следователь Сережа Куртяков с тяжелым вздохом вытащил из‑ под груды бумаг и папок лист бумаги и протянул его мне.
– Пиши.
– Не хочешь спросить, о ком и о чем?
– Лика, на мне столько всего сейчас висит… Ну что ты хотела, чтобы я радовался, что ты еще что‑ то принесла?.. Ладно, рассказывай.
– Ты не знаешь, кто занимается делом по краже у Веденеева?
– У депутата, что ли?
– Да, у депутата, у чемпиона Славы Веденеева.
– Светка занимается, кажется, но она сейчас на выезде. Давай, говори, если что знаешь, запишем.
– Знаю. Я знаю, как выглядели те люди, которые его ограбили.
– Ты их видела? – не очень заинтересованно спросил Сережа.
– Гм… скажем так, видела. То есть нет, не видела, но…
– Нет?
– Ну… видела, да.
А как объяснить это? Я их видела, только другим зрением, потерянным, забытым. Может быть, таким зрением видят собаки, когда их отвозят за двести километров от дома, а они через неделю возвращаются. Сказать об этом Сереже? Вообще‑ то у него высшее образование, учился когда‑ то у умных людей, может, поверит. Или, что более вероятно, сочтет сумасшедшей.
– То есть видела, то есть нет… – Он с хрустом потянулся. – Ты хочешь что‑ то узнать, поэтому пришла? Пишешь об этом?
– Нет. Вот, смотри, я скажу, что знаю. Передай тому, кто занимается, может, пригодится. Это были два молодых человека. Один очень высокий, странноватый на вид. Другой совсем обычный, никакой. И у высокого очень характерная походка – он как будто все время покачивается вперед при ходьбе. Да, и еще голова, как у древнего египтянина, – вытянутый череп. И волос на нем почти нет.
Сережа ухмыльнулся.
– Ага, хорошие приметы. Будешь проходить свидетелем по делу? Давай свои паспортные данные.
– Паспортные данные?
– А как ты думала? Ты описываешь каких‑ то людей. А если мы их обнаружим, именно таких. А если ты просто на кого‑ то хочешь тень навести…
– Да нет, ты что! Я…
Я посмотрела на Женю, который сидел на краешке стула с плотно сжатыми губами и немигающими глазами смотрел на следователя, точнее, на его полурасстегнутую кобуру.
Я вздохнула. Сережа не верит. И правильно делает. Придется прибегнуть к уже испытанному приему.
– Сережа, ты сегодня утром зря сказал такие слова своей маме. Она этого просто не заслужила. Ты же знаешь, что ее это может добить. Ей и так сейчас не сладко.
Сережа перестал качаться на стуле и крутить в руках копеечную ручку, которую он мне предлагал для записи моих ненадежных показаний. Он вытянул вперед шею, надел на ручку колпачок, аккуратно отложил ее в сторону.
– Так. Интересно. И откуда ты…
Я быстро черкнула на помятом листке, который дал мне Сережа, свой телефон.
– Передай Светке или кто там занимается кражей. Если нужно, пусть позвонят. Больше ничего объяснять не буду.
Я взяла Женю за руку и быстро вышла из кабинета.
– Подожди! – Сережа догнал нас в коридоре. – Я не знал, что ты общаешься с моей мамой.
– Сереж, успокойся, я никогда в жизни ни сейчас, ни раньше не видела твою маму. Можешь спросить у нее, если не веришь. Просто ты думал сейчас о ней, когда со мной разговаривал.
– А, ну да, точно, – ошарашенно кивнул плохо выспавшийся следователь.
Теперь мы стояли рядом, и я ясно видела тяжелые круги у него под глазами. И я знала, откуда они. Только при Жене, жадно ловившем каждое мое слово, я прямо сказать этого не могла.
– Ночью нужно спать, и желательно в своей кровати, правда, Женя? – Я крепче сжала ручку мальчика.
– Да, а не под елкой, – серьезно кивнул он.
– И не на холодной лоджии, с которой видны Лужники. Вид, конечно, хороший, да чужой. И сердцу, и душе. И вообще принадлежит этот вид другому человеку.
Бедный Сережа, вдруг оказавшийся как будто голым передо мной (я на самом деле могла бы и еще добавить к тому, что сказала, не будь рядом Жени), молчал и делал головой странные движения, неотрывно глядя на меня, как будто хотел изо всех своих сил проникнуть вглубь моей головы. Только сил у него таких не было. А у меня были.
– Я их опознаю, если что. Если вдруг поймаете. Может, еще что интересное про них смогу добавить.
– Слушай, а как ты это делаешь? – наконец стал приходить в себя Сережа. – У вас такие теперь способы в прессе, да? Мобильные прослушиваете и потом с человеком начинаете разговаривать с позиции силы?
Я покачала головой и показала на свой листочек, который сиротливо лежал у него на столе.
– Всё не так. Зря ты когда‑ то не слушал лекции Малявина. Помнишь, факультатив у нас такой был для всех гуманитариев? По истории древних цивилизаций. Ладно, звони, если что.
Я была уверена, что мне никто и никогда не позвонит по этому делу.
Так. Теперь «Детский мир». Я взглянула на Женю. Стоит ли? Мальчик устал, надо бы остановиться. Сейчас, купим курточку и… Хотя – ведь не ему нужна курточка, оранжевая, с большими накладными карманами. Это я представляла Женю в такой курточке. Мы все же заскочили в детский магазин. Купили вертолет и красную куртку, оранжевой не было, да и Женя совсем не хотел ничего примерять и выбирать. Ботинки на колесиках, которые мне так хотелось ему купить, оказались невероятно тяжелыми и громоздкими. Но мы все же их примерили. Рядом с Женей на топчанчике бледный мальчик примерял коричневые ботинки с некрасивыми толстыми носами. Странный фасон, подумала я. Куда можно пойти в таких ботинках?
– На концерт наденешь! Нормально! – как будто на мои мысли ответила его мама. – Давай, давай, натягивай второй! Подумаешь, некрасивые, зато практичные!
Я обернулась и от неожиданности ойкнула. За моей спиной стояла женщина в совершенно шикарном, очень длинном белом летнем пальто. Пальто было расстегнуто, и под ним виднелось коротенькое платье, сшитое как будто из рыбьей чешуи, жемчужно‑ белое, переливающееся всеми цветами радуги. Ножки у мамы мальчика были ровненькие, красивые и обуты в перламутровые босоножки на высоченных прозрачных каблуках. Но самое главное находилось у нее на голове. Легкая полупрозрачная шляпка‑ тюрбан венчалась огромным белоснежным цветком, из которого торчало длинное мохнатое белое перо. Перо колыхалось с каждым движением красивой мамаши. Ее крепкие цветочные духи окутывали нас все сильнее и сильнее. Вот настоящая женщина в поиске – успела подумать я.
– Зайка, как у вас дела? – раздался сзади голос.
Я обернулась. Добротно и просто одетый папа – таким будничным голосом обращаются, разумеется, только к жене – незаметно подошел к жене и сыну.
– Выбрали? Покупаем?
Мальчик помотал головой, а белоснежная зайка величественно кивнула:
– Да, бери ботинки, иди плати!
Папа спокойно взял ботинки у сына, пошел к кассе. Папа – вполне еще не старый, нормальный на вид, точно обеспеченный. Наметанным взглядом я увидела и добротный костюм, и дорогие очки, и часы. Да и походка благополучного, уверенного в себе человека. Вот нравится же ему такая зайка с пером в голове средь белого дня. И не стыдно за ее наряд, и слушается ее… А сзади плетется бледный молчаливый мальчик, которому купили страшные коричневые ботинки для неведомых концертов. Наверняка вымучивает Гайдна и Черни на скрипке или на пианино.
Интуиция моя, мое внутреннее зрение молчало. Я ничего не видела и не слышала об этой семье, кроме того, что видели и все остальные. А ведь наверняка за всем этим стоит какая‑ то интересная тайна, что‑ то странное, что‑ то, о чем говорят шепотом, о чем, лишь узнав, бегут рассказывать в учительской, в подсобке, в курилке лучшей подружке… Почему зайка так наряжена средь бела дня? Почему мальчик такой бледный и покорный? Может, это не его мама?
– Я знаю этого мальчика, – вдруг сказал Женя, когда мы уже спускались по эскалатору из детского магазина. – Он учился у нас в классе, потом его перевели в частную школу.
– Почему?
– Не знаю. Наверно, там уроков меньше.
– Почему же ты не поздоровался с ним?
Женя пожал плечами и ничего мне не ответил. Странные законы мира детей, я ничего о них не знаю, выходит. Дети, которые сидели в одном классе, вместе ели йогурты в столовой, вместе бегали на физкультуре, потом, встретившись случайно, не здороваются. Я уже забыла, почему так делают дети, или в моем детстве жили по другим законам?
Глава 33
Когда я предложила редакторам поговорить на передаче о пользе драки, Генка, слышавший наш разговор, недобро прищурился:
– Что, подралась с кем‑ то, звезда? Мало тебе того, что ты порядочным людям кишки взглядом взрываешь, так ты еще и дерешься. Что молчишь?
– Так ты все за меня сказал. Подралась, потом взорвала. Теперь хочу этим похвастаться.
– Ужас! – Генка картинно воздел руки к потолку.
А я заметила настоящий ужас в глазах Жени. Все‑ таки удивительное свойство детства – верить слову. То, над чем потом бьется человек в своем взрослом состоянии – ткёт, ткёт словами иную, придуманную реальность, – в детстве есть само собой. Вот сказали, что я злая волшебница, – иди теперь разубеждай мальчика. Ведь уже произнесено, значит, так оно и есть.
– Ты пойдешь на передачу или будешь из‑ за стекла смотреть? – Я осторожно погладила мальчика по светлым волосам.
– А можно я привет маме с папой передам? – шепотом спросил меня Женя, ничуть не отстраняясь.
И я поняла, что мальчик, очевидно, сразу смирился с тем, что и волшебница ему досталась злая.
Собственно, ничего в этом необыкновенного нет. Зло – неотъемлемая часть мира, Женя это точно знает. Живет же злой дядька в стене под его квартирой. И ничего. Женя привык с ним бороться, как может. Есть некая зона равнодушия в его семье, это очевидно, и наверное, не очень доброго равнодушия, но он привык принимать это как данность. Вот и я – оттуда.
Нет! Я совершенно не хочу, чтобы мальчик считал меня злой, да еще и сбежал при первой возможности. Только как теперь разубедить Женю? Подарки, которые я ему купила, ни о чем не говорят. Злые волшебники как раз очень любят заманивать детей подарками, а потом съедать. Это же всем известно.
– Лика! На минуточку зайди! – Лёня помахал мне рукой из своего небольшого кабинета.
Я без колебаний твердо взяла Женю за руку.
– Пойдем, будешь все смотреть сам.
Есть еще такой метод внушения – тактильный. У злого волшебника рука холодная, влажная. Когда он сжимает тебе руку, по всему телу бегут острые колючие мурашки, как пузырьки страха и чего‑ то еще, необъяснимого, что не имеет точного названия, но чего‑ то тяжелого, противного, неотвратимого. А вот у доброго… – примерно такая, как у меня.
Я постаралась вложить в пожатие маленькой ручки, безропотно протянутой мне, все, что могла, чтобы он перестал меня бояться после Генкиных слов. И надо же – почувствовала, даже не глядя на Женю, как он улыбнулся.
– Гена такой человек. Он все говорит наоборот, понимаешь? Ты сейчас сам услышишь.
– Зачем?
– Зачем… Чтобы было смешнее. Ему нравится смешить людей. Помнишь такое стихотворение – воробьи закрякали, муравьи захрюкали, что‑ то в этом роде.
– «Путаница», – уточнил Женя. – Мы учили в школе. Котятам надоело мяукать, они хотели хрюкать, как поросята.
– Да. Ведь смешно?
– Не очень.
– А как? – удивилась я.
– Страшно. Если все будет наоборот.
– Да, наверное. Так, заходи первым. Лёнь, вот я сегодня с гостем. Он тоже, если не растеряется, может высказаться насчет пользы драки. Да, Женя?
– Не растеряешься? – Леня посмотрел на мальчика и вопросительно взглянул на меня. – Тебе это очень надо?
– Да.
– Тогда ок. Я хотел сказать насчет оплаты. Мы сегодня уже Маринке поставили эфир, так что потом как‑ нибудь посчитаем, йес?
– Ага, – кивнула я. Мне показалось, что Леня хочет сказать еще что‑ то. – Что?
– Тебе идет, – Леня кивнул на мальчика. – Очень неожиданно. И крайне симпатично. То, чего тебе не хватало. Ну, давайте, идите. С богом. Или с чертом, кто тебе помогает?
Я укоризненно посмотрела на Леню.
– Взрослый человек, а говоришь ерунду, Леня! Мне высшее образование помогает, и мама с папой в детстве помогли.
– И мы, как можем, с копеечкой, – улыбнулся Леня. – Да? Скажешь там, своим, хвостатым и рогатым, чтобы нас без нужды не трогали?
Я только вздохнула. Слава моя, слава. Поползла, посочилась по всем лазеечкам, дырочкам, во все неуверенные головы в первую очередь, во все слабые зависимые души… Цивилизованные взрослые люди, а с удовольствием поверили в потусторонние силы, которые помогают мне уничтожать врагов… Да у меня и врагов‑ то особых нет. Может, я у них есть, это другое дело. Но я сама и трех настоящих врагов не насчитаю. И Сутягина я давно простила и оправдала, еще до его смерти.
За две минуты до эфира я полезла в карман выключить телефон, а он затренькал у меня в руках. Только бы не Верочка. Обычно она звонит в неподходящее время, чтобы сообщить о своих переживаниях. Но это была не Верочка. – Лика! – нервно выдохнула Герда. – Приезжай сейчас. Прямо сейчас, если можешь. А то у меня просто сдают нервы.
– Что‑ то случилось? – как можно спокойнее спросила я, глядя, как на больших часах на стене стрелка плавно движется вперед, и махнула ассистентке, бегущей отбирать у меня телефон. Осталось сорок секунд до эфира.
– Случилось всё, что могло случиться! Давай, приезжай. Я уже поняла, что ты нормальная… нормальный человек.
И ненормальный журналист. Не написала в свой журнал бледно‑ желтого цвета ни слова из того, что узнала о Герде. А можно было бы еще и по радио рассказать:
«А вот вы помните, дорогие радиослушатели, такую песню “Ты у меня один”? А певицу Герду? Ну конечно, она же вчера на молодежном конкурсе в качестве дорогой гостьи пела свои старые и новые хиты. А вот вы хотите знать, как на самом деле живет звезда? Ой, у нее такое в жизни происходит… Настоящая беда. Вот, слушайте. Вышла ее дочка замуж, да за очень плохого человека. И фамилия у него очень смешная, не выроните рули, кто сейчас за рулем. Полное имя, знаете, Гердиного зятя как звучит? Просто шутовские бубенчики для русского уха – Люсиний Шимсад‑ Рисадович Пиязов. Да‑ да! Именно так и звучит! Ну вот. Приходит как‑ то этот человек к себе, то есть к Герде, своей теще, рано утром домой, собирает по дому все, что лежит на виду, – дорогие подсвечники, миниатюры, трофейные немецкие фигурки ангелочков и балерин, а также драгоценности жены, которые любящая мать, то есть певица Герда, дарит дочке на все праздники с радостью и любовью. Кладет зять все это в сумку и собирается уходить, платить карточный долг. И еще немножко отыграться. Ну и поесть повкуснее. А тут некстати просыпается жена, Гердина дочка. И удивляется, зачем Люсиний забирает из дома столько дорогих вещей. И даже пытается эти вещи отобрать. А Люсиний, спеша поскорее уйти, бьет жену прямо по лицу, заспанному, такому надоевшему за четыре года совместной жизни. Ему все быстро надоедает, кроме карт. А уж ударив один раз, не может остановиться. И бьет, и бьет, испытывая необыкновенное удовольствие, сравнимое разве что с неожиданным, пусть и не очень большим выигрышем. Вот так, дорогие радиослушатели, проходят будни знаменитых певцов любви. Ведь Герда в основном поет о любви, много лет. А вы думаете, у нее у самой есть любовь? Да вот как раз и нет. Одинока, прямо как мы с вами. Какой‑ нибудь примазавшийся молодой композитор или начинающий смазливый певец – вот и вся ее любовь, на пару месяцев, пока Герда не поможет им пролезть в эфир и на телевидение. Интересно? А ведь это еще не все. Задавайте вопросы, дорогие радиослушатели, я вас люблю и готова ответить на любые вопросы. Чем закончилась история с плохим нерусским зятем? О‑ о‑ о, там не конец еще, там такое продолжение! Во‑ первых, драку видела внучка Герды, маленькая Лиза. И – внимание, не прослушайте! – перестала говорить. Во‑ вторых, подлец зятёк по случаю стал обладателем редчайшего сапфира, стоимость которого равна стоимости половины поселка, в котором живет Герда. А в‑ третьих…»
Только ничего я этого не написала и не рассказала. Поэтому, естественно, Герда по здравом размышлении поняла, что мне можно доверять. А доверять ей, как я понимаю, особенно некому.
– Хорошо, Герда, я поняла вас, услышала. У меня эфир, я отключаю телефон. После эфира приеду.
Я взглянула на Женю, сидящего, замерев, перед выключенным пока микрофоном наискосок от меня. Он‑ то Герду знает вряд ли, и стоит ли показывать мальчику все великолепное безумие повседневной жизни Гердиного поселка? Вооруженная охрана, маленькие дворцы, воспитанные лакеи… Потом! Сейчас рефлексировать некогда, эфир. Я кивнула выпускающему, что готова, и стала смотреть на пульсирующие красные цифры «5… 4… 3… 2…»
– Очень скучал о вас, дорогие друзья, – завел Генка, как обычно, а я уловила какую‑ то тревожную нотку в его голосе.
Что‑ то его беспокоит… А, вот оно что! Ясная картинка появилась у меня в голове. Генку беспокоит та безобразная драка, которую он недавно устроил в ресторане, точнее, в спортклубе. Дело обычное, все смотрели футбол, совсем никакой, играли голландцы с немцами, ничего, по сути, интересного, но вот девушка Генки вела себя так неприлично. И надо было бы плюнуть, оставить ее там и уйти. А он, дурак, повелся. Сцепился с молодым парнем, с которым откровенно кокетничала девица, накостылял ему, и сам получил. И штраф пришлось заплатить, как Генка ни доказывал, что он всенародный любимец, и любой радиослушатель, которому Генка поднимает настроение в пробках, заплатит за него. Еще хуже вышло. Содрали с него за все, что разбили в ресторане за год, наверное. Хорошо, что обошлось без милиции. Но денег очень жалко. И зуб, похоже, парень тот Генке коренной выбил. Качается, мешает говорить…
– Что, Геник, – вступила я, – как считаешь, подлецов надо словом бить или делом?
– А сама Борга как думает? – ухмыльнулся Генка. – Уступаю милой девушке – напоминаю радиослушателям, что моя соведущая – милая девушка, жаждет в этом году выйти замуж – пусть расскажет первая. Так как, милая Борга, словом их или делом?
– Кулаком, – вздохнула я. – В переносицу. Потом в ухо, в печень и ниже. И еще взять пару тяжелых стаканчиков и бросить в стенку, для острастки. По крайней мере, так поступает Гена Лапик, когда задевают его честь, да еще при народе.
Генка побагровел.
– А вот и… да! – выговорил он после некоторого колебания. – Да! За свой футбольный клуб я так болею! Именно так! А ты, Борга, как ты болеешь и за кого?
– Я в основном за сирых и обездоленных болею, ты же знаешь, Ген. Но тоже не люблю, когда меня, например, называют козой, ни за что ни про что в особенности. Или внезапно тормозят перед моим носом. Или запирают на парковке. Я много чего не люблю и, в крайнем случае, когда бесполезны слова, считаю, что рукоприкладство допустимо. Хотя может завести оскорбленного очень далеко. Даже в места лишения свободы. Послушаем, что на эту тему скажут радиослушатели, а?
Звукорежиссер за стеклом кивнул и включил кого‑ то дозвонившегося:
– Привет, Лика, это Володя! Помнишь меня?
Я выразительно посмотрела на звукорежиссеров за стеклом. Те только развели руками.
– Конечно, помню, привет! – спокойно сказала я, потому что бесполезно и нельзя в такой ситуации выяснять, что это за Володя. Нормальные Володи звонят по личному телефону, а не на передачу. Если нужно, телефон всегда можно найти.
– Я вот хотел тебя спросить, а ты не могла бы со мной…
Неизвестного Володю уже отключили. Да, прямой эфир не гарантирован от всяких странных личностей.
– Говорите, вы в эфире! Что ж, связь сегодня никакая у нас… – дежурно проговорил Генка, а нам уже режиссеры показывали на тихо сидящего Женю.
Я кивнула.
– Я пришла сегодня с гостем. Его зовут Евгений Апухтин, и он, полагаю, тоже захочет сказать несколько слов на тему драки.
Я увидела, что перед Женей включили микрофон, и сделала ему знак.
– Женя, как ты считаешь, драка – хороший способ решения проблем?
Я уже знала Женин ответ. Мгновенно в моей голове возникла живая ворочающаяся куча из маленьких детских тел, когда невозможно различить, где чьи ноги, где чьи руки, чье это искаженное болью и криком некрасивое детское лицо…
– Да, – неожиданно сказал Женя довольно спокойно. – Только когда дерутся честно. Если несколько человек бьют одного, это плохо.
– Тебя били в школе? – заинтересованно спросил Генка.
– Нет, не меня. У нас одну девочку приковали кандалами к батарее другие девочки и отбили ей почки.
– И сколько же лет этим девочкам?
– Я не знаю, – ответил Женя. – Они большие, пятиклассницы.
– А за что они ее били?
– Не знаю, – повторил Женя. – Наверно, она им не нравилась.
– И где же они взяли кандалы? – спросила я.
– У них отцы милиционеры. У нас много милицейских детей в школе.
– Хорошая школа, – проговорил Генка. – Но вообще это все в прошлом. Теперь у нас полиция. Моя полиция меня бережет. А номер школы у тебя какой?
Я укоризненно посмотрела на Генку и закрыла рукой Женин микрофон.
– Ты же не хочешь, Геник, чтобы и Жене отбили почки за то, что он позорит школу на всю Россию. А девочек тех выгнали?
– Нет, – ответил Женя. – У них же папы милиционеры, начальники. Директор их тоже боится.
– Ясен перец, – невесело засмеялся Генка. – А страну эту называют… Как ты сказала, Лика? Россия? Вот я и думаю, не мотануть ли мне туда, где не так страшно жить?
– В скит, что ли? К медведям и куницам?
– Да уж нет… Я бы выбрал какую‑ нибудь страну покультурнее, не медвежий угол.
– Например? – Я поняла, что тема драки как‑ то себя исчерпала, приняв такой странный оборот с выступлением Жени.
И ладно. Уезжать или не уезжать из России – это еще более животрепещущая тема, причем на все времена. Другое дело, что лишь небольшая часть людей всерьез думает на эту тему, в основном тех людей, чьи гены не несут никакой наследственной информации о том, как шелестели березки, как пели щеглы с соловьями, когда ты рождался в поле, и как сильно пахло полынью, ладаном и чем‑ то еще, странно знакомым, страшным, неотвратимым в сильно натопленной избе, когда ты умирал. Те люди, с другой генной памятью, без щеглов, полыни и ладана, живут в этой стране, если сейчас это удобно, и легко, без сожаления покидают ее, если жить в ней становится уж совсем невмоготу.
– Да чё там выпендриваться! – потянулся Генка. – Германия – она и есть Германия. Хорошая страна для проживания. Дойчлэнд, одним словом. У меня шесть одноклассников туда уехали, никто обратно не вернулся.
– А ты в спецшколе учился, Ген?
– Да, в английской, а что?
– Да ничего. Понятно. Это сложная тема – о составе русской нации – этнические русские, русскоговорящие, а также люди, по случаю живущие в России, и так далее. Давайте никого сейчас не обижать – ни уехавших, ни оставшихся, ни мечтающих расстаться с вынужденной и не самой справедливой и демократически устроенной родиной и лучше послушаем хорошую музыку.
– Ты бы предпочла что? – осклабился Генка. – Я про музыку, не про отъезд. Все равно ведь не скажешь. Проснемся однажды без тебя, а ты уже где‑ нибудь в Швеции за козьим молочком парным к соседу топаешь, в экологических шведских ботиночках, из переработанных целлофановых пакетов и мусора сделанных…
Я уже разгадала эту его довольно неприятную манерку улыбаться и говорить одновременно. Выглядит это ужасно, боковых зубов у Генки не хватает, все пивные мешочки на лице от улыбки неровно разъезжаются набок. Тем более что Генка чаще всего улыбается недобро. Но голос его при этом становится загадочным, приятным до невозможности – если на Генку не смотреть. Генка об этом знает и пользуется, имеет право – профессиональный прием.
– Я бы предпочла Дворжака или, к примеру, Пьяццоллу.
– Вот видите, дорогие радиослушатели, какой у нас с вами уровень развития! – заржал Генка. – А мы и не знаем таких слов! Мы люди простые, веселые, любим жизнь за ее радости и прелести, а вовсе не хотим тосковать под стонущие скрипки и бандоньоны заморские, гармошка то бишь по‑ нашему.
– Знаешь все‑ таки сложные слова, Геник, – вздохнула я. – Догадываешься, на чем играют музыку Пьяццоллы. А вот у нас сегодня и на самом деле блок классической музыки. Послушай и удивись вместе с нашими слушателями, насколько простой и веселой может быть классика.
– Ура! – подвел итог Генка и стянул наушники.
– Интересно? – спросила я Женю.
– Очень, – кивнул мальчик. – Можно мне попить?
Я с ужасом вспомнила, что Женя просил пить еще в «Детском мире», но мы уже не успевали ничего купить, и я пообещала напоить его на радио. И совершенно забыла об этом. Надо же, какой терпеливый ребенок.
– Конечно, извини, я забыла, – я пододвинула к нему бутылку с водой и стакан.
– А какой все‑ таки у тебя номер школы? – поинтересовался Генка.
– Ген, какая тебе разница? Ты же не пойдешь разбираться.
– Да уж спасибо – нет. Сам не знаю, какая разница. Чтобы детей в эту школу не отдать.
– А разве у тебя дети еще не школьники?
Генка как‑ то удивленно посмотрел на меня.
– Ну да, вроде школьники. Вообще, когда грозились, что ты придешь к нам, не обещали, что ты будешь такая зануда.
Не особо вслушиваясь в то, что продолжал говорить Генка, я быстро просмотрела сообщения в телефоне, которые пришли, пока был эфир.
Два от Герды: «А побыстрее нельзя? » и «Давай быстрей!!! » Крайне неприятно. Мне совсем не хотелось бы привезти Женю в какой‑ нибудь скандал.
Одно от Верочки: «Лика, ты про меня забыла? » Нет, не забыла, просто не до тебя, а так не должно быть. Ведь ввязалась уже, дала понять, что мне не все равно. Теперь любой шаг в сторону – практически предательство. А девочку и так все предают, все самые главные для нее люди.
Я быстро ответила Герде: «Да! Еду, но у меня эфир». И тут же получила от нее ответ: «Наплевать! » Ясно. Видать, и впрямь что‑ то очень срочное, вроде проигравшегося Люсика. Главное, чтобы он не проиграл Гердин дом, саму Герду и маленькую Лизу. Иначе я‑ то уж точно ничем помочь не смогу.
Верочке я тоже быстро написала: «Нет! Не забыла. Позвоню. Будь умницей! » И почувствовала, как мне самой стало приятно и тепло. Отчего? Наверно, я успела привязаться к девушке.
Конец эфира прошел неожиданно мирно. Генка даже шутил и ни разу не напоминал нашим слушателям, что его соведущая мечтает выйти замуж. Ох, как хорошо, что Генка не пронюхал о моей поездке в Калюкин, о моей неожиданной для самой себя влюбленности… Ведь так называется то, что со мной произошло?
Когда мы сели в машину с Женей после эфира, я спросила:
– Ты хочешь со мной дальше поехать?
– Да, – ответил Женя.
И даже не спросил куда. Значит, здесь лучше, чем под елкой или даже у соседа дяди Коли. Только вот не знаю, куда везу его сейчас, что там такое у Герды. Мне было немного не по себе от ее нервных призывов… – о чем? О помощи? Но я не знаю, о чем просила меня Герда. Может быть, ей просто было плохо? И поэтому она звала мало знакомую, пусть и внушившую ей доверие журналистку… Не очень сходится.
Я взглянула на Женю. И как быть? Отвезти его под елку, пусть порешает судоку? Не ехать к Герде, пойти с Женей в зоопарк? Посадить его у меня дома, где и мне‑ то пока неуютно в необжитой квартире, а самой рвануть к Герде? Решено, едем вместе. Думаю, если бы там было опасно, Герда звала бы не меня, а полицию.
Глава 34
Удивительно, как иногда предчувствия обманывают с точностью до наоборот. Пока мы ехали с Женей к Герде и весело болтали – вот уж не думала, кстати, что мне будет так интересно разговаривать с девятилетним мальчиком, – у меня даже и тени сомнения или чего‑ то, напоминающего сигнал опасности, не промчалось. Вот еще одно свойство моего нового – как его лучше назвать, чтобы не впадать в мистику? – навыка, скажем так. Избирательность. Как будто есть какие‑ то цвета или волны, которые он просто не воспринимает. А на какие‑ то реагирует сразу и очень остро.
И только подъехав к самому дому Герды, я как будто почувствовала тоненький, но очень острый укол. В какое место? А вот трудно сказать. Вероятно, в невидимое эфирное тело, в существовании которого я сильно сомневаюсь.
Ворота Гердиного двора были открыты, что уже само по себе было странно. Во дворе стояли две чужие машины. Я с сомнением посмотрела на Женю. Но было уже поздно. Не высаживать же его за забором.
– Постой у машины, – попросила я мальчика. – Я пойду узнаю, что там.
Он согласно кивнул, занятый игрушкой – хитроумной головоломкой из темно‑ желтого металла, которую я купила ему в «Детском мире».
Из дома слышались возбужденные голоса. Человек, сидящий в одной из машин, мне сразу не понравился. Я ему, похоже, тоже. Да, кажется, не на чай с пирожными позвала меня Герда.
– Ну‑ ка, подойди сюда! – Парень, даже не выходя из машины, поманил меня рукой. Видать, впечатления на него не произвела, опасности не представляю. – Тебе чего надо?
– Да мы так, поболтать приехали…
Он еще раз оглядел меня, машину, Женю и махнул рукой. Ну и дурак.
– Лика!
Герда выскочила из дома, а я в очередной раз поразилась, как молодо она выглядит, когда не думает о том, как выглядит. Я даже подумала, не сфотографировать ли ее, но не успела достать фотоаппарат, как она проговорила, быстро и нервно:
– Хорошо, что ты приехала! Хотя от тебя толку никакого, но тут ни от кого уже толку не будет.
– Что случилось, Герда?
– Случилось… – Герда остро взглянула на меня. – Хочешь быть первой? Сейчас расскажу тебе настоящую сенсацию.
– Я напишу только по твоей просьбе, не волнуйся. Если не надо, так мне и неинтересно писать, ты же знаешь, успокойся, говори.
– Да. Я надеюсь. Эта сволочь… Ну в общем… Люсик всё проиграл. Всё! – Герда крикнула это в сторону дома, а мне стало как‑ то не по себе.
Ведь именно эта мысль мелькнула у меня сразу же, как мне позвонила Герда. Значит, все‑ таки мой новый «навык» и здесь сработал, просто я ему не поверила.
– Герда, скажи коротко и спокойно. Что он проиграл? Сядь куда‑ нибудь.
Герда сильно закусила губу, чтобы не заплакать. Потому что недавно уже хорошо поплакала, это было видно. Вот это материал… Был бы. А так – надо решительно вмешиваться и помогать, если получится.
– Говори, – я подтолкнула Герду к большой каменной вазе, в которой, наверно, должны расти яркие, праздничные пеларгонии или розы. Но в вазе была насыпана плотная черная земля и посажены тоненькие веточки какого‑ то явно заморского растения, избалованного долгим жарким бразильским летом и никак не желающего разрастаться в подмосковном саду. – Присядь. Так спокойней.
– Он проиграл всё, понимаешь? – Герда села на тумбу и тут же опять вскочила. – Дом, мой дом! И всё, что там есть! Лика! Я в этот дом вложила двадцать лет жизни. Сотни концертов по городам и весям… Господи, да просто это наш дом. Здесь выросла моя дочь, здесь растет Лиза. Пусть заберут все, что внутри, но дом оставят…
– Подожди, как это может быть… Как можно проиграть чужой дом? Он же не хозяин, не владелец дома.
– Вот так и можно! Ты что, законов их не знаешь? Проклятье…
– Ничего еще не писала об их законах, – попробовала пошутить я, но, кажется, напрасно.
Герда напряженно взглянула на меня.
– Тебе наплевать, да? Тогда убирайся.
– Нет, прости. Говори.
– Вот видишь, стоят две машины? В одной приехал новый хозяин дома, в другой – его охрана.
– Герда, но это же какая‑ то ерунда… А милиция‑ полиция?
– Полиция? – Герда нервно засмеялась. – Это в Нью‑ Йорке полиция! А здесь два полуголодных капитана будут охранять мои поддельные статуи и драные шубы? У них что, других дел нет? Потом, это же все на словах, добровольно. Я сейчас добровольно возьму Лизу, пару чемоданов со шмотьем, и мы уйдем. Сами. Напишем только дарственную.
– А если нет?
Герда покачала головой.
– Я рассчитывала, что ты умнее. Если нет, мы не доживем до ближайшего понедельника. А дарственную все равно заставят написать.
– Подожди, ладно. Я поняла. Но как же твой… – Я хотела подобрать слово помягче. Я ведь знала, что у Герды есть или был раньше очень влиятельный друг в погонах. Об этом столько говорили и писали. Если, конечно, это опять не просто грань ее фантастического имиджа.
– Никак! – Герда поняла, о ком я говорю. – Никто не будет вмешиваться в такие дела. В них все мутно. Нет ни дна, ни друзей, ни…
– Слушай, хватит там уже сопли мотать! – раздался из дома довольно грубый крик. – У меня нет времени здесь с тобой сидеть! Тебе дали час на сборы!
Я взяла Герду за локоть.
– Пошли.
Не знаю, на что я рассчитывала, но отдать просто так кому‑ то дом, в котором растет маленькая Лиза, я не могла позволить.
Уже на пороге дома я оглянулась. Женя был увлечен головоломкой, но не могла же я оставить его на улице – ворота открыты, Женя – мальчик свободный, ночует, где придется… А в дом с бандитами я тоже вроде не могла его взять…
Я придержала Герду за локоть.
– Где сейчас Лиза?
– В доме, с Лилькой. Собирают вещи.
– Ясно. Давай Лизу уведем. И вот я еще мальчика привезла. Это мой… – я помедлила, – племянник. Сын брата. Мне его поручили на пару дней.
– Ну да, – неожиданно мирно сказала Герда. – Давай действительно детей уведем. А куда? А вот сюда, – она показала рукой на высокий зеленый дом с красивой черной крышей на противоположной стороне улицы. – Здесь живет очень плохой певец и очень хороший человек, он же. Если только он дома… – Она быстро оглянулась на парня в машине. – Или если ответит на звонок. У меня вообще‑ то телефон отобрали, после того как я успела тебе позвонить. И у Лильки тоже. И у тебя отберут, если достанешь его. Только вот со двора нас не выпустят просто так. Меня точно не выпустят. А вот тебя… Сейчас я Лизу приведу, подожди.
Я посмотрела на парня, заинтересованно прислушивающегося к нашему разговору. Вряд ли он что‑ то слышал. А вот я… А вот я неожиданно поняла, что лежит у него в багажнике. Очень страшная вещь. Очень опасная. Из него можно сразу положить человек тридцать, если пользоваться умеючи. Только вот как сделать, чтобы сейчас испугался он, а не мы с Гердой… Сказать ему, что я знаю, что у него такое оружие лежит в машине? И что? Знаю – значит, мне же хуже. Стою и дрожу теперь, ему это только на руку. Быстро соображай, Лика, быстро… Интересно, как открывается у него этот багажник?
– Лизу поскорей выводи. Или нет… Пусть Лиля лучше с ней спрячется. Давай только быстрей. И спокойней, – сказала я Герде как можно нейтральнее, чтобы и ее не взволновать, и чтобы этот парень ничего не понял.
Я даже не стала переспрашивать себя, правильно ли я поняла, что за оружие в багажнике. Ведь про котлеты у кого‑ то в животе, про призраков в стенках и про все остальное я пока правильно понимала? Будем надеяться, что и сейчас я точно знаю, что в багажнике этого черного Прадо лежит большой тяжелый миномет. Ужас. Но я должна его поднять и сделать вид, что я умею из него стрелять. Да так, чтобы мне поверили. Только вот как у Прадо открывается багажник? Наверняка есть кнопка где‑ то у руля. Это ведь старая модель, раньше джипы сзади не открывались… И возможно, что‑ то её дублирует… Но вот что?
Я крутила вместе с Женей головоломку, а сама краем глаза поглядывала на парня в машине. Он перестал на меня смотреть. Видимо, никакой опасности я для него не представляла. Ведь наверняка у него есть и еще оружие. В кармане, например… Ужас, ужас, я ничего этого не умею, не могу, я почти совсем не умею драться и еле‑ еле стреляю из обыкновенного ружья и пистолета… Но у меня не остается выбора. Таких людей не уболтаешь и не запугаешь. Ничем, кроме того, чем они сами пугают других. Миномет – самая классная вещь для таких случаев.
Я увидела, что Герда вышла с Лизой, и кивнула ей, чтобы она шла в мою сторону. Лили с ней не было. Няня осталась в доме, это не самое лучшее, но уж как есть… Нет, вот и няня Лиля. Да с чемоданчиками! Один побольше, другой – самый большой… Молодец Герда, даже если это все случайно вышло. Все девушки направились в мою сторону, а из дверей наконец показался тот, кто, вероятно, собирался теперь владеть Гердиным домом. А за ним два его товарища, либо, скорее, охранника, судя по настороженному и тупому выражению лиц.
– Детки, вставайте за мою спину, очень спокойно, – сказала я приветливо и кивнула издалека худому неприятному человеку в очень красивом светлом костюме. Зачем ему Гердин дом? Он сильно болен. Может, напомнить ему об этом? Хотя зачем, он и так это знает. И мысль грызет его еще сильнее, чем боль… – Быстро соображай, как открывается у Прадо багажник, – мило улыбнулась я Герде.
– Я знаю, – тут же сказала та. – Хотя нет. Это старая модель. Тогда вообще‑ то должна быть кнопка у руля. Слева, скорей всего.
– Подойди к водителю, как‑ то отвлеки и постарайся нажать на нее. Надо открыть его багажник. Делай все, как я говорю, ничего не спрашивай. У нас мало времени. Да?
– Да, – кивнула Герда. – Да.
– Лиля, – я обернулась к испуганной няне, – крепко Лизу за руку держите и стойте, где стоите. Можете даже потихоньку отходить к забору. Женя, не исчезай никуда, ясно?
– Я с вами! – сказал Женя и быстро сунул головоломку в карман. – Это бандиты, я уже понял.
– Да. Будет нужна твоя помощь. Только никто не должен понять, что ты взрослый мальчик. Пусть думают пока, что ты маленький и слабый. Стой здесь, как будто ты испуганный малыш. Это маскировка. Хорошо?
– Хорошо, – кивнул не очень уверенно Женя.
Вот только бы мальчик ничего нам сейчас не спутал. Я смотрела, как Герда, покачивая бедрами, пошла к охраннику. Вот он напряженно взглянул на нее. Вот от его расслабленной позы ничего не осталось… Только бы не вышел из машины и не захлопнул дверцу… Вот два других охранника вытянулись рядом со своим тощим хозяином, которого поедом ест его прободная язва… А он всё никак не успокоится, кормит и кормит её своими собственными нервами и чужими страданиями… Так, Герда, кажется успела… Что она скажет этому парню, что придумает, чтобы подойти поближе, ведь одними покачивающимися бедрами пятьдесят второго года выпуска этого вчерашнего горе‑ десантника она вряд ли собьет с толку. А мне надо под каким‑ то видом тоже подходить к его машине, только сзади. И осталось у меня секунд пять‑ семь, наверно… Я, недолго думая, махнула рукой в сторону дома и громко крикнула:
– Давай, снимай! Что ты спишь? Круговую бери!
Краем глаза я видела, как дернулась Герда и тоже посмотрела на крышу своего дома. И ладно. Пусть тоже поверит. Очень даже натурально получилось. Лишь бы отвлекла водителя и открыла мне багажник. Парень в машине высунул голову и посмотрел туда, куда я махнула рукой. Туда же смотрели и тощий язвенник со своими охранниками. Молодцы. Герда, давай! Я была уже около машины и услышала тихий щелчок. Есть, багажник открыт. А где же?..
Я смотрела на абсолютно чистый и пустой багажник джипа, где лежал только брошенный кем‑ то тонкий пиджак. Я быстро потрогала этот пиджак. Да нет. Ничего под ним нет. Никакого миномета или гранатомета. Или хотя бы пистолета. К машине уже бежали охранники, которых на самом деле оказалось трое, третий, видимо, задержался в доме и сейчас только выскочил на мой голос. Ну, и куда столько человек на меня одну? Хватит и двоих или даже одного. Герда растерянно смотрела на меня, а я подняла руки, показывая, что они у меня совершенно пусты.
– Успокойтесь! У меня нет оружия! Просто мне показалось, что там кто‑ то у вас есть в багажнике, хотела посмотреть. Не Люсика ли прячете…
Герда смотрела на меня, как на безумную. Заплакала Лиза. Женя зачем‑ то пошел ко мне, его попыталась остановить Лиля… Один из охранников попробовал взять меня за локоть да еще как сильно, я с трудом отбросила его руку. Ведь чуть‑ чуть драться‑ то я все‑ таки умею… Зачем столько лет занималась долгими одинокими вечерами всякой неженской ерундой вроде джиу‑ джитсу и русского рукопашного… Так, не лезь ко мне – я оттолкнула и второго охранника. Главное, чтобы в ход не пошли пистолеты. Но вряд ли средь бела дня в Гердином поселке они решатся сразу стрелять. Это я хотела стрельнуть разок из миномета… Да не нашла его. Я его просто придумала, этот миномет. Потому что ничего другого против таких людей не придумаешь. Соображай, Лика, быстрей соображай…
– Так, концерты заканчивайте, будете в другом месте их давать, – неожиданно интеллигентным голосом произнес тощий. – Герда, нам бы с вами документы, наконец, подписать. И все будут свободны.
– «Ты меня не спро‑ о‑ осишь…» – пропела Герда строчку из своего старинного шлягера. – Давай, сволочь, где что подписать.
Я потихоньку отошла от охранников, которые уже потеряли ко мне всякий интерес. Ну что, рискнем по‑ другому. Раз нет гранатомета.
– Секунду подождите, – я быстро подошла к тощему и протянула ему руку. – Лика Борга. Не слышали обо мне?
– Лика… Борга? – Он наморщил сухой лоб.
– Да… – глупо разулыбался один охранник. – Слышали. В машине вас слушаем… – он радостно и немного удивленно хмыкнул.
Конечно, я же, как и Генка, и другие сотоварищи наши, вряд ли соответствую своему голосу.
Вот он, мгновенный эффект радио. Годами пишешь и пишешь – никто тебя не знает. А месяц в эфире – и ты почти что знаменит. Физиономии твоей только никто не представляет.
– А как банкира Сутягина она за неделю помереть уговорила, не слышали? – вдруг быстро сориентировалась Герда. – Никак дружбы у них не вышло. Он, бедный, даже по телевизору жаловался, на помощь всех призывал. Да помер. Лика ему так сказала. Помрешь, сказала, сволочь, за то, что на мне не женился. Он и помер.
Недоумевающие охранники и тощий замерли.
– Что ты несешь? – наконец сказал тощий своим вполне интеллигентным голосом. – Какой банкир? Хорош болтать. Пошли в дом, всё подпишешь, что надо.
– Пошли, – ответила вместо Герды я. – Вот тут болит? – Я слегка коснулась светлого пиджака, свободно болтающегося на тощем.
Охранник тут же оттолкнул мою руку.
– А у тебя рука нормально срослась? – дружелюбно спросила я ретивого охранника. – Или вроде криво… Ну‑ ка…
Все четверо переглянулись и встали напротив меня.
– Уберите ее. Или… Погодите, – тощий сделал знак, и рванувшиеся было ко мне парни остановились. – Тебе вообще что надо? Кто ее пустил?
– Ночью было очень плохо, – сказала я. – Рыба не переварилась, да и не могла такая рыба перевариться в вашем желудке. Острая прободная язва. Разве можно есть жирную белорыбицу? И тошнило желчью. И сейчас вкус желчи во рту. И тошнит, и хочется чего‑ то кислого, но от кислого печет желудок… Всё так?
Тощий смотрел на меня с ужасом и ненавистью. Охранники делали неопределенные движения руками, желая то ли заткнуть меня на расстоянии, то ли схватить, но шага ко мне никто не сделал.
– Сдохла та собачка, – улыбнулась я одному из них, – которую ты хотел девушке своей на день рождения подарить. Сдохла, потому что ты ее запер на даче и забыл про нее. Дела, заботы… Собачка выла‑ выла, потом лежала на коврике, и – привет. Дорогая редкая порода. Очень много своих грязных денежек ты за нее выложил. Можно было бы смотаться на пару деньков в Сочи и обратно. Так?
– Это… – пробормотал ошарашенный охранник.
– Заткните ее! – наконец выговорил тощий.
– Остановитесь, – я протянула вперед руку так, как сделал бы сейчас любой нормальный экстрасенс. Блефовать так блефовать, на полную катушку.
Может, я в самом деле экстрасенс? Просто не знаю об этом. В смысле, нормальный экстрасенс. И прав был Сутягин? Может, я не только понимать всё о людях могу, но и вмешиваться как‑ то? В их судьбы, в их сиюсекундную жизнь, в самочувствие, наконец?
– Если они сделают хотя бы шаг, – сказала я, не опуская руку, а, наоборот, очень точно направив ее в сторону продырявленного еще до меня желудка тощего, – твоя ноющая дырка в животе прорвется. И вся желчь, которая там скопилась и никак не могла до конца выйти сегодня утром, прольется из желудка в брюшную полость. И у тебя останется пара минут. На страдания и последние пожелания. Ну, что?
– Стойте на месте, – с трудом проговорил тощий.
Я видела, как пожелтело вдруг его и без того бескровное лицо. Господи, вот этого мне сейчас не хватало. Тощий стал сгибаться пополам и хватать воздух ртом. Охранники, стоявшие, замерев, закрутили головами, засуетились. Один подхватил тощего, другой быстро подставил ему локоть. Парень, сидевший в машине, тоже выскочил и на всякий случай все‑ таки достал оружие. Не удержались, гаврики… Так, а у него что? А у него… Ох, тяжелая эта работа, оказывается, и не очень чистая… В смысле у меня сейчас.
– Твоя жена не родит, если ты сейчас не положишь на землю вот это дерьмо. Давай‑ давай. Она же не родила предыдущего? Не доносила? А этого родит мертвого. Клади на землю пистолет и отходи на три шага отсюда.
– Делай, как она говорит, – с трудом проговорил тощий.
– Бумаги свои несите, – кивнула я одному из его прихвостней. – И побыстрее, пока хозяин ваш не помер.
Понятно, почему ведьм сжигали на кострах и изводили до последнего колена. Пытались, по крайней мере. Ведь очень страшные это люди, ведьмы, и те, кто на них так похож…
Тощий что‑ то хрипел, вися на руках у охранника. Мне было несколько не по себе, но почему‑ то я чувствовала, что ничего смертельного с ним не происходит. Спазм, больно, но пройдет. От страха прихватило, такое бывает.
Я уж точно ничего сделать ему не могла. Я этого не умею. Насколько мне известно…
Охранник прибежал с бумагами, протянул их было тощему, тот помотал головой, и парень неуверенно протянул их мне.
Я быстро просмотрела аккуратно подготовленный каким‑ то нотариусом экземпляр дарственной. Молодцы, подготовились тщательно. Так, это мы порвем на всякий случай… Я оставила один листок, перевернула его и достала из кармана ручку.
– Пиши давай, – я дала ручку тощему. – Пиши‑ пиши, сразу станет легче.
– Что писать? – он поднял на меня мутные глаза.
Очень плохие глаза. Не от боли они такие мутные, от чего‑ то другого. Боль сама по себе. А вот эта муть… Так, ладно, лучше в такие глаза долго не смотреть. А то и меня начнет тошнить.
– Пиши: «Прощаю карточный долг Люсинию Пиязову…» Пиязов – через «и». Да? – Я обернулась на Герду, замершую, как и все.
Та кивнула.
– «…Пиязову в том, что касается движимого и недвижимого имущества его тещи Людмилы Тимофеевны Величко. От любых претензий к Пиязову и Величко отказываюсь». Написал? Подписывай разборчиво и давай сюда. Своим именем подписал? Соврешь – помрешь в страшных муках, обещаю. Ни один врач не поможет. Не родился еще тот врач. Подпись и расшифровка фамилии, четко, по паспорту, по которому живешь сейчас.
Тощий мучительно сглотнул и кивнул.
– Давай сюда бумагу. Вот и молодец. Все, друзья, до свидания.
– Мне… плохо… – прохрипел тощий.
– Секунду подожди… – Я протянула руку к его язве, и она как будто тут же запекла мне ладонь через пиджак. – Да отпусти ты его! – Я с досадой посмотрела на охранника, который никак не выпускал локоть тощего. Второй же с опаской отошел сразу, как только я протянула руку к его хозяину. – Плохого не сделаю. Так лучше?
Я подержала ладонь у живота тощего. Тот несколько раз судорожно перевел дух и поднял на меня свои мутные глаза.
– Да. Лучше.
– Вот и ладно. Теперь валите отсюда. На раз‑ два‑ три. Ага? И тогда всё у всех будет хорошо. Честное ведьминское слово.
Они уехали мгновенно. Ворота автоматически закрыл сторож, крепкий паренек, который, оказывается, все это время сидел тихо‑ тихо в маленькой сторожевой будке, больше похожей на домик садовника.
Я оглянулась на всю компанию. Вытянувшийся в струнку Женя, сжимающий в руках свою головоломку и с невероятным восхищением глядящий на меня… Измученная Герда, кажется, до конца не поверившая в то, что сейчас произошло… Лиля, крепко держащая маленькую Лизу…
И, наконец, сама Лиза, которая сделала шаг вперед ко мне и сказала, тихо, но довольно четко:
– Там птенчики, помнишь?
Герда охнула и разве что не рухнула на землю, но ноги у нее точно на одно мгновение подкосились. Она тяжелой рукой взялась за меня и, не отпуская, вместе со мной пошла к Лизе.
– Ты что‑ то сказала, моя девочка?
Ох, какие же умные взрослые, все‑ таки! Да, она сказала, она заговорила, она преодолела то, что мешало ей говорить. Но не надо пугать ее сейчас, не надо охать, падать перед ней на колени, разговаривать с ней страшным хриплым голосом…
– Я помню, Лизанька, – опередила я Герду. – Сейчас мы пойдем и посмотрим, как они там.
Я, конечно, была уверена, что птенчики или давно погибли, или кто‑ то их съел, какая‑ нибудь голодная ворона, но что‑ то надо будет придумать.
– Сейчас, возьмем в сарае лестницу и пойдем. Держи, – я протянула Герде листок, подписанный тощим. – Надеюсь, что это конец истории. А с Пиязовым надо дочке твоей развестись. Сегодня, например. Есть такая возможность? Тут, по крайней мере, твои друзья и поклонники помогут? Герда, ведь надо же иногда пользоваться своей славой! Давай, решай это быстрее. Где дочка?
– С Люсиком… – тихо проговорила Герда, отвернувшись от Лили и Лизы, так, чтобы слышала одна я.
– Ну и ладно. А развестись все равно надо. Под любым соусом. Сейчас придумаем. Они в России?
– Нет, – покачала головой Герда. – Как проигрался, сразу умотал куда‑ то. И она с ним, дура.
– Понятно. Ничего. Что‑ то придумаем, не переживай. Не придумаем, так наколдуем. Ага?
Герда неожиданно обняла меня и крепко поцеловала в щеку.
– И я тоже так считаю, – улыбнулась я. – Редко, но так бывает.
Глава 35
Надо было бы уехать сразу, но как тут уедешь! Деятельная Герда за пять минут заказала по телефону праздничный ужин, даже не спрашивая, было ли у меня в планах оставаться у нее на вечер.
– Ты осьминогов ешь?
– Я ем все, похожее на еду, желательно на европейскую, и от чего не толстеешь и по ночам не бегаешь пить минералку.
– Серый хлеб с пошехонским сыром, что ли? – засмеялась Герда. – Из домашней сыроварни и без масла. Ясно. С осьминогами я погорячилась. Может, закажем…
– Давай решим с птенчиками, – не дала я ей договорить. – Это очень важно. Там на дереве были птенцы, их мать убил Люсик.
– А ты откуда знаешь? – удивилась Герда.
– Знаю. Лиза мне в прошлый раз это… – я запнулась, чтобы подобрать слово, – объяснила. И теперь она хочет убедиться, что они живы.
– Откуда ребенок это знает? Откуда ты все это знаешь? – бормоча, Герда тем не менее направилась в сторону хозяйственной постройки в глубине двора. – Ладно, давай лестницу достанем, полезем, посмотрим.
– Можно я? – подал голос Женя, все время молча сопровождавший меня по дому после отъезда незваных гостей.
– Можно. Подержи пока лестницу, я слажу на разведку. Герда, подстрахуйте, пожалуйста, Женю.
– Ну что, как там? – Герда, задрав голову, смотрела на меня.
– Да не пойму… – Я не пустила Женю залезть первым, потому что думала, что ничего хорошего он в гнезде не найдет. Но гнездо было совершенно пустое. Я быстро слезла вниз. – Хочешь, сам проверь, – кивнула я Жене. – Залезай, залезай, подтвердишь Лизе мои слова.
Малышка смотрела на меня очень внимательно.
– Во‑ он твои птички! – я показала ей на очень кстати пролетевших над двором двух быстрых и вполне симпатичных сорок. – Они выросли за это время и теперь живут у вас на крыше, скоро, наверно, у них и у самих будут птенчики.
Лиза разулыбалась и взяла за руку Герду.
– Похож на тебя племянник, – кивнула на Женю, слезавшего в этот момент с лестницы, Герда. – Глаза твои. И вообще как‑ то похож. Так бывает. Племянники похожи, как свои дети. Всё, пойдемте, съедим что‑ нибудь. А то дети голодают.
Я неопределенно улыбнулась, направившись вслед за Гердой в дом, а Женя переводил глаза с меня на Герду, но встревать не стал. Я обняла мальчика, который тут же доверчиво, но как‑ то встревоженно посмотрел мне в глаза. Да, я бы действительно не отказалась от такого племянника…
– Тебе надо лечить людей! Почему ты мне раньше про себя не рассказала? – Герда вдруг остановилась, как будто до нее только что дошло все произошедшее. – Ты не представляешь, как к тебе народ валом повалит.
– Да я не бедствую, Герда, и я не врач, а к тому же… – Я не успела договорить, потому что требовательно зазвонил телефон в кармане – удивительно, что за последние полчаса, наполненные такими яркими событиями, никто ни разу мне не позвонил.
Верочка. Конечно, она же ждала моего звонка!
– Лика… – Верочка, разумеется, плакала. Она редко звонит мне в другом расположении духа. – Ты можешь, конечно, ко мне не приезжать, но я… У тебя эфир сейчас?
– Нет.
– Ты очень занята? – с надеждой спросила Верочка.
– В каком‑ то смысле да, – ответила я.
– А… Ты можешь ко мне приехать? У меня очень срочно. Просто я… не знаю, зачем жить.
– Ясно, – вздохнула я. – Покатай пока мячик спиной по стенке, может, полегчает. Смысл жизни как раз у тебя где‑ то там застрял. Между пятым и шестым позвонком. А я еду.
– Я тебе испортила интервью? – заплакала Верочка.
– Нет, – успокоила я свою беременную подопечную. – Ты не дала мне толком пообщаться с одной…
Я посмотрела на Герду – вот кто она сейчас? Звезда? Бывшая звезда? Бабушка одной маленькой девочки, которая около года ничего не говорила? Мать очень глупой молодой особы, которую бьет до кровавых подтеков ее муж‑ игрок? Просто одинокая и уставшая женщина, потому что много лет одной за все отвечать, много лет зарабатывать деньги, не надеясь ни на кого в жизни, растить одной дочку, а теперь – дочкину дочку – это, наверно, непросто. Я не знаю, я отвечаю только за себя. И то это бывает непросто.
Герда внимательно смотрела на меня, пока я утешала шутками плачущую Верочку.
– Я поняла, – махнула она рукой. – Езжай. Ты везде нужна. Везде и всем. Тоже будешь стрелять из миномета?
– Из гранатомета, – засмеялась я, вставая и беря для Жени большое спелое яблоко из синей стеклянной корзинки на столе. – Такая вот моя судьба, с некоторых пор.
Откуда у человека, бренного, тленного, слабого, беспомощного, такое четкое представление о вечности? Такая тоска о вечном? Во мне есть что‑ то, названия чему я не могу найти, но это что‑ то ощущает мою бренность, страдает о ней и точно знает о возможности другой жизни – без болезней, без ограниченности, – хорошо всем известной ограниченности срока жизни на земле. – А слоны знают, что они должны умереть? – вдруг спросил меня Женя.
Услышала его мысли или же внушила ему такой странный вопрос, сама размышляя о бренности и вечности?
– Почему ты спрашиваешь меня об этом? – я посмотрела на мальчика, которого так и не успела ни рассмотреть хорошенько, ни тем более узнать.
– Я иногда думаю о таком… Почему, например, собаки часто грустят? Потому что не умеют разговаривать?
– Ты думаешь, им есть, что сказать нам? – я улыбнулась.
Удивительный мир детей. Счастливые родители – они каждый день, в течение многих лет, слышат подобные детские вопросы, заставляющие по‑ другому взглянуть на привычное.
– Если бы у меня была собака, я бы с ней разговаривал… – ответил мне Женя. – Папа не очень любит разговаривать.
– А что он любит? – спросила я, ловя себя на том, что с Женей в машине совсем по‑ другому себя веду как водитель. Сбавляю скорость, заранее начинаю предупреждать о маневрах, вообще очень вежливо и осторожно веду машину. Приятная метаморфоза.
– Он любит петь, – совершенно нейтрально ответил мне Женя, и я не поняла, как к этому относится сам мальчик.
– А… – Я не знала, как правильно сказать и все же, удивляясь самой себе, не стала называть Женину приемную мать мамой: – тетя Лена?
– Мама тоже любит петь, под гитару. И еще работать, – тоже совершенно спокойно ответил мне мальчик.
Вот бы сейчас заглянуть в его душу! Где ты, мой чудесный дар? Но дар молчал, а это означало, что ничего особенно не тревожило мальчика и ничего не болело в той области души, где живут папа и приемная мама.
– А почему у вас нет детей? – вдруг спросил меня Женя.
Вот тебе и на. Я к нему в душу пытаюсь проникнуть, да не могу, а он, сам того не зная, спросил о самом больном.
– Ну… так получилось. Природа не хочет, чтобы у меня были дети, – ответила я, не уверенная, что мальчик что‑ то поймет из моего ответа.
– Потому что вы все про всех понимаете, – сказал вдруг Женя. – Ребенку с вами было бы очень страшно. Ничего не скроешь.
– Да, наверно, – согласилась я, чувствуя, как что‑ то очень неприятное и обидное закрадывается мне в душу.
Ничего себе! Со мной ребенку было бы страшно! А вот маленькой Лизе со мной совсем не страшно! Она сразу доверчиво потянулась ко мне. Да и сам Женя – не дурачок же он! – отправился со мной незнамо куда…
Стоп. Я обиделась на маленького мальчика? На девятилетнего? А на что я рассчитывала? Что он назовет меня мамой и попросится ко мне жить? Какое я имею право вообще об этом думать? У него есть семья, такая, какая есть. И для него мир именно такой, какой он есть. Иногда не нужно открывать ворота своего двора, если все равно не сможешь из него выйти. Зачем? Чтобы посмотреть, что за забором трава выше и зеленее, солнце светит ярче и жизнь веселее?
Тем более, кто сказал, что как приемная мать я окажусь многим лучше тети Лены? Разве в моей жизни есть место для чьих‑ то капризов, болезней, слабостей? Вот я себе и ответила.
– Вы знаете, чего я сейчас хочу? – спросил Женя, хитро поглядывая на меня и даже не догадываясь, какой спор я веду сейчас сама с собой. Жестокий и эгоистичный спор.
– Знаю, – вздохнула я. – Сосисок с кетчупом. И сахарной ваты, побольше. Напихать в рот так, чтобы разговаривать было невозможно, и долго, с удовольствием поедать огромный пухлый ком ваты…
Мы же так и не поели у Герды, я помчалась по очередному вызову. Какая из меня приемная мать? И даже приемная тетя. Я эгоистка до мозга костей. Вот у меня нет даже собаки или кота.
– Не скроешь, я же говорю, – тоже вздохнул Женя.
– А что ж тут скрывать? – засмеялась я. – По‑ моему, это так здо´ рово. Ты и подумать не успел, а я уже знаю – суп и манную кашу не предлагать.
– Да, – сказал Женя, но без особого энтузиазма.
Вот она, неосознаваемая территория личной жизни, запретная и закрытая для посторонних. И неважно, какие на сегодняшний день там скрыты тайны – про первую любовь, про страшного дядьку, который живет в стене, или же про сосиски с кетчупом. Не нужны там посторонние. Разве что на минутку, разве что одним глазком, с разрешения хозяина, или – в экстренных случаях – для спасения. Заходите к нам в душу, спасите нас, разгребите все наваленное в беспорядке, потушите пожар, помогите справиться со злодеями, душу эту растоптавшими, а потом – извольте‑ ка восвояси. И дверь не забудьте поплотнее прикрыть.
Глава 36
Пока Женя быстро и жадно ел в маленьком кафе в торговом центре, куда мы заехали по пути к несчастной Верочке, я размышляла, смогла бы я вот так, каждый день, годы подряд, зависеть от чьих‑ то чужих желаний. Нет, наверно. Вот я не очень хочу есть. Тем более, не хочу этих сосисок и тугих, плохо прожаренных лепешек. А ем, потому что маленький мальчик, у которого нет сейчас ни денег своих, ни родителей рядом, захотел съесть именно это. Вот так было бы и со своим ребенком. Правда, назвала бы я желания своего ребенка «чужими»?
Я часто вижу мам, превратившихся в функцию своего ребенка, если говорить на математическом языке. Переменная и ее функция, насколько я помню основы школьной алгебры. Вся жизнь заполнена и подчинена одному – выращиванию еще одного человека. Больше ничего. Выбирается работа ближе к дому, с удобным графиком, – какая разница, что за работа, в сущности. Главное – успеть забрать из школы, потом иметь возможность отвести в спортивную или музыкальную школу, или в обе, если хватает энтузиазма… И в этом весь смысл твоей жизни.
А я всегда очень боялась такого. Может, поэтому и не срабатывает у меня главный механизм – механизм продолжения рода? Блокируется мозговым сигналом – «Я не хочу жить ради кого‑ то, я не хочу быть функцией, я хочу сама быть главной величиной своей жизни». Я хочу быть для себя главной, поэтому я одна. Как всё просто.
– Ты поел? – Я увидела, что Женя, развернувшись на стуле, смотрит куда‑ то в сторону. – Кто там? На кого ты смотришь?
– Там… – Женя с ужасом смотрел на меня, не решаясь выговорить, – там… тот дядька…
– Который живет в стене?
Я уже поняла, на кого смотрит Женя. Конечно, если такой тип живет у него в стене и прячется под кроватью, чтобы однажды ночью растерзать Женю на маленькие кусочки и есть их, чавкая и обливаясь слюнями и Жениной кровью, как положено… Немудрено, что мальчик боится.
– Подожди‑ ка… – я встала и, обойдя несколько плотно придвинутых друг к другу столиков забегаловки, куда так рвался Женя за сосисками, подошла к страшному дядьке.
Передо мной сидел мужчина, по возрасту приближающийся к старику, но на вид еще вполне крепкий, с темным, пропитым, прокуренным лицом, в грязной, поношенной куртке – это в такую‑ то теплую погоду! – небритый, нечесаный, немытый, давно не стриженный. Очень неприятный тип.
– Чё? – спросил он меня, и я, на секунду столкнувшись с его тяжелым взором, постаралась как можно быстрее отвести глаза.
Не знаю, в душу ли я ему заглянула, но что‑ то крайне неприятное, липкое, муторное словно подступило у меня к горлу.
– Чё надо? – повторил он угрожающе, но страшно мне не стало. Стало только еще противнее.
Я на шаг отступила. Зачем я подошла к нему? Не знаю, интуитивно.
– Кошелек доставай, – сказала я, подчиняясь тому, что мне самой было не до конца понятно. – Тот, который ты только что во‑ он у той девушки в синем свистнул. Доставай, пока полицию не вызвала. И мотай отсюда побыстрее.
– Ты чего… чего… – забормотал дядька. – Какой кошелек…
Его небритый подбородок неприятно затрясся, он стал лихорадочно рыться по карманам. Что он там хотел найти? Действительно, какой‑ то кошелек? Паспорт? Или чистый, гладко сложенный носовой платок? И я на секунду засомневалась – правильно ли, что я так безоговорочно подчиняюсь таинственным сигналам, идущим из моего встряхнутого в апреле сего года мозга? Явно из левого его полушария – из безответственного, интуитивного, живущего фантазиями и не ведающего законов и рациональных объяснений. Просветить бы это полушарие, посмотреть, что там у меня да как, но боязно.
А вдруг я ошиблась? Вдруг это обычный, ни в чем не виноватый, совершенно нормальный, бедный, замученный старческими болезнями и бедностью старик, который давно живет один, ничего себе не готовит и с пенсии приходит в общепит, чтобы раз в месяц съесть что‑ нибудь вкусное, не похожее на его обычные макароны с пшенкой?
– Ты это… Давай‑ ка… – Он встал, обдав меня ужасающим ароматом нищеты, немытого тела, объедков, еще чего‑ то отвратительного и тошнотворного. – Не мое это… Не знаю откуда… – Дядька кинул на стол тонкий гладкий кошелечек из кожи цвета индиго – насыщенного синего цвета.
Такого цвета бывает небо где‑ нибудь в Индонезии, перед самой ночью, когда солнце уже село, а темнота не успела наступить. И в эти короткие мгновения небо словно наполняется изнутри темно‑ синим, но очень ярким свечением. Невидимые ангелы бегают по небу с невидимыми свечами… Или с галогеновыми китайскими фонариками.
Ссутулившись, лишь раз обернувшись, и то как‑ то боком, старик мелкой трусцой побежал к эскалатору. Я именно этого хотела? Да, наверно.
И я была права. Женя с восхищением смотрел на меня. Я держала в руке чей‑ то чужой кошелек цвета закатного индонезийского неба. А что внутри? Внутри лежали две кредитные карточки и несколько пятисотрублевых купюр. И что нам теперь делать с этим кошельком? Быть бы еще уверенной, что хозяйка действительно носит что‑ то синее, и поискать ее где‑ то поблизости. Ведь я про синюю одежду сказала просто так, по наитию…
Надо бы подумать про этимологию слова «наитие». Какой корень, интересно? «Интуиция» – вряд ли… «Искать»? «Найти»? Это ведь что‑ то старое, забытое, глубоко понятное моим далеким предкам. Таинственная способность понимать, не рассуждая, не привлекая простейший, элементарный аппарат сознания, служащий лишь для примитивных действий и рассуждений, – примитивных в сравнении с тем, что может неведомый и неподвластный мне аппарат подсознания. Он же – «наитие», он же – «интуиция», шестое, седьмое «чувство». Чувство! Не разум. У меня есть, выходит, чем почувствовать, что дядька только что украл кошелек. И это что‑ то спрятано так глубоко внутри меня, что я даже не знаю – где оно.
В невидимой душе, весящей то ли тринадцать с половиной, то ли двадцать один грамм (кто как считал)? В левом полушарии – в хитросплетениях миллионов нейронов, связанных между собой десятками миллионов дорожек? Где‑ то еще, в том загадочном эфирном теле, в существование которого я, истинная материалистка, не верю, равно как и в существование всех остальных атрибутов идеального мира. Я, которая слышит то, что не говорят, и видит то, чего нет…
– Лика! – Вполне веселая Верочка, которая, вообще‑ то должна была сейчас сидеть дома и ждать, пока я приеду и помогу ей понять, зачем жить, подбежала ко мне, насколько ей мог позволить это сделать кругленький, торчащий вперед животик. – А я вот… Решила развлечь себя. Лучший способ отвлечься – это шопинг, правда? – Верочка поправила ярко‑ синюю лямку смешного модного платьица. – Это твой сын, да? А я не знала, что у тебя есть ребенок…
Женя внимательно переводил глаза с меня на Верочку. И почему‑ то не стал возражать, что он вовсе не мой сын. Ох, как же меня занимает эта тема! Отказываюсь, отбрыкиваюсь, уговариваю себя, что не хочу быть функцией… Это не хочу я, ловкий и быстрый белковый механизм с хорошо развитой системой управления насущными жизненными потребностями, то есть с сознанием. А что‑ то глубинное, тайное, руководит изнутри и все подталкивает, подталкивает совсем в другую сторону…
– У меня нет детей, Верочка, – спокойно ответила я. – Это мой знакомый мальчик Женя Апухтин. Что ты ищешь? – Я увидела, как Верочка быстро перебирает в сумочке бумажки и пытается что‑ то достать.
– Да хотела вот… шоколадку купить. Я все время хочу сладкого. Наверное, малыш будет сладкоежкой. Фу ты, ну и где он? Я же только что платила… Сок пила…
– Ты сама сладкоежка, – ответила я и протянула Верочке синий кошелек. – Не это, случайно, ищешь?
Хорошо, что я пишу не художественные произведения, а статьи, в которых вымысла подчас побольше, чем в романах, и никто не требует соблюдения никаких законов правдоподобия.
– Лика! – ахнула Верочка. – Ты – точно волшебница! Точно!
Я покачала головой.
– Это ты – растяпа. У тебя только что украли кошелек. Посмотри, все ли там на месте?
Пока Верочка разглядывала содержимое своего кошелечка, я успела увидеть, как неплохо она выглядит. Вот и хорошо. И здесь законы природы берут свое. Елик Еликом, страдания о нем пока еще наполняют Верочкину жизнь, но уже мощно и, надеюсь, бесповоротно включился совсем другой механизм. Из таких милых дур, как Верочка, иногда получаются очень хорошие, преданные и самоотверженные мамы. Ведь главное, что есть теперь кого любить и кому любовь твоя нужна ежесекундно, в самых разных проявлениях.
Верочка накупила в маленьком конфетном киоске шоколадок и себе, и Жене, и даже мне, как я ни отговаривалась, что меньше всего в жизни люблю шоколад. Натолкав полный рот шоколада, она поправила растрепанные волосы Жене и объявила мне:
– Вот, у тебя нет детей, а у меня будет много детей!
Так, собственно, к этому я и стремилась, останавливая несколько месяцев назад тебя, милая дура, от аборта. Чтобы когда‑ нибудь у тебя вместо одинокой комфортной зрелости и одинокой бессмысленной старости было много шумных, ужасных, любимых детей. Говорить я этого не стала, понимая, что Верочкино состояние требует снисхождения. Тем более, на беременных дур, измазанных до ушей шоколадом, не обижаются. И все же…
Я тоже пригладила Жене волосы и спросила Верочку:
– Ты сама доедешь до дома? Тебя не надо провожать?
– Как это не надо? – надула губы Верочка. – Я же не за рулем. Живот еще помещается, но я не вожу больше машину. Два месяца только успела поводить. Папа пока машину обратно забрал, в гараж себе поставил. Я очень отвлекаюсь, разговариваю с малышом, – она погладила живот и улыбнулась. – Он мне отвечает… Ножкой толкает… Это так здорово, Лика, ты просто себе не представляешь!
Мне показалось, что за то время, пока я мчалась к ней на помощь от Герды, Верочка точно успела понять, зачем ей сегодня жить. А до завтра я все равно у нее не смогу остаться.
– Так… – я набрала номер городского такси. – Через полчаса тебя будет ждать такси у главного входа в торговый центр. Сможешь отличить такси от обычной машины?
Верочка сердито посмотрела на меня и, отобрав у меня шоколадку, которую я так и не успела откусить, решительно зашагала по анфиладе в сторону ярко светящейся рекламы парфюмерного магазина. Вот и здорово, вот моя ученица и становится похожей на самостоятельную девушку, правда, пока очень глупую, но это, скорей всего, пройдет вместе с молодостью.
Глава 37
Я хочу к нему поехать. Теперь уже не знаю, на всю осень, на пару дней или до конца жизни. Но я хочу поехать. Меня что‑ то остановило, когда я несколько дней назад, побросав в сумку вещи, собралась в Калюкин. Встреча с Женей не могла быть просто случайной. Да ведь я могла и проехать мимо. Тогда что мне помешало поехать? Предчувствия? Привычка к одинокой жизни? Но вообще‑ то никто мне пока не обещал жизнь эту сделать другой.
Я несколько раз набирала номер телефона Климова и, не дождавшись гудка, нажимала отбой. Что я ему скажу? Что я соскучилась? А я не соскучилась. Это совсем другое. Просто в моей абсолютной самодостаточности появилась брешь. И в нее утекает часть моих драгоценных сил. Я вообще‑ то нужна самой себе. Я никому особенно не нужна в этом мире. Но себе, по крайней мере, нужна. Собранная, остроумная, быстрая на ответ и на решения. Я такой себе нравлюсь и к такой себе привыкла. Такая я кое‑ чего достигла в этой жизни. А я нынешняя стала задумчивой, проезжаю нужные повороты, забываю, куда еду, равнодушно беру интервью и поверхностно строчу потом статьи, пропускаю мимо ушей ядовитые реплики Генки Лапика.
На прошлом эфире тема была сиюминутная, не люблю таких однодневок, но настолько животрепещущая для большинства жителей нашего города, что и мне пришлось, хочешь не хочешь, в ней участвовать. По случаю вспоминали одиозную отставку одиозного мэра, правившего городом восемнадцать лет. Картинного, одевавшегося как простой шофер, хитроватого и жесткого человека. Сейчас уже сильно пожилого и покинувшего хлебосольную, доверчивую Родину.
– …и город наш теперь, превращаясь на глазах в настоящую европейскую столицу, избавится от всех своих бед… – разливался соловьем, забывая о границах приличия и, главное, реальности, Генка.
– Избавится от сотен тысяч ненужных машин, – подхватила я, пока Генка переводил дух, – от невежества и грязи, от бессмысленных, сидящих друг у друга на голове продуктовых магазинов и аптек, избавится от своих назойливых гостей, приезжающих к нам без спросу и приглашения, от старых картонных пятиэтажек, от «новых» домов, которым уже тоже тридцать – сорок лет и в которых давно пора менять все прогнившие трубы…
– Сразу не избавится, это правда. Всего‑ то три года прошло, это не срок. А что ты предлагаешь? – спросил Генка довольно дружелюбно. – Сама, кстати, хочешь быть мэром?
Действительно, его я никак не задела, а за город и старые‑ новые политические команды он радеет просто так, по службе.
– Нет, мэром я быть не хочу. Но лично я предлагаю гостям уехать по домам, заняться своими собственными землями, пока эти земли кто‑ нибудь, у кого один квадратный метр земли на семь с половиной граждан, не отобрал за ненадобностью. Это касается не только узбеков, таджиков, молдаван. Это касается, в первую очередь, всего потока покорителей Москвы, которые едут из маленьких российских городков.
– Там у них негде работать! – вздохнул Генка.
– Мы говорим о том, как спасти Москву от экологической и культурной катастрофы. А потом – если так будет продолжаться, то маленькие города будут умирать, как на протяжении сорока – пятидесяти лет умирали деревни. Умирали и умерли.
– Ты смогла бы жить в маленьком городе, дорогая Лика? – спросил Генка.
– Я – да.
Режиссер сказал нам в наушники, чтобы мы сворачивали тему, пришло время музыки. А я бы могла говорить и говорить о том, как я буду жить в Калюкине, как я буду ходить по маленькой улице в маленький магазин за хлебом… Как я буду работать… Где? В местной школе? Нет, я не учительница. Я бесконечно уважаю хороших учителей. Но сама быть учительницей не могу. Я не могу объяснять другим то, что сама отлично знаю, что слишком просто и можно понять за минуту.
Так где бы я работала в Калюкине? Я ведь уже себя спрашивала об этом. Но не шла дальше смутной и приятной картинки, как я бреду по осенней улочке за хлебом, по шуршащим листьям, смотрю на золотистые березы, краснеющие клены и серебристые ивы, спускающиеся из некоторых дворов прямо на асфальт, так, что приходится их обходить, шагая на проезжую часть, по которой в час проезжают три машины, одна из них как раз везет свежий хлеб в тот самый магазинчик, один из двух в городке…
Я всё придумываю. И машин в Калюкине больше, и магазинчиков хватает. Я грежу о чем‑ то забытом – может, такой городок я видела в детстве, или есть такие городки где‑ то в глубине России, куда ни добраться, ни доехать – на перекладных разве что, с одного автобуса на другой, на своей машине по тем дорогам проедешь только в одну сторону, пока не убьешь ходовую. Там пьют и умирают. Рождаются уже в других городах, побольше, где есть нормальные больницы, нормальные дороги, где можно найти работу. Замкнутый круг? Вероятно.
Увы, я не реформатор и даже не член какой‑ либо партии. Я… Я просто устала от шума, грязи, чужих лиц, чужой речи вокруг – в моем собственном родном городе, я задыхаюсь от выхлопных газов, я чувствую бессмысленность своей работы и всей своей суетной жизни.
И еще. Я очень хочу утром перемолвиться с кем‑ то словом. Прижаться щекой и сказать: «Пора вставать – утро…» Я…
Так, все, решено. Я не буду больше разводить соплей на эту тему. Я просто поеду в Калюкин. А там посмотрим. Ничего решить, сидя в центре родного, но осточертевшего мне мегаполиса, я не могу.
Сумка моя до сих пор не разобрана, положить еще пару вещей. Взять отпуск на работе, тем более что предыдущий я не использовала, два выходных плюс… скажем, пять дней. Договориться на радио… Позвонить Верочке, удостовериться, что в ближайшие дни она не потеряет смысл жизни. И Герде. Жене звонить не буду – его вернувшиеся родители вряд ли сразу снова уедут надолго. А дружбы с мальчиком у нас не получилось. Он меня боится, и для дружбы это – непреодолимое препятствие.
Я ловко обхожу сама с собой один очень важный пункт. А не позвонить ли тому, к кому я еду? Ради кого и из‑ за кого все это устраивается? Нет, не позвонить. А вдруг он ответит мне что‑ то не то? Или же… или же просто не ответит. Нет, нет и нет. Я боюсь? Да, боюсь. Имею же я право бояться чего‑ то, я, бесстрашная и самоуверенная, абсолютно самодостаточная женщина на хорошей машине с хорошей работой и великолепной – для честного заработка – зарплатой?
Я волнуюсь, поэтому не понимаю, что из моих тревожных мыслей – просто волнение, что – предчувствие, а что – глубоко скрытая неуверенность себе. Ведь где‑ то в самой‑ самой глубине души я никогда не перестаю чувствовать свою неполноценность из‑ за того, что судьба не дала мне возможность, простую и естественную для всех, – возможность продлить свою собственную жизнь в ком‑ то другом. Ведь это именно так? Именно в этом великий смысл – в продлении жизни, в наполнении собственной жизни смыслом другой жизни, появившейся благодаря тебе. А разве это не важная цель? Разве ради этого не стоит жить? Ради того, чтобы кому‑ то было хорошо, тепло, надежно рядом с тобой?
Перед самым выходом из дома я быстро просмотрела вещи, которые взяла. Да, зна´ ково. Три красивых платья, – два из них я ни разу не надела, купив в начале лета, еще несколько модных вещей, а также одежда на холодную погоду. Две новые книжки трепетно любимого мною востоковеда Маслова, и, понятно, фотоаппарат… Я надолго собралась или на три дня? Нет! Я не могу ответить себе на этот вопрос. А как же тогда? Отпустить всё и пусть идет, как идет?
Я подумала, что вот уже дня два как не слышу ничьих мыслей. Может быть, всё? Этот вопрос с надеждой я уже задавала себе не раз. И ведь никак не проверишь, по заказу ничего не слышно.
Последний раз на эфире я услышала Генкины мысли – он упорно прокручивал одну и ту же картинку в голове – маленькая тоненькая узбечка танцует перед ним совершенно обнаженная, а он… Вот за что я возненавидела свой дар – за чужой срам, который мне приходится не то чтобы лицезреть, а как будто пропускать через себя, как будто вокруг меня мир наполнился густо переплетенными электрическими проводами, с сильно поврежденной проводкой. То тут ударит, то там, то послабее, а то так сильно, что нечем становится дышать…
– Ген, сосредоточься, – с трудом выдохнула я во время музыкальной паузы, усилием воли пытаясь отогнать мерзопакостную картинку Генкиного стыда и наслаждения. – Ерунду говоришь, не замечаешь?
– Где? Да? – встрепенулся Генка. – А что я сказал? Оговорился, что ли?
– Проговорился. Успокойся, двадцать минут осталось, потом позвонишь своей Фариде и пообещаешь сводить ее сегодня в кино. И все будет хорошо, как надо.
Генка совершенно белыми глазами посмотрел на меня и выплюнул из себя:
– Г‑ гадина! Какая же ты гадина! Где ты все это собираешь, а? И никто, главное, не знает, какая ты гадина. Все думают, что ты такая пушистая и правильная… А ты просто… – Генка мучительно помотал головой.
Сильно ругаться он не мог, сегодняшний редактор, точнее, пожилая редактриса, слушающая нас из‑ за стекла, уже раз пять жаловалась на Генку Лёне, что тот своими матерными излишествами ранит ее христианскую душу. Такие люди тоже, оказывается, работают на балабольном радио.
– Не заводись, – миролюбиво кивнула я Лапику. – А то сегодня опять ничего не получится, на фоне стресса.
Мне показалось, что Генка хочет меня ударить, если не кулаком, то лежащим перед ним толстым словарем ударений, если не словарем, то микрофоном… Вырвать микрофон и дать по башке этой мерзкой, бледной, блекло улыбающейся твари, или прямо по лицу, чтобы не лезла в кишки, чтобы не собирала что ни попадя по коридорам…
Да, интересное чувство – чувствовать, что тебе очень хотят дать по морде, да побольнее. Я интуитивно отодвинулась от Генки, хотя он и так не смог бы до меня легко дотянуться.
– Ре‑ бя‑ та! Да что вы там в самом деле! Десять секунд до эфира! И повеселее! Тема такая сегодня, а вы что‑ то…
Вторая тема и вправду была веселая, особенно для нас с Генкой, – надо ли все свое свободное время проводить с детьми, или все же оставлять немного на себя? И являются ли дети частью собственного «я»? Может, кто‑ то где‑ то и поговорил бы на эту тему интересно и серьезно, но вот именно мы с Лапиком… Генка все острил и острил, а было не смешно, я поначалу пыталась ему подыгрывать, а потом перестала.
– Да, вероятно, это так и есть. Ребенок – часть тебя. Информационная, энергетическая, эмоциональная, даже физическая. Ведь если больно твоему ребенку, тебе тоже больно…
– …сказала Борга, у которой деток нет и не намечается. Или намечается, а, Ликуся? Что‑ то ты вдруг забыла о своем, с позволения сказать, мужском предназначении и всячески рекламируешь домострой.
– Иногда мне с тобой неинтересно, Ген, – ответила я.
– А иногда оч‑ чень интересно, – интимным голосом проговорил Генка.
– Когда узнаешь про себя что‑ то очень неожиданное? – спросила я, понимая, что нашим слушателям этот разговор становится непонятен и надо побыстрее его сворачивать.
По Генкиному лицу пробежала судорога. Он поднял руки:
– Сдаюсь! Ничего знать не хочу!
Я увидела, как редактор за стеклом покачала головой. Ну да, заболтались о своем, забыли, где мы и что мы.
– А вот мы сейчас спросим саму Боргу, нашла ли она себе жениха? Ведь прошло уже месяца два, как она призналась, что хочет замуж.
Генка вопросительно посмотрел на меня, ожидая быстрого парирования. А я молчала.
– Да, видимо… Вот так, Борга, – пришлось что‑ то невнятное лепетать бедному Лапику. А кто ему обещал поддерживать такие разговоры?
– И все‑ таки про детей, – наконец вступила я. – Да, я думаю, что ребенок – это часть тебя, хотя у меня лично детей нет, как правильно заметил Генка. Но я очень чувствую это пустое место. Я чувствую, что у меня не хватает очень важной составляющей. И мне от этого больно. Поэтому, если дети есть, наверно, правильно отдавать им всё или почти всё. Потому что отдаешь практически самому себе.
– Умно´ и непонятно, – подытожил Генка. – И очень тоскливо. А еще говорят, что с умными женщинами интересно. Я вот, когда вижу умную женщину, сразу вспоминаю свою учительницу по химии. Она была умная и сварливая, ругалась всегда, на всех и за всё. Ей невозможно было угодить. Но зато она читала журнал «Техника – молодежи» от корки до корки. Думаю, могла рассказать что‑ то очень интересное, так, теоретически. А ее все боялись и не любили.
– Ум не влияет на характер, Ген.
– Правда? А что влияет? Ну‑ ка, ну‑ ка, расскажи‑ ка нам, умная Борга!
– Родители. Поэтому, если у тебя дурной характер, то с детишками своими много времени не проводи. Накорми, одень, купи книжку и отойди в сторонку, не влияй своим характером на будущую жизнь.
– Ты сейчас лично меня имеешь в виду? – прищурился Генка.
И я даже не поняла, всерьез ли он обиделся или же поддерживает нашу обычную свару, интересную, с точки зрения руководства, для радиослушателей. Конечно, конфликт – основа любого драматического произведения. А наша болтовня с этой точки зрения тоже небольшой радиоспектакль, во многом импровизационный, но всегда разыгрывающийся в рамках заданной темы.
Я увидела, как на телефоне, лежащем передо мной с выключенным звуком, отразился звонок. «Женя Апухтин, мальчик» – так я записала его еще весной, когда Женя с опаской, но согласился перекусить со мной в каком‑ то кафе, и потом я провожала его домой и познакомилась с его страхами, живущими в стенках. Женя никогда мне еще не звонил. Но вот ответить ему сразу я не смогу, придется подождать.
Я знаю, что Генка умудряется иногда во время эфира коротко отвечать кому‑ то эсэмэсками, но я пока не чувствую себя здесь настолько уверенной и наглой. И думаю, от меня этого и не ждут, по крайней мере наглости. Мною же хотели заткнуть интеллектуальную и интеллигентскую брешь передачи, а не добавить развязности.
Я набрала Женин номер сразу же, как вышла из студии.
– Лика, ты можешь меня забрать?
Мне приятно было слышать, что Женя вдруг назвал меня по имени и на «ты». Так я звала в детстве свою тетю, мамину сестру – просто Милой, не тетей Милой, и не на «вы».
– Забрать откуда, Женя?
– Я сейчас в парке. Просто я ушел из летнего лагеря, потому что все равно скоро в школу… А у меня куда‑ то пропала сумка. Пока я покупал мороженое, сумка пропала. А там все деньги. Сто тридцать рублей и еще книжка. И билет на троллейбус я уже купил.
– Ясно. Где парк?
Мне не все было ясно, но я решила поспешить к мальчику и ничего не выяснять по телефону. Тем более, что кое‑ что действительно понятно. Папа и тетя Лена хоть и вернулись с Северного моря, но опять отдали его в летний лагерь, подозреваю, что в тот же, или пусть в другой. Но Жене не нравится в лагерях, и он там не нравится каким‑ то мальчикам настолько, что ему приходится убегать. Это же понятно. И родителей тоже можно понять. Им спокойней, если мальчик весь день под присмотром – пока они работают. И весь вечер, пока они поют. Они же любят петь, загадочные Женины родители.
А мне? Мне, оказывается, может быть радостно от чужих бед? Ведь это же всё беда – в комплексе. Женя не очень нужен родителям, ему плохо в городском лагере. А я радуюсь и лечу к нему, добрая спасительница. Потому что очень хочу быть кому‑ то нужна. Потому что мне симпатичен этот мальчик. Потому что потому. Я еду.
Глава 38
Женя сидел на лавочке в парке и грыз какую‑ то палочку. При ближайшем рассмотрении она оказалась маленькой сухой рыбкой.
– Хотите? – Женя по‑ детски протянул мне недоеденную рыбку. – Очень вкусно.
– Хорошо, что у тебя телефон хотя бы не украли! – Я осторожно погладила мальчика по плохо расчесанным волосам.
– Да, – кивнул Женя. – Я всегда его в кармане ношу.
– Что, пошли?
Женя кивнул, встал и взял меня за руку. Он даже не спросил – куда. И он взял меня за руку, как будто я имею право держать чужого ребенка за руку и куда‑ то его вести. Поскольку в планах у меня, как и две недели назад, было поехать в Калюкин, куда идти с Женей, я пока понять не могла. Как и тогда, он встал на моем пути. Но я ведь могла бы сейчас отвести его в лагерь. Сбежал – а я его верну. Или отвезу домой. Пусть нерадивые родители – или радивые, не мне же судить и решать, какие они, – определят Жене, наконец, его место. У ребенка заканчиваются каникулы, наверно, нужно покупать форму, тетрадки… Что еще с озабоченным видом, преисполненные сознания собственной значимости, бегут покупать мамаши в конце августа, вызывая у меня неосознанное и вполне понятное раздражение?
– Тебе нужно покупать тетрадки, учебники, ручки, карандаши? Или что‑ то к школе?
– Я не хочу в школу, – ответил мне Женя. – Не пойду. Я не успел отдохнуть. И школу не люблю. Там очень скучно.
И я поняла, насколько же я ничего не понимаю в детях. Ведь я спросила его совсем о другом. И насколько в моей жизни не хватает вот этого – вот этой детской незамутненности сознания, отсутствия взрослой суетной необходимости, жесткой таблицы существования, из которой не вырваться. Твой столбец номер тринадцать, строчка сто тридцать вторая сверху. И всё! Ты там намертво прирос, пустил корни, ты должен соответствовать своей ячейке, тебя не поймут, если начнешь дергаться, пытаться что‑ то менять. Ты станешь изгоем, ты лишишься социальных связей, ты, в конце концов, лишишься самого себя. Ведь ты – то, как тебя воспринимают другие.
Или нет? Или я – это я, мне тридцать восемь лет, я люблю весну и осень, ненавижу насилие любого рода, грубость и хамство, а также безграмотность, лень и нечистоплотность во всем. И именно это и есть я? А не журналист с именем, острый на язык и не боящийся практически ничего? Где я? В чем? В моем одиночестве? В диалогах со стромантой – единственным живым существом в моем доме, кроме меня самой? Во внезапно вспыхнувшей запоздалой влюбленности в Климова, странного человека с чужой, сложной и непонятной мне пока судьбой? В чем – я?
– Вам грустно? – спросил Женя, не отпуская моей руки. – Это из‑ за меня? Вам пришлось прогулять работу? Вас теперь уволят? Папу тоже все время увольняют, когда он прогуливает. Как будто и прогулять нельзя…
Вот она опять, чудесная детская логика. А действительно, пропустила бы я работу из‑ за Жени? Не знаю.
– Нет, просто я задумалась.
– О чем?
Неужели вот так дети спрашивают родителей каждый день? И родители при этом имеют глупость быть несчастливыми, слыша наивные, честные вопросы о них самих? Меня вот никто, кроме Жени, давно уже обо мне так просто, так честно и, главное, так заинтересованно не спрашивал. Даже Климов. Он хоть всё и понимал обо мне, но вопросов почти не задавал. А человеку ведь очень важно, чтобы его спрашивали о нем самом, хотя и не знаю, почему.
– О том… – Как объяснить это мальчику девяти лет? Может быть, как есть? – Понимаешь, я думала о том, что я такое.
– Понимаю, – ответил Женя. – Я тоже часто об этом думаю. Думаю, может, я не человек, а большой кузнечик? Мама звала меня кузнечиком, – он вдруг замолчал. И отпустил мою руку.
Так, хотя бы появилась некая ясность в биографии этого ребенка.
– Ты помнишь свою маму? – спросила я осторожно.
– Да, – неуверенно кивнул Женя. – Она была такая… – Он даже остановился, чтобы подобрать слова. – Ну вот такая… Добрая. И очень красивая.
Да, детский идеал мамы совпадает с мужским идеалом женщины. Она же – любая принцесса из нормальной, пережившей много столетий пересказов и переписываний сказки. Идеальная женщина – добрая и красивая. Про ум, замечу, никто не упоминает. Другие добродетели – пожалуйста. Она может быть щедрой, скромной или, наоборот, самоотверженной и смелой, но, пожалуй, это всё грани доброты. Насколько далека я от идеала? Боюсь, что очень. Красота вообще дело спорное, а вот насчет доброты…
– А я добрая, Женя?
– Вы – да, очень, – не задумываясь, ответил мне Женя.
Я никак не ожидала такого ответа. Приятно и странно думать о себе в таком качестве.
– Знаешь, что? Я вот собиралась поехать в один город…
– В Париж?
– Почему в Париж? – от неожиданности засмеялась я.
– Просто все взрослые хотят поехать или в Париж, или еще в этот, как он называется… город в Америке. Но только не мои папа с мамой. Они любят другой отдых, там, где нет людей.
Интересно, какие они, Женины родители? Папа, который любит прогуливать работу, и приемная мама Лена… Жаль, что об этом не пишет наш журнал – о людях из пятиэтажек. Взяла бы у них интервью, пофотографировала бы тесные коридорчики – если они есть, если комнаты не смежные, углы, заваленные книгами, – так, наверно, живет Женя. Я не знаю, как он живет, я ведь не вошла тогда к нему в квартиру, ограничилась подъездом со страхами.
– Что? – Я спросила прежде, чем сама успела понять, что Женя ничего не говорит.
– Нет, ничего. Я ничего не говорил, – испуганно проговорил мальчик.
– Но ты подумал. Подумал о том, что твоя настоящая мама никогда бы не оставила тебя одного…
Зачем я это говорю? Я ведь делаю ему больно. Я научила саму себя в течение жизни искать и вытаскивать на свет божий глубоко спрятанные внутри меня страхи, сомнения, неуверенность. Вытаскивать, рассматривать при полном свете, ужасаться, насколько они ужасные – мои внутренние враги. И таким образом чаще всего расставаться с ними – если не с первой попытки, то со второй точно. Химеры не выносят белого света, они живут в темноте, внутри, задавленные моими собственными «нет, я не такая», «нет, у меня этого не будет никогда», «нет, я вовсе не завидую», «нет, зачем мне дети, от них одни неприятности…» и так далее…
Но я – это я. К себе я имею право быть и жесткой, и принципиальной, и объективной. А к мальчику девяти лет, который время от времени ночует под елкой с чупа‑ чупсом в кармане, прибереженным на завтрак? Учить его смотреть правде в глаза, той правде, которая может раздавить?
Я быстро обняла мальчика и прижала его голову к себе. Мне самой всегда, наверно, не хватало маминой ласки в детстве. Я даже думала одно время, что у меня никак не включается природный механизм материнства именно по этой причине. Что мама, наверняка любя меня, никак эту любовь не проявляла, пока я была маленькой. А уж когда я выросла, я стала чужой взрослой женщиной, лишь чем‑ то напоминающей ей ту девочку, которая была скрытной и неласковой, – так, по крайней мере, говорит моя мама обо мне маленькой…
Женя не стал вырываться, но и прислоняться ко мне тоже не стал. Он стоял, покорно прижатый к моему боку, и сопел. Я присела на корточки и посмотрела на него снизу вверх.
– Я так делаю всегда сама, понимаешь? Если мне отчего‑ то больно, то я не гоню эту мысль, но и не расковыриваю ее, чтобы поплакать и пожалеть себя. А стараюсь спокойно поговорить сама с собой. И, как правило, это очень помогает. Достаю из души маленькую страшную химерку, которая точит и грызет меня изнутри, встряхиваю ее за шкирку, как грязного котенка, рассматриваю со всех сторон. А она на дневном свету исчезает, растворяется. Ты же помнишь свою маму?
Женя, до этого слушавший меня с интересом, кивнул и, кажется, собрался заплакать. Я взяла его за руку.
– Ты любил ее? Конечно да. И она очень любила тебя. А теперь представь, что у многих детей вообще нет мам. Этих детей собирают в детские дома, и там они живут и без папы, и без тети Лены…
– Я знаю, – прошептал Женя.
– А еще есть такие дети, у которых мамы есть, но они детей своих почти не видят. Мамы очень много работают. Рано утром уезжают на работу, а приезжают, когда ребенок уже чистит зубки и ложится спать.
– Так всегда в «Спокойной ночи, малыши! » говорят, – кивнул Женя, который, слава богу, так и не заплакал.
– Вот именно.
– Но у них есть мама, настоящая мама! А у меня нет…
– Неправда! У тебя есть папа и тетя Лена… – я остановилась.
Как неправда? Вот мальчик и сказал то, самое главное, то, что мучает его, что, вероятно, и является настоящей причиной его страхов и появления всяких вымышленных персонажей, собирающихся выпить у него кровь. Причина – его одиночество в этом мире. А я говорю «неправда».
– Да, правда, у тебя нет настоящей мамы. Но она была, ты ее помнишь. Это уже хорошо. И мама была бы очень несчастна, если бы знала, что тебе теперь без нее плохо. Что… своим уходом сделала несчастным тебя. Понимаешь, что я имею в виду?
Женя неуверенно кивнул.
– Ты помнишь, отчего она умерла?
– Она не умерла, – прошептал Женя.
– Как не умерла?
– Она просто ушла…
Да, я увидела сейчас то, о чем подумал Женя, то, что он знал о своем раннем детстве. Что‑ то наверняка он помнил. А что‑ то ему рассказали. Мама просто собралась куда‑ то и ушла. И больше не вернулась. Ни вечером, ни утром, ни через неделю. Папа плакал, искал ее, ходил в милицию. К ним приходил милиционер. Мамину фотографию, где она смеется во дворе дома, счастливая, с распущенными волосами, даже повесили на специальной доске около милиции, вместе с другими пропавшими людьми. Но маму больше никто и никогда не видел.
Я не стала спрашивать у Жени, как формально решил этот вопрос его отец. Пропавших людей через несколько лет признают умершими по суду, выдают свидетельство. Но детям это все знать, конечно, не нужно.
– Понятно… – Я осторожно погладила мальчика по голове.
Нужна ли ему моя жалость? Не знаю. Тепло – да, может быть, сочувствие, а вот насчет жалости… Ощутив к себе жалость, можно почувствовать себя еще несчастней.
– А бабушка у тебя есть?
– Есть, – равнодушно ответил Женя.
Как же я забыла! Грузная женщина с сильной одышкой, вывернутыми губами и толстыми пальцами в кольцах, так больно выдирающих волосы и царапающих щеки…
– Так, знаешь, что? Давай‑ ка мы купим тебе все для школы, а потом уже пойдем есть мороженое и… – Я посмотрела на Женю. – Точно? Именно кукурузу из баночки? Может, купим настоящую и сварим… дома? Пойдешь ко мне в гости?
– У вас есть собака? – с понятной мне надеждой спросил Женя.
– Нет, но у меня есть необыкновенный цветок, с которым можно разговаривать и который нельзя надолго бросать, иначе он от тоски начинает погибать. Пойдем?
Женя неуверенно посмотрел на меня и кивнул.
Вот, заманила. Собираюсь уезжать в Калюкин на всю жизнь, а подманиваю одинокого ребенка, который с раннего детства знает, что это такое – быть ненужным.
Я решила, что пора закончить непростой для нас обоих разговор, но раз уж и так поговорили о самом больном, все же спросила напоследок то, что уже давно не давало мне покоя:
– Женя, послушай… В первый раз, в самый первый раз, помнишь? Когда я тебя провожала домой и там твой страшный дядька чуть не вылез из стены…
– Уже начал вылезать, – кивнул Женя, – но вас испугался.
– Да‑ да, именно! – засмеялась я. – Меня многие дядьки боятся, и страшные, и очень страшные.
– Поэтому у вас нет мужа и такая красивая машина? – резюмировал Женя.
– М‑ м‑ м… Возможно. Так вот, – я начала очень осторожно, не уверенная, что имею право влезать в душу к мальчику, – в этот самый первый раз, я точно помню, ты мне сказал, что дядя Сережа любит лук, а ты нет…
Женя напряженно взглянул на меня и отпустил мою руку.
– Да, я не люблю лук. От него болит живот и запах ужасный везде…
– Понятно. Но я не об этом спрашиваю. Женя, – я снова взяла мальчика за руку. – Скажи мне, пожалуйста, кто такой дядя Сережа?
Мальчик умоляюще посмотрел на меня. Вот что я делаю? Чего добиваюсь? Доверия мальчика? А зачем? Или это во мне говорит неугомонный журналист, привыкший вытрясать всеми правдами и неправдами из своего интервьюера всё и до последней крошки? Один человек во мне просил меня же остановиться – милый, добрый человек, который любит маму, строманту, покойного Сутягина в молодости и коварного Климова. А другой – жесткий, настырный, любопытный – честными глазами смотрел на маленького Женю и крепко держал его за мгновенно вспотевшую ручку.
Всё. Я знаю. Я поняла. Я увидела. Очень расплывчатый образ мамы – доброй, большой, теплой, сияющей. Мама держит Женю за руку, точно так же, как я сейчас, – крепко, навсегда. (Она – навсегда, я – не знаю. ) А в дверях стоит Женин папа, он же дядя Сережа. Самый прекрасный, ни у кого нет такого папы. Дядя Сережа в форме? Женя плохо помнит, поэтому и я не понимаю. Но какая‑ то фуражка на нем точно была. С золотым блестящим значком. И фуражку эту дали померить Жене. И он сразу понял, что у него теперь есть самый настоящий папа. Потом фуражка куда‑ то подевалась, а папа остался. И плакал, когда пропала мама, – та, настоящая, большая, теплая, которая пахла солнечным лугом и чем‑ то нежным, щемящим душу… И всегда называл Женю «сынок». И пока не появилась тетя Лена, папа никогда не оставлял Женю одного по вечерам и праздникам и не отдавал в городской летний лагерь…
И зачем я сейчас хочу расковырять все это и разрушить мир мальчика? Я собираюсь сделать его другим, этот мир? А каким? Лучше? В каком смысле? Благополучнее? Добрее? Женю будут в этом новом мире больше любить? Кто? Я?
– Я… Он… Мой папа… – Женя чуть не плакал под натиском моей любознательности.
– Не надо, не говори. Я знаю, у тебя очень хороший папа.
– Да… – тихо ответил Женя. – Очень хороший.
– И тетя Лена хорошая.
– Да… – еще тише проговорил Женя.
– Все тебя любят.
Ужас. Что я делаю? Я же ничего не решила для себя. Да и что я могу решить?
– Прости меня, пожалуйста, – сказала я. – Я просто… Тоже хочу быть твоей…
Кем? Ну, Лика, смелее, говори, говори… Что же ты замолчала? Кем ты хочешь быть? Тетей? Очень старшей сестрой? Или, может быть, мамой? Ты решишься сказать об этом мальчику? Нет? Нет. Слишком много обязательств это сразу накладывает на тебя. Ты ведь к такому не привыкла. Со своей бы жизнью разобраться, правда?
– Ты хочешь быть моей…
Нет, нет, Женя! Я не добрая, не большая, не теплая, я еще хуже, чем тетя Лена, от меня не исходит такого света, как от твоей настоящей мамы, которая ушла и просто потерялась много‑ много лет назад. И ты всегда будешь верить, что однажды она найдется. Только будет немного другой. Ведь пройдет много лет.
– Давай съедим очень много мороженого! – весело предложила я. – Разного! С шоколадными шариками, с мармеладками, с вишней, с орехами. Давай? И выпьем по два молочных коктейля. А? Как?
Женя молча смотрел на меня. Нет, пожалуйста, не надо. Я… я не умею так. Я не могу. Мне больно, я не хочу быть виноватой. У меня никого нет, и я ни перед кем не виновата. Разве что перед самой собой за такую свою жизнь.
– Хочешь мороженого? – продолжала настаивать я.
– Да, – покорно кивнул Женя и наконец перестал на меня смотреть.
– Я… Я буду твоим самым лучшим другом. Можно?
– Да, – так же коротко ответил Женя. – Только у меня уже есть самый лучший друг. Витька Лудковский. Мы с ним учимся в одном классе. И всегда садимся вместе. Нас пересаживают, а мы опять садимся вместе. Если надо драться, мы всегда деремся вместе.
– Понятно.
Как‑ то вдруг у меня испортилось настроение. И мне совершенно не хотелось в этот момент доставать маленькую, трясущуюся, мокрую от страха и ужаса химерку из своей души, встряхивать ее, ждать, пока она растает на моих глазах… Сиди уж до лучших времен в компании таких же, тухленьких, подленьких, слабеньких и очень гадких моих же собственных химерок. Сиди и помогай мне выжить в жестоком мире. Ведь с химерками, удобными, тепленькими, родными, выживать гораздо проще. Разве нет?
Глава 39
Кажется, это то, чего я так хотела. Я иду по тихой, совершенно безлюдной улочке. Под ногами шуршат листья. Впереди – дом Климова, уютный, теплый. А в дверях стоит он. И почему‑ то я вижу его с улицы, хотя забор сплошной. И забор какой‑ то не такой, наверно, Климов его поменял. Да и сам он почему‑ то похож на Славу Веденеева, даже медаль надел…
Я проснулась и посмотрела на часы. Половина пятого. Нет, это точно не мое время. Надо спать. Или вставать и что‑ то написать. Иногда ночью так хорошо пишется, когда не нужно срочно по приказу что‑ то заканчивать. Пишешь, а потом утром читаешь и удивляешься. Все‑ таки ночная работа разума идет по каким‑ то другим законам. Но я чаще всего пишу днем – спокойно, логично, просто. Да по‑ другому и не требуется в нашем жанре.
Итак, сон привел меня в Калюкин. А ноги никак не доведут. Я боюсь, это ясно. Я боюсь разочарования, боюсь, что мечта и надежда, не найдя воплощения, превратятся в очередную бледную химеру моей жизни. Вроде моего журналистского поприща. Разве об этом я мечтала в юности? Бегать по интервью, разговаривать со звездами‑ однодневками, фотографировать их диваны и кухни, слушать их глупости и пытаться потом представить их читателям как симпатичных и умных людей, всех без исключения. Все – симпатичные и умные.
А чего хотела я, поступая на журналистику? В семнадцать лет – точно ничего определенного. А вот уж когда училась на журфаке, когда слушала лекции и ходила на семинары, общалась с умнейшими людьми, многие из которых прошли и опалу, и годы бессмысленной работы в советских изданиях, славя партию и стройки века, но сохранили веру в идеалы, честное имя и, главное, талант, я стала представлять себе будущую работу как некое призвание, как поприще, на котором можно что‑ то важное и ценное сделать. А иначе – какой смысл вообще в моей жизни?
И вот я кручусь с фотоаппаратом по звездным тусовкам, вру, пишу то, чего нет… Надо срочно что‑ то менять в жизни. Например, место работы. Или город, где я живу. Или семейное положение. Никто мне ничего не поменяет. Я могу сделать это только сама.
В третий раз Женя меня не остановит. Можно, конечно, было бы взять его с собой… Но даже для меня это было бы слишком смело. Он же не бездомный мальчик. И каникулы у него закончились вчера.
Я решила на сей раз не брать короткий отгул, дождаться моего обычного выходного и поехать. А там – уж как получится. А то в прошлые разы, собираясь на всю жизнь или хотя бы на неделю, я даже не выезжала за пределы МКАД.
Неожиданно мне позвонила мама и попросила приехать. Иногда мы не разговариваем по две недели, а то и больше, а иногда мама вдруг начинает мне звонить сама, о чем‑ то спрашивать, и я понимаю, что у нее скребут кошки на душе, что‑ то, видимо, неладно с мужем или мой сводный брат Валерик учудил что‑ нибудь с очередной невестой, которые все от него сбегают или до свадьбы, или даже после. Тех, которые не сбежали, Валерик бросает сам.
Я, не раздумывая, поехала к маме. И даже не потому, что она попросила меня. Мне самой так хотелось, пользуясь маминой минутной слабостью, почувствовать себя дочкой, посидеть рядом с мамой.
– Ликуся, вот хотела тебя спросить… Когда, знаешь, живешь с человеком много лет, уже так привыкаешь, что… – мама начала разговор издалека.
Я же сразу отчетливо увидела, что болит у моей мамы. Что болит и мешает ей жить.
– Мам, это все такая ерунда, – прервала я ее, даже не дав разговориться. – Отчим тебя любит. А то, что он… – Я посмотрела на растерянное лицо мамы и не стала договаривать. – Просто это возраст. Старость. Не твоя – его. Ты – молодая, красивая, просто очень красивая, я вот тебя не видела месяц или больше…
– С начала лета, – вдруг сказала мама. – Ты ко мне не приезжала с начала лета.
– Я не знала, что тебе это нужно, мама.
– А тебе? Тебе кто‑ нибудь нужен в этой жизни, кроме тебя самой? – стала заводиться мама. – Ты вообще вспомнила, что у тебя есть мать, что ей нужна твоя помощь…
– Какая помощь, мам? – вздохнула я.
Вот, кажется, все сейчас будет как обычно. Пять минут теплых чувств – а как иначе – родная, самая родная кровь, а потом – упреки на пустом месте, быстрая ссора и многомесячная глухая оборона со стороны обоих противников.
– Мало ли какая помощь! У тебя же никаких проблем, ни семьи, ни детей, могла бы позаботиться о матери, – твердо сказала мама. Видимо, не раз думала об этом.
– Какая тебе нужна забота, мам? Скажи, и я буду заботиться. Если больше некому, – все‑ таки сказала я, хотя, возможно, и не стоило говорить последнее.
– Это тебе нужна забота о ком‑ то, тебе нужно заботиться, чтобы совсем не засохнуть, не превратиться… – Мама замолчала, или не придумала, или побоялась произнести что‑ то, чтобы совсем не поссориться. – Просто ты всегда была эгоисткой, а к старости вообще стала…
– Мам, мне тридцать восемь лет, я пока не думаю о старости.
– А напрасно! Она наступит гораздо быстрее, чем ты думаешь. И некому будет принести тебе стакан воды.
– Что ты предлагаешь? Взять приемного ребенка?
– Да упаси боже! – Мама так энергично замахала руками, как будто я ей предложила взять приемного сына или дочку. – Нет! Но просто…
– Ладно, – я допила чай, остро пахнущий какой‑ то горьковатой травой. – Чем я могу тебе помочь?
– Ликуся, видишь ли… Я ведь все поняла. Ты меня тогда спрашивала про бабушку, а потом я по телевизору слышала, что о тебе говорят…
– Так‑ так‑ так, вот это интересно. И что же ты слышала?
Мама отмахнулась.
– Слышала то, что ты прекрасно знаешь. Глупости всякие. Но я поняла, что у тебя проявились эти способности… Я всегда знала, что ты очень чудная девочка росла.
– И?.. – Я внимательно смотрела на маму, и, кажется, ей уже не надо было ничего говорить.
– И… – Мама растерянно посмотрела на меня.
– Понятно. Хорошо, я попробую. Только ничего не обещаю. Вообще‑ то это очень нехорошо, но ради тебя я попробую. Хотя по заказу у меня обычно ничего не получается, имей в виду.
– Почему это нехорошо? – подбоченилась мама. – Что в этом нехорошего? А врать и бегать от меня неизвестно к кому и куда, это – хорошо? Он…
– Мам… – я положила руку на ее запястье. – Я же сказала – я попробую. А нехорошо – лезть на запретную территорию чужих желаний. И потом. Ведь я не смогу сказать тебе, куда бегает отчим, если бегает. Скорей всего, я смогу только понять, чего он хочет или боится, или от чего мучается. Вот и все.
– Вот‑ вот! Так это самое главное – чего он хочет!
– Хорошо, зови его на чай.
Я знала, что отчим никогда даже не высунется из своей комнаты, когда прихожу я, если мама его не позовет, а попросту говоря, не разрешит ему выйти со мной поздороваться.
– Петруся! – Мама совершенно другим голосом, сладким и умильным, пошла звать отчима.
Она всегда с ним так разговаривает, всю жизнь. Когда‑ то мне было обидно, потом стало смешно, потом стало раздражать, а теперь я просто знаю, даже не слыша слов: если мама говорит так, как будто к ней навстречу бежит полуторагодовалый малыш, первый или второй раз в жизни отважившийся на самостоятельную прогулку по квартире, – это она беседует с отчимом.
Пока мама, скорей всего, наставляла отчима, как со мной себя вести – то есть, излишне не кокетничать, не обращать внимания на мои невыразительные женские прелести и так далее, я осмотрелась.
Как больно и невыносимо мне было расставаться со своим домом, когда в двадцать три года я стала жить одна. Как я тосковала без своей комнаты с большим окном на запад, где я допоздна делала уроки и готовилась к сессиям в университете. Как мне не хватало этой вот кухни, большого круглого стола и моего места, которое никто никогда не занимал, – у нас в семье все всегда садились только на свои места за столом.
Я тосковала, я не могла привыкнуть, я приходила к маме и всегда под любым предлогом старалась остаться подольше, желательно заночевать, поспать в своей кровати, но мама жестко и четко ограничивала мой гостевой срок: попила чаю, рассказала новости – и извольте, у нас свое расписание, нам надо рано ложиться, а вам завтра не надо так рано вставать, как нам, вы люди свободные, богемные, что‑ то там пишете незнамо что…
– Во‑ от… Ликусенька, а вот и мы! – Мама подтолкнула замешкавшегося в дверях кухни отчима. – Петр Евгеньевич с нами хочет попить чаю, ты не возражаешь?
– Я – нет, – ответила я и постаралась не продолжать, хотя могла бы.
Зачем маме мое остроумие? Я бы, конечно, могла сейчас поострить, пошутить – и насчет маминого красного платья с золотым бантом, которое она успела надеть, пока я предавалась воспоминаниям, и насчет того, кто на самом деле возражает против моего общения с отчимом, и насчет его коричневой велюровой пижамы, – или одной и той же многие годы, или все же просто одинаковой домашней пижамы, которую мама покупает ему для удобства и вообще – чтобы не соблазнял зашедших на огонек к маме подружек и родственниц, в том числе ближайших, особенно зловредных и одиноких, вроде меня. Уж больно жалко и смешно выглядел отчим, совершенно нормальный и вполне симпатичный старичок, в этой мешковатой, застиранной – мама разрешает всем носить только чистое и очень чистое – плюшевой пижамке.
– Я – только за. Петр Евгеньевич, как самочувствие? Сто лет вас не видела. Чем занимаетесь, чем развлекаетесь?
– Лика? – Мама вопросительно подняла тщательно выщипанные и заново нарисованные коричневым карандашом брови.
– Милочка, – отчим улыбнулся всеми своими оставшимися зубами маме, – я расскажу Ликусе, над чем я работаю, можно?
– Расскажи, расскажи, – прищурилась мама.
А я в который раз подивилась чудесам природы. Вот ведь живут же они так много лет, в таком симбиозе. Полуторагодовалый Петр Евгеньевич, который спрашивает у мамы разрешения посетить лишний раз ванную комнату, – по крайней мере, объяснения мама точно требует, если вдруг туда зачастить. И моя неувядающая мама в красных, ярко‑ зеленых, золотых, перламутровых нарядах, которые приобретаются теперь уже на скромную пенсию и еще более скромные гонорары от статей отчима, которые он аккуратно и регулярно пишет во всевозможные технические журналы.
Валерик, их сын, получился такой же беспомощный, как Петр Евгеньевич, и такой же нахрапистый, как мама. Он может взять и привести ночевать жену лучшего друга (которая непонятно зачем соглашается прийти к нему – толку от Валерика пока не было ни одной женщине). А утром, спрятавшись в маминой спальне, просить маму вежливо выпроводить подружку восвояси…
Отчим тем временем стал подробно рассказывать очень интересную и совершенно непонятную статью о молекулярном строении какого‑ то белка, которую он только что закончил. А я неожиданно увидела совсем другое. Птичий рынок? Ведь это только на птичьем рынке стоят тепло одетые люди с замерзшими котятами и щенками в коробках и старых кофтах. Значит, птичий рынок. Милая женщина с окоченевшими руками, гладит белого котенка, тот прижимается к ней, сам дрожит… Где же и когда так было холодно? В прошлом году, что ли? Пока еще холода не наступили, все ходим раздетые… И милая‑ милая женщина так нежно улыбается, так хочет, чтобы Петр Евгеньевич еще поговорил с ней – о котенке, о ней самой. И он говорит, говорит, а внутри становится так тепло, так чудесно, так непривычно… И мир такой светлый вокруг, и самому хочется улыбаться, говорить что‑ то хорошее, и даже прыгать, прыгать легко и высоко, как в пять лет…
Вот, не зря я думаю о Петре Евгеньевиче – «детский сад, штаны на лямках». И мама, похоже, не совсем зря волнуется и ревнует. Я перевела взгляд на маму. Она, напряженно выпрямив спину, с хрустом разреза´ ла вафельный торт, который я ненавижу, ненавижу с самого детства – даже когда в доме не было никакого сладкого, я не съела бы ни кусочка этого торта добровольно. Разреза´ ла и поглядывала на меня.
Она уже поняла, что я знаю. Можно не пытаться врать и покрывать Петра Евгеньевича. А что ему скрывать? Что прошлой зимой на птичьем рынке он увидел милую женщину и не может ее забыть? А разве есть что‑ то еще? Мама, видя сомнение на моем лице, вопросительно подняла брови. Да, вот вроде и не инопланетяне мы, а общаемся как‑ то… Ведь и от моей мамы никогда ничего не скроешь, как ни старайся. Я замерла от неожиданной мысли. Вот сейчас мама мне ответит: «Не скроешь, разумеется! » Но она молчала. Правда, с таким странным выражением на лице, что, казалось, она просто не хочет себя выдавать. А на самом деле – сама такая же, как я…
Нет, это я придумываю. Иначе не стала бы она просить меня залезать в душу и в мысли к ее драгоценному Петру Евгеньевичу. Так все же что там такое с котятами и милыми незнакомками? Видно, Петр Евгеньевич перестал о ней думать. Потому что я не видела и не понимала ничего. Хотя… А вот это? Озерцо, лодочка, желтые кувшинки, милая женщина в светло‑ голубом – само собой, в каком же еще! – платьице… Смеется и смотрит на Петра Евгеньевича, как на самого лучшего, самого‑ самого… А он гребет, гребет, такой сильный, уверенный в себе, такой молодой и прекрасный… Ого, ничего себе, как, оказывается, и моему затюканному отчиму хочется быть не обласканным и одновременно униженным, а вот так, как смогла та незнакомая мне женщина и не смогла моя мама, – любимым и уважаемым, вероятно.
– Ликуся, – вдруг обратился ко мне отчим, в нарушение неписаных законов нашей семьи – без маминого разрешения никто не начинает посторонних разговоров за столом, ведь неизвестно, в какую сторону они еще разовьются, эти разговоры. – Тебе нравится работать на радио? Я слушаю твои передачи. Мне кажется…
– Петя? – Мама подняла нарисованные брови.
Я улыбнулась маме и постаралась побыстрее ответить отчиму:
– Мне нравится, Петр Евгеньевич. Но не очень. Это все бессмысленная суета. Мне все чаще кажется, что я занимаюсь суетной и бесполезной работой.
– Ну ты, конечно… – Мама горько засмеялась. – Вот что за человек, а! Такого достигла! Ей платят деньги за ум, за профессию, такая ведь редкость! А она еще жалуется! Вместо того, чтобы благодарить родителей и Бога!
– А в каком порядке, мам?
Зачем я это спросила? Мама обдала меня ледяным взглядом и вздернула подбородок.
– Ты невыносима, всегда была невыносима, и с возрастом становишься… – мама задумалась.
– Еще невыносимее, – засмеялась я.
Отчим на всякий случай вытер губы и отложил кусок сыплющегося вафельного торта. Сейчас лучше себя вести хорошо, прилично, не пачкаться и не провоцировать мамины негодующие репризы. «Сначала научись себя за столом вести, потом уже встревай в разговор! », «Куриные мозги и сопли до пояса, даром что доцент! » и тому подобные, до боли знакомые с детства.
– Будешь роптать, у тебя все отнимут! – сказала мама непонятно кому. По смыслу мне, но почему‑ то при этом смотря на бедного отчима.
– Может, оно и к лучшему, – вздохнула я, имея в виду и себя, и отважившегося на тайную влюбленность Петра Евгеньевича.
Интересно, насколько далеко у него все зашло? И может ли вообще куда‑ то зайти, человек уже немолодой? Словно в ответ на мои мысли отчим опустил голову и стал чертить что‑ то пальцем на скатерти.
– Не ковыряй стол! – прикрикнула мама, но не зло, а как‑ то беспомощно.
Круговая оборона, она права. Она почувствовала, что я, как обычно, не пойду ей навстречу. Что я, злая и неблагодарная девчонка, не встану на сторону мамы. Я вообще ни на чью сторону не встану. Попью горький пряный чай, пахнущий аптекой, – наверняка мама положила в заварку мочегонные, успокоительные и еще какие‑ нибудь лечебные травы, – скажу невзначай что‑ нибудь обидное и уйду.
Почему так получается? Словно не мамина кровь течет во мне. В детстве я часто думала, что я приемная дочь. Так несправедлива часто бывала мама. Но Валерик всегда был маленький и больной. Больной и маленький. А я старшая и здоровая. И еще вредная и скрытная, по крайней мере, так всегда говорила мама, видимо, не зря. Ведь если бы я была приятной и милой, открытой и доброжелательной девочкой, меня бы, наверно, не одевали зимой в темно‑ коричневую шубу, похожую на старого облезлого медведя, а весной и осенью – в темно‑ зеленое пальто, перешитое из старой плащевки отчима, и не посылали бы на все лето, забывая о моем существовании, в деревню, где когда‑ то жила моя прапрабабушка‑ чародейка.
По крайней мере, так казалось мне маленькой – казалось, что в мире все несправедливо. И мамино отношение ко мне, и папино одиночество, и всеобщая любовь к маленькому лживому Валерику, и безропотное послушание отчима, который мог по маминому приказу запереть меня в комнате на всё прекрасное солнечное воскресное утро, тяжело вздыхая и пряча от меня глаза. Все мои подружки весело бегали во дворе, а я думала о несправедливости жизни и шила кукле платье из своих старых зеленых колготок.
– Ну что ты, что? – В сердцах мама бросила на стол ложку и попала в чашку с недопитым чаем.
По неписаным и загадочным законам нашей семьи брызги от чая попали на Петра Евгеньевича, хотя по нормальным законам физики это было бы просто невозможно, он слишком далеко сидел.
Петр Евгеньевич вытер лицо салфеткой, которая была повязана у него на шее поверх плюшевой пижамы и тихо сказал:
– Извини, Милочка. Всех нас извини. Вот так получается.
– Что у вас получается? Что? Вы сведете меня в могилу, что ты, что твой сын, что Лика!
– Да‑ да, ты права, – бормотал отчим, собирая дрожащей рукой крошки вокруг своей тарелки. – Только не волнуйся и не кричи.
Это правда симбиоз. Единственная форма существования этих двух людей, при которой им хорошо. Иначе давно бы что‑ то изменилось.
Петру Евгеньевичу хорошо, когда его ругает и прощает моя мама, когда она, уверенная, нарядная, ходит по дому с видом вдовствующей королевы и воспитывает своих нерадивых сынков, которые никогда не дождутся своего царствования, – ни‑ ко‑ гда!
А маме хорошо, что вокруг все такие нерадивые, такие недостойные ее, королевы, что никто и никогда не дотянется до ее царственных высот, никто не свергнет ее с трона, который она сама себе воздвигла, потому как обладателям куриных мозгов и вечно спадающих штанов это просто не под силу.
А милая незнакомка в нежно‑ голубом платьице… Что будет с ней делать Петр Евгеньевич, который за всю жизнь не купил себе ни одной рубашки, ни разу не решил, где проводить отпуск, да и, по‑ моему, ни одной копейки из зарплаты не потратил сам. Будет кататься на лодочке и продавать на птичьем рынке котят по пятнадцать рублей за самого красивого и пушистого?
Я взглянула на Петра Евгеньевича. А кто его знает? Вот возьмет и бросит мою маму. Что она тогда будет делать? Перед кем красоваться в золотых платьях? Для кого делать вечную стрижку а‑ ля Мирей Матье волосок к волоску и душиться рижскими духами «Северный ландыш»? Кого кормить здоровой пищей, встряхивать голодными днями на несоленой гречке, неустанно лечить до полного выздоровления и воспитывать, воспитывать? Ведь в этом и состоит ее жизнь. Мамина работа в какой‑ то бухгалтерии давно закончилась, ее уволили задолго до пенсии, и она так и не нашла себе подходящего места.
– Так, – сказала я, уверенная, что отчим все поймет. – Не шалить и маму не обижать! А то заколдую. Пойду я, мам. Труба зовет.
– Труба… или…? – мама прищурилась.
– Или черти полосатые, все правильно, мам. Сама не знаю.
Я не стала дожидаться, что скажет мама. Пусть она лучше всё выскажет отчиму или Валерику, когда он вылезет из своей комнаты поесть любимого вафельного тортика – хрустящего, обсыпанного жареными орешками, пахнущего горчащим миндалем и приторной, навязчивой ванилью.
– Валерке привет! – крикнула я уже от дверей и не услышала, а знала, что скажет мама: «Да тише, Лика! Мальчик спит! »
Говорят – точнее, не говорят, а думают ученые, на основании своих опытов, – что дольше всех живут и меньше всего болеют приматы, у которых есть прочные и долговременные дружеские связи. Именно дружеские, а не любовные. Причем касается это только самок. Дружат в мире животных только самки.
Например, обезьяны‑ самки ищут друг у друга насекомых в шерсти. Самцы при этом в одиночку грызут что‑ нибудь съедобное, спят, дерутся или привлекают внимание самок.
А слонихи стоят вместе и наблюдают за слонятами. А потом вместе гонят их, подталкивая хоботами к тому месту, где они смогут попить и поесть и, набрав в хоботы воды, побаловаться, обливая друг друга прохладной водичкой.
Дельфины вместе плавают на много километров и выпрыгивают из воды – по двое, по трое, находя в этом неизвестное нам удовольствие.
А люди?
У меня, например, нет хорошей подруги. Это значит, что я проживу недолго и буду болеть? Хотя я, возможно, вообще не показатель. И у меня была когда‑ то подруга, которую я считала своей сестрой и компенсацией за то, что в семье я всегда была хуже и нелюбимее Валерика, с которым вечно происходило что‑ то неприятное, что занимало мысли и силы всей нашей семьи, не очень дружной и гармоничной.
Не может быть гармоничной семья, где у одного ребенка один отец, а у другого – другой, и тот другой живет совсем неподалеку. И вдобавок живет один, и очень грустит о своей бывшей семье. Так, по крайней мере, казалось мне. Может быть, я чего‑ то не понимала, и папа был абсолютно счастлив жить один и работать, работать, изобретая, открывая и постигая тайны нашего мира. И ему вовсе не нужна была мама и даже я.
Но тогда почему же он всегда так долго держал меня, прижимая к себе мою голову, перед тем, как я уходила, и говорил всегда одно и то же: «Придешь домой, и сразу собирайся ко мне обратно, хорошо? Чтобы к послезавтра собраться. Или, на худой конец, к субботе. Да? » И всегда дожидался моего «да» в ответ, моего обещания прийти. Зачем я была ему нужна? Он со мной не играл, не делал уроки. Я просто сидела рядом и смотрела, как папа собирает очередную загадочную конструкцию, которая должна была преодолеть силу тяжести Земли, или опровергнуть всем известную теорему о вращательном моменте, или же каким‑ то неожиданным образом преломить свет – так, чтобы в зеркале увидеть не себя, а свою бабушку, на которую ты похожа. Так объяснял мне папа. И я сидела, замерев, и была счастлива непонятно от чего.
Человеку нужно постоянное подтверждение того, что его личность больше его собственного «я», а именно: что он нужен кому‑ то. Причем нужны не его деньги, возможности, даже не его знания. А именно он сам. Маленький, большой, слабый, сильный, больной, здоровый – нужен близким, вообще кому‑ то нужен. Без такого подтверждения перестают правильно работать иммунные механизмы, и человек начинает болеть. Это программа, заложенная в нас высшим разумом, или просто способ выживания в этом мире? Или же это одно и то же…
Глава 40
Путь мне предстоял неблизкий. Ведь я ехала в другую жизнь. И совсем близкий. Какие‑ то двести тридцать семь километров, если считать линейкой по карте. И около двухсот шестидесяти, если верить счетчику километров в машине.
На сей раз я ничего с собой не брала. Все можно купить. И праздничное платье, и осенний шарф, и даже любимые книги. Я взяла лишь компьютер и только что вышедший новый журнал о человеке, природе, новостях науки – обо всем том, о чем не пишет наш собственный уважаемый журнал.
Ночью перед дорогой мне приснился не очень приятный сон. Как будто я еду в своей машине, в которой, кроме меня, сидят какие‑ то дети, школьники. А за рулем не я, а моя покойная бабушка. И мы едем по таким колдобинам, по такому бездорожью! Мне очень жалко свою машину, мне кажется, что она вот‑ вот развалится. И я прошу бабушку, ни разу в жизни не сидевшую за рулем: «Аккуратнее! Потише веди! » А бабушка смеется и лихачит на неимоверных буграх и рытвинах. И вот мы подъезжаем к какой‑ то горе, в которой прорыт тоннель, вернее, его только роют, молчаливые недружелюбные рабочие роют лопатами. Я вижу узкий, неровный вход, в который невозможно не то что въехать, а и просто войти. И я понимаю, что сейчас мы поедем, по колдобинам и ухабам, в этот земляной тоннель. И я вижу землю, наспех, неровно разрытую, и чувствую, как страшно и плохо будет там, в тоннеле…
Как вовремя заиграл будильник! Заиграл весело и настырно «Хава нагилу», старинную еврейскую танцевальную мелодию, под которую очень здорово вставать в половине седьмого утра. Ни подо что другое мой организм так легко не соглашается расстаться со сном, даже наполненным правдоподобными и очень зна´ ковыми кошмарами.
Стоя под горячим душем и время от времени с неохотой переключая воду на прохладную, я пыталась не думать о том, что не очень хорошо в дорогу видеть свежий земляной тоннель, в который везет меня на подозрительно шаткой машине моя бабушка, умершая несколько лет назад. Меня и каких‑ то шумных школьников, почему‑ то показавшихся мне моими нерожденными детьми. Так обычно говорят о тех детях, от которых избавились до их рождения. Но я знаю, что хоть я и не избавлялась – мне не от кого было избавляться, – я что‑ то сделала в жизни не так. Не туда шла, не тех любила, раз у меня нет и не было детей. Здоровье – это тоже результат всей предыдущей жизни. Даже если она была вполне правильной. Ведь вредные привычки – это только самое очевидное, за что себя можно поругать.
Я иногда их где‑ то чувствую – тех детей, которые должны были у меня родиться. Как будто действительно их души живут где‑ то рядом, в некоем неизвестном и непонятном нам пространстве, и мой долг был – дать им жизнь в нашем мире.
«Действительно» – это я соглашаюсь с бесчисленными поколениями предков, веривших в гораздо более сложную жизнь, чем та, какой она представляется нам. Родился‑ пожил‑ умер. И о тебе забыли. Тебя больше нигде нет. Как страшно рождаться в таком мире, как страшно жить. Насколько приятнее думать, что моя бабушка не совсем ушла. Просто у нее теперь нет тела. А она где‑ то здесь, и всегда можно ее позвать. И она ответит – не словами, и даже не явными знаками. А ответит так, что душе моей станет тепло и понятно – бабушка меня слышит и любит так же, как любила при жизни. И ей очень приятно от того, что и я ее не забыла, что и она мне нужна. И ниточка жизни становится бесконечной, она не прерывается в тебе самом, с последней минутой твоей жизни, о которой можно, конечно, не думать, но не знать о ней невозможно.
Я часто смотрю на стариков и думаю, как же им живется, когда жить осталось так мало. Никто не знает свой срок на земле, это понятно. Но почти никто и не живет больше положенного. А положено нам, как известно, очень мало.
Какие у тебя были обстоятельства, Господи, что ты, вечный, положил нам такой короткий срок? Больше, чем у львов, тигров и мудрых дельфинов, но гораздо меньше, чем, скажем, у деревьев. Вот смотри: я только‑ только становлюсь умной, мне только‑ только стало понятно, как жить. А сил жить становится все меньше. И я уже не пойду учиться на врача, в сорок лет, даже если всей своей жизнью поняла – больше всего я хотела бы лечить людей, особенно детей. И я не смогу уже родить троих детей, даже если проснется во мне тот спящий ген, ответственный за то, чтобы я, Лика, когда‑ нибудь не умерла совсем, а продлилась своими чувствами, мыслями, своей плотью и кровью в ком‑ то, сотворенном из меня самой. А именно троих, не меньше, я хотела бы иметь – похожих на меня и еще на кого‑ то, очень близкого и родного. И все разные. Каждый со своим огромным, бесконечным миром, радостным, пугающим неожиданностью, сложностью…
Полагаю, мне действительно надо поменять место работы – мой журнал. Ведь есть же издания, где пишут как раз о том, о чем я неустанно размышляю. Только платят там раз в сорок меньше, чем нам, балаболкам и весельчакам из трех‑ четырех популярнейших изданий, подходящих большинству населения как раз своей глупостью.
Нет‑ нет, вовсе не глупо большинство населения! И вовсе не обезьяньи это гены. Ведь и боги – те, простые, нормальные, которые были до нашего настоящего Бога, непостижимого и таинственного, – и греческие, и славянские, и сотни древнейших божков и духов у восточных, африканских, индейских народов – они тоже были простоваты и обожали повеселиться. Простоваты, как мы, – в массе и по сути своей.
А что похожи мы в своем стремлении посмеяться по любому поводу на обезьянок… Так это они на нас похожи, на умных, красивых и богатых дальних родственников, а не мы на них. Гены общие точно есть, но не больше, чем с неандертальцами, которых когда‑ то мы, то есть наши прямые предки, след которых обрывается – или, вернее, начинается лишь сорок тысяч лет назад, – с аппетитом и безо всякой жалости съели.
Я еду к тебе. И думаю о всяких глупостях. О съеденных неандертальцах, о троих нерожденных детях, которых родить я не могла, по неизвестной врачам, но какой‑ то весомой причине. Я думаю о том, как хорошо, что все люди ничего не знают и не понимают об окружающих, как тяжело и чаще всего неприятно заглядывать в чужую душу. Я думаю о чем угодно, только не о главном. Почему же после трех чудесных дней, когда замерло время и жизнь вдруг наполнилась музыкой и красками, которых в ней никогда не было, – ну могу я позволить себе чуть‑ чуть глупой и простоватой лирики, хоть иногда, хоть временно, – почему после всего этого ты мне ни разу не позвонил? Не написал, не чиркнул хотя бы пару слов… Теплых… Любых… Не спросил – как я теперь живу, не сказал, как он теперь живет… Может быть, потому, что я опять надела свою темно‑ серую куртку в стиле агрессивной, свободной от всего и всех истинно европейской женщины, готовой с ходу укусить любого, кто усомнится в ее равных правах с мужчинами, обвешалась аппаратурой и проводами и побежала брать интервью у очередной певички‑ однодневки? Спрашивать ее о том, как она относится к своей легковесной славе? Спросила, выслушала невыносимый бред безграмотной и потерявшей голову от свалившейся на нее славы девицы и помчалась на радио – хрипловато смеяться над неумными Генкиными шутками и шутить самой, шутить, шутить, умно, тонко, переворачивая смыслы и сопрягая невозможное, наслаждаясь своим собственным интеллектом… Ни на йоту не сделавшим меня счастливее.
Ответ так близко, и он невозможен. Поэтому он блокируется мощными природными механизмами. Я же не могу сказать себе, что я просто оказалась совершенно неженственна, неинтересна и не нужна тебе. Вот мне в кои‑ то веки кто‑ то понравился, а я кому‑ то – нет. Зачем же я буду разрывать себя на части таким знанием? Нет. Поэтому каждый раз, доходя до очевидного ответа, я резко сворачиваю на другую тему.
Например, откуда все‑ таки пришли те белые бородатые люди, которые научили индейцев всему вообще – считать, смотреть на небо и видеть там не светлячков, а созвездия, научили записывать слова, лечить. Ужасно интересно, разве нет? И куда они потом делись, зачем и куда уплыли, пообещав вернуться и не вернувшись никогда? И кто были первые египетские цари, тоже принесшие все возможные и невозможные знания древним египтянам, знания, которые те теряли, теряли, превращали в сказочные мифы, забывая смыслы, истинные связи, предназначение многих тайн? И кто были мои собственные предки – может, как раз те белые бородатые люди, расселившиеся по всей земле с неведомого континента, покрывшегося льдами, и принесшие таинственные знания ловким, хитроумным кроманьонцам, которые только что плотно отужинали неуклюжим неандертальцем, мозг которого был тем не менее на треть больше моего? И самым любимым лакомством моих «пра‑ пра‑ пра» были именно сочные мозги параллельной цивилизации, проигравшей нам в чем‑ то главном? В чем? В хитрости? Или всё вообще было как‑ то не так?
На последнем повороте к Калюкину я притормозила и съехала на обочину. Все‑ таки я, кажется, очень опрометчиво поступаю. Надо хотя бы позвонить.
Я достала телефон. Набрала номер. Нет. Я быстро нажала отбой. Я боюсь. Я не хочу услышать вежливое «Как дела? И у меня в порядке. Ну, пока». Я решила – и я еду. Я нормальная европейская женщина, с перегруженными мозгами, у меня есть работа, очень престижная, есть свой дом, я уверенно передвигаюсь по земле на собственном транспортном средстве. У меня даже имеется неплохой банковский счет – достаточный для того, чтобы чувствовать себя спокойной и не бояться банальных жизненных коллизий.
И что из того, что он не позвонил и не написал пару слов? Вообще ничего не написал… А я села и приехала. В конце концов, я просто приехала. Я, может быть, подыщу там себе домик на берегу озера. И куплю его. И буду приезжать три раза в год. Да, так я и скажу ему, если почувствую, что зря приехала. Я просто приехала, потому что мне понравился этот городок. Я хочу о нем написать. Или рассказать радиослушателям. Им будет очень интересно, как живут люди в двухстах пятидесяти километрах от Москвы. А живут они совсем по‑ другому. Получают в месяц семь тысяч рублей, если очень повезет, не имеют в городе травмпункта и спешат в магазин за хлебом, когда его привозят на шатающемся грузовике, на котором кто‑ то еще при старом режиме написал синей краской «Хлеб» и нарисовал улыбающегося поваренка, твердо уверенного в том, что, когда он вырастет, хлеб, как и всё, будут раздавать бесплатно – коммунизм же! Спешат, едва заслышав знакомый скрежет дряхлого грузовичка, за свежим хлебушком, потому что потом не будет никакого.
Я въехала в Калюкин и остановилась. Вышла подышать. И тут же заставила себя сесть обратно в машину и ехать дальше. Невозможно обманывать саму себя. То есть возможно, но от такого обмана становится очень тошно.
Пока я ехала по городку, в душе моей неожиданно стало очень спокойно. Было уже десять утра. Все, кто собирался на работу, уже дошли. На улицах было почти безлюдно, мало машин. Несколько мам с колясками да пенсионеры, неторопливо бредущие в магазин и в аптеку. Погода была на редкость для конца сентября теплой. Если снимать фильм про то, как одинокая журналистка находит свое позднее счастье, – не придумать лучше. Такое подкрепление основной мысли. И в природе, и в жизни – запоздалое тепло, которого уже не ждешь. И как же оно ценно, как нужно, как почти невозможно…
И не позвонил он просто потому, что побоялся наткнуться на мое вежливое «Как дела? Ну, пока, звони, не пропадай! » Я же суетный житель бешеного мегаполиса, я нахожусь в самой круговерти глупостей и суеты. И пишу, и болтаю на радио, и ношусь по городу. Какая уж тут романтика! Вот и все. Другой причины у него не было.
На улице Коммунистической, на которой в доме семнадцать живет самый лучший детский писатель, самый лучший кулинар, самый милый и обаятельный мужчина, какого я встречала за последние двадцать пять лет, не было вообще никого. Ни бабушек, с сомнением проводивших бы взглядом мою московскую машину, красную, нарядную, – машину, на которой доставлять бы невесту на смотрины, ни собачек с хозяевами, ни даже просто бездомных собак. Пустая безлюдная улица. И издалека заметный рыже‑ коричневый забор, сквозь который виднеется тот самый прекрасный в мире дом, где я хотела бы провести оставшуюся половину своей жизни.
Просыпаться на втором этаже, смотреть на озеро и завтракать, улыбаясь сидящему напротив меня самому чудесному, самому нужному, самому понимающему человеку. Понимающему и меня, и всё вообще. Ему ничего не нужно объяснять, больше вообще не нужно болтать, вышучивать, обсмеивать всех и вся. Не надо врать, притворяться, не надо говорить дуракам, что они умные. И даже не надо говорить, что они дураки. Ведь дураков вокруг меня больше не будет. Будет он и… И, может быть, судьба мне подарит еще кого‑ то? Маленького, упитанного, румяного, веселого, до боли любимого, кому буду нужна я каждую секунду. И чьи шаги, слова, мысли, желания, радости и печали будут нужны мне больше, чем сама жизнь?..
Я остановила машину напротив дома, заеду потом, не буду гудеть на всю улицу, чтобы мне открыли ворота. Я – это все‑ таки я, а не машина, которой нужен парадный въезд. Я прекрасно и с удовольствием войду в калитку, поздороваюсь с Пятьдесят Вторым. Уверена, что он не станет меня обгавкивать. Что он тоже уже давно все понял. И наверняка ждет меня. Так же, как его хозяин.
Калитка была заперта изнутри на крючок, но я легко скинула его. Пёс, как я и думала, не залаял.
Двор был аккуратно подметен. За ночь упало несколько листьев. Очень красиво. Не начать ли фотографировать, чтобы потом сделать фотоотчет для собственного журнала: «Радиоведущая и журналистка Лика Борга приехала к своему лучшему другу в милый провинциальный городок, чтобы остаться там навсегда».
Я прошлась по двору. Как же все‑ таки здесь хорошо! Великолепный воздух, красота. Неужели можно вот так жить круглый год, наблюдая, как опадают листья, сметая их по утрам большим негнущимся веником из березовых веток? И видеть в окне, как падает снег на твои собственные деревья, растущие вместе с тобой, потом как на них появляются ранние почки, как набухают, как лопается первая почка и появляется бледно‑ зеленый листочек, нежный, влажный от наполняющих его соков жизни…
Так, ладно. И где же пес, который ждет меня так же, как его хозяин? Пса не видно. Я прошла к крыльцу. Собственно, я это видела уже давно, просто очень не хотела верить своим глазам. На двери висел большой современный замок, вероятно, немецкий, очень практичный и стильный, покрытый оранжево‑ черным пластиком. Такой же замок, только побольше, висел и на воротах со стороны улицы. Просто я сразу решила его не замечать.
Ставни на окнах дома были открыты. Если бы хозяин уехал надолго, он бы, наверно, закрыл большие старинные ставни… Наверно.
Я обошла вокруг дома. В прошлый раз не было большой старой бочки. А может, было много зелени, и я просто ее не видела. Зачем хозяину дома бочка? Он собирает в нее дождевую воду для полива? А зимой ее распирает ото льда, и она поскрипывает ночью, тревожа чуткий сон верного пса…
Так где же вы оба, верный пес и его хозяин? Поехали на рынок? Купить гуся, свежего творога и капусты? Или к старой учительнице? Да, скорей всего именно к учительнице. Надо посмотреть лодку.
Я прошла на задний двор и спустилась к озеру. Вот она лодка, стоит, аккуратно привязанная у маленького домашнего причала. И вообще все так аккуратно, ничего не валяется, нет никаких оставленных вещей, которые можно убрать вечером или завтра.
Я разрешила, наконец, трезвым мыслям прорваться сквозь погранзаставу моих нелепых чаяний и надежд.
Его нет. Он уехал. Взял собаку, запер дом и уехал. Я ведь даже не знаю, куда он мог уехать. Есть ли у него квартира в Москве или Звездном городке, где он проработал много лет. Я вообще ничего о нем не знаю, кроме того, что было три месяца назад. Кроме того, что он понимает все без слов. Что он смотрел на меня так, как много лет никто не смотрел. С нежностью и восхищением. Что мне понравилось в нем всё. Как он говорит, как молчит, как улыбается, как спрашивает меня о чем‑ то одними глазами и как отвечает, не произнося ни слова. Понравилось, как он пишет, как рисует, как готовит, как ходит, как ведет лодку. Мне показалось, что это моя потерянная половинка. Но ведь это показалось мне. А этого мало.
Хорошо. И что же мне делать? Не уезжать же в Москву сразу. Пойду прогуляюсь по городу, может быть, зайду к учительнице Климова, если найду ее дом.
Я походила еще по двору. Села на большую лавку под дубом. Дуб еще не начал желтеть и облетать. Дубы держатся до самого последнего тепла и до первого настоящего холода. Сдаются последними. Хорошо у себя во дворе иметь такой старый крепкий дуб, с толстым стволом, за которым пряталось не одно поколение ребятишек, пышный, ветвистый, в его тени так приятно сидеть в жаркий день и теплый вечер – это знали все, кто жил в этом доме.
Все, обойду еще раз дом и пойду восвояси.
А за домом хорошо иметь пять березок… Я посчитала – нет, даже семь берез растут у Климова. Кто‑ то рубит деревья, разрастающиеся во дворе. И делает на этом месте клумбу или воздухоотвод для канализации. А кто‑ то оставляет расти. Климов оставил. Я подошла к березкам. Что вам хозяин, правда? Вы и с ним, и без него будете расти и хорошеть. Стволы будут становиться все толще, глаже, ветви по весне распушатся, появятся кокетливые сережечки… А тут и он приедет, похлопает по стволу, проходя мимо, на секунду задержится около своего богатства.
А березы, между прочим, просто очень красивый древесный сорняк. Растут где ни попадя, выживают в сильнейшие морозы и в жару, не требуют ухода. Хорошие друзья, одним словом – крепкие, здоровые, верные. Необидчивые…
Я провела рукой по нежной коре. Передай привет хозяину, когда приедет. Сможешь? Я не буду оставлять ему записку в двери. Не буду писать писем. Не буду звонить.
Я прикрыла за собой калитку, с трудом накинув обратно крючок со стороны двора. Ведь надо оставить все как было.
Когда я отходила от дома, с противоположной стороны улицы меня окликнула женщина:
– К Климычу, что ли?
– Да.
– Ваша машина? – Она показала на мою припаркованную Мазду.
– Моя, – я не была расположена к долгим разговорам и не стала переходить на сторону, где стояла женщина.
– А он уехал! Работать поехал. Он, что, не говорил?
Конечно, я должна была спросить, куда именно он поехал работать. А какая разница? Я рада за него, что он решился уехать. Скорей всего, в космический центр, на административную работу. Или еще куда‑ то, какая разница? Он еще совершенно молодой человек – для того, чтобы сидеть дома, даже если дома и есть такая прекрасная работа, как написание детских книжек с картинками. С тоски писал он эти книжки. А человек талантливый, поэтому писал хорошо, интересно. Все, точка. Я больше об этом не думаю.
– Сказать тебе, куда он поехал?
Соседка перешла на деревенское «ты», напоминающее о том, что всё может быть гораздо проще и естественнее, чем мы привыкли, о том, что мы все живем какой‑ то общей большой жизнью, только обычно об этом не думаем, запираясь в маленьком мире своего огромного и единственного «я».
Соседке явно хотелось поговорить. О Климове, может быть, и о том, кто такая я – откуда взялась, зачем ходила по климовскому двору… Но мне не хотелось пускаться сейчас в беседы.
– Нет! – Я для верности покачала головой и хотела уйти.
– Пригласили его! Работать! – женщина кричала мне вдогонку, как будто это было очень нужно ей, а не мне. – Давай телефон запишу, он оставил, если кто будет спрашивать!
– У меня есть его телефон, спасибо.
Отчего‑ то у меня сильно испортилось настроение. Я шла довольно бодро вперед по улице, не очень зная, куда меня приведут ноги. Обычно в незнакомом городке это доставляет мне удовольствие. Даже если никуда не приведут. Все равно очень приятно – идти безо всякого маршрута и плана, разглядывая то, что попадается по дороге, видя новый город со случайной, любой, не парадной стороны. Но сейчас меня это не радовало.
Магазин «Продукты» – здесь я, кажется, собиралась всю оставшуюся жизнь покупать молоко, хлеб, который заканчивается к трем часам дня, и все остальное. Старая будка от телефона, покореженная. Старая скамейка с облезлой краской на спинке. Из‑ под темно‑ красной видна старая зеленая краска…
Никому ничего не надо. И я собиралась здесь жить? Работать вот в этой школе? Вести литературу, информатику, рисование и все, на что в Калюкине не найдется учителя с высшим или хотя бы средним образованием? Или, нет, я же хотела работать в местной газете! А не зайти ли мне туда? Раз уж я все равно жить и работать здесь не буду. Посмотрю хотя бы, чего лишилась. Чтобы потом не очень жалеть. И не бредить мечтами о гармоничной жизни в маленьком городке.
Где‑ то здесь в центре наверняка есть старый двух– или трехэтажный особнячок, в котором помещаются, теснясь и трудясь на головах друг у друга, отгородившись картонными перегородками, и редакция местной газеты, и единственная страховая компания, и еще пара‑ тройка деловитых фирм, пытающихся заработать хоть сколько на этом городке, заработать быстро и не слишком утруждая себя.
Я прошла по центральной улице, читая вывески и наслаждаясь видом старинных зданий, пусть и довольно запущенных, но каких же милых! Почему‑ то мне кажется, что я когда‑ то жила в одном из этих зданий или подобном им – двухэтажном, затейливо украшенном резьбой и лепниной, бело‑ зеленом… Именно бело‑ зеленом.
А почему это не может быть памятью генов? Если ребенок может спать в той позе, в которой всю жизнь спит его отец, только ребенок этого отца в глаза видит два раза в год – на день рождения и на Рождество и никогда не видел отца спящим, или смеяться так же, как смеялась бабушка, умершая до его рождения, – почему бы и мне не помнить, как я когда‑ то входила вот в такой дом, стаскивала длинные перчатки с озябших рук, оглядывалась на экипаж, привезший меня, на рыжую лошадь с грустными глазами и очень длинными ресницами, красавицу и умницу, которую когда‑ то подарили моей матери на свадьбу… Лошадь была тогда растерянным доверчивым жеребенком и так полюбилась матери, что она проводила все дни напролет во дворе конюшни, гладя ее, кормя, играя с ней, как с большой собакой…
Откуда я все это знаю? Помню? Придумываю? Маму спрашивать бесполезно. Она всего этого не знает и не знала никогда. Все старшие уже умерли, да и не могли они помнить события такой давности. То, что помню я, было в середине девятнадцатого века. Я точно знаю, я видела одежду того времени в книге.
Такие платья, в каком я себя помню, вскоре перестали носить. Вскоре после чего? Я не знаю. Может быть, я – нет, не я, конечно, а та моя прапрабабушка, которую я помню странной, не поддающейся объяснению памятью, – она умерла молодой? Или отчего‑ то перестала быть богатой и модной? Донашивала старенькие, расставленные в талии платья, латала на рукавах дырки, очень их стеснялась…
Как бы я хотела увидеть их всех – всех, чья кровь течет во мне, чья память не дает мне спокойно проходить мимо каких‑ то домов, чьи убеждения, тревоги, страхи и любови передались мне, пусть урывками, клочками неясных воспоминаний или же невозможностью поступить так, а не иначе – без объяснений, без видимых причин, когда что‑ то непонятное сдерживает тебя или, наоборот, толкает на неожиданные и внешне бессмысленные поступки.
Наш семейный альбом начинается только с 1896 года. А раньше? Что было раньше? Кто были мои предки – не кем они были, это я как раз приблизительно представляю себе – и врачами, и купцами, и священниками, и крестьянами, и певцами. Но какими они были? Кто‑ то из них ведь был так похож на меня – скорей всего, именно та моя прапрабабушка, жалевшая рыжую норовистую и грустную кобылку, вовсе не приспособленную ездить в упряжке…
Я обратила внимание, что уже некоторое время в задумчивости стою около тумбы со старыми афишами и объявлениями. Да, давненько не заезжал к ним сюда какой‑ нибудь артист. Вот афиша аж от мая месяца… А остановилась я после того, как Климов мне сказал: «Если тебе нужен ключ – он под крыльцом, висит на гвоздике». Климова рядом не было, по телефону я не разговаривала и слуховыми галлюцинациями до этого момента тоже вроде бы не страдала. Но я ясно услышала его голос. Как будто бы услышала, лучше так сказать – чтобы не бежать к Костику на прием и не жаловаться на бред в своей голове.
Нужен ли мне ключ? Да, пожалуй. Я устала с дороги – по МКАДу ехала долго и по Ярославке тоже долго. И по городу уже хожу прилично. Я бы выпила чаю в тепле. Дом, правда, холодный… Но можно затопить. Затопить печку в чужом доме? Почему нет? Это ведь не совсем чужой дом.
Я развернулась и отправилась к дому Климова. Вот сейчас и проверим – что там мне говорят голоса, правду или нет? Ключик должен быть… справа, да, справа. Внизу, под крыльцом, справа, должен висеть один ключ на длинном и не ржавом гвозде. На новом гвозде с большой блестящей шляпкой. Может, я это видела? Может, Климов при мне его туда вешал? Нет, не вешал. У него была одна большая связка ключей, с брелоком в виде мехового кубика. Я все еще хотела спросить, откуда у него такой эскимосский сувенир. И не спросила.
На секунду я приостановилась у калитки. Я правильно поступаю? Да, правильно. Я так же легко скинула крючок с внутренней стороны калитки. И прошла к крыльцу.
Справа, под лестницей, не было ни гвоздя, ни шурупа, ни болта, ни какого‑ нибудь крючка, на котором мог бы висеть ключ. И ключа, соответственно не было.
Я постояла несколько минут, глядя на величавый – иного, попроще, слова не подберешь – дуб, стоявший почти посреди двора, но ближе к забору. Как спокойно и достойно он собирается в осень, а потом на покой, в зиму. Чуть тронуты золотом края листьев, ровная, как будто подстриженная крона… Так, а все же что с моими голосами и интуицией? Наврали? Или что‑ то напутали? А если… Я быстро вернулась к крыльцу. Ну да, точно.
Слева под крыльцом, именно в том месте, которое я представила себе, висел ключ – не справа. Слева. На длинном, не успевшем заржаветь гвозде с новенькой блестящей шляпкой. Хорошо. Помехи в телепатической связи, так, вероятно, это называется. Чуть‑ чуть недослышала.
Смешно, почему вполне современный дом запирается на большой навесной замок, пусть даже и немецкий, с хитроумным устройством. Ладно, так нравится хозяину и, пожалуй, нравится мне. Как и старая бочка во дворе, насобиравшая за свою жизнь столько летних и осенних дождей, столько снега за разные зимы – и морозные, когда ее распирало ото льда, и слякотные, темные, когда с неба все текло и текло что‑ то неопределенное, дождь с тут же тающим снегом. Нравится, как и большая березовая метла, с которой так ловко управляется хозяин всего этого скромного великолепия, приобретший за быстро пролетевшие летние месяцы легкий мифологический дымок вокруг своей личности. Что‑ то я, кажется, придумала о нем. Что‑ то, чего не было. И не могло, видимо, быть.
Я открыла легко разомкнувшийся замок, оказавшийся вовсе не немецким, а нашим, изготовленным в Калуге. Вошла в дом, скинула ботинки, прошла в комнату. Чисто, аккуратно. Интересно, он сам убирается? Я вот убираться не очень люблю. Особенно вытирать пыль. Протерев двадцать пятую книгу от пыли, я начинаю тосковать о своей как‑ то не так сложившейся жизни, протерев шестидесятую, впадаю в полное уныние, понимая бесполезность всего сущего и себя, в первую очередь.
Единственный способ вернуть себе радость жизни и бодрость духа – срочно прекратить вытирать пыль и заняться чем‑ нибудь по‑ настоящему нужным. Пересадить цветок, дописать статью, даже приготовить что‑ нибудь на ужин. Но только не тереть пыль, безуспешно пытаясь уничтожить эту параллельную форму жизни на Земле – таковой мне кажется пыль. Откуда иначе может она взяться в полностью запертой квартире с герметичными окнами? Если только это не самовоспроизводящаяся небелковая жизнь? И эта жизнь, судя по всему, вечная, в отличие от нашей.
Да, в доме холодно. Дом держит ночной холод, не выпуская его. Зачем? Может, ему так лучше, в холоде ведь все лучше хранится, дольше живет. Это мы, неразумные, рвемся к теплу и солнцу, сжигая свою и без того хлипкую сущность, ускоряя все обменные процессы в организме.
Я с сомнением подошла к печке‑ камину. Ведь здесь есть какая‑ то хитрость. Что‑ то надо отвернуть, что‑ то закрыть или, наоборот, открыть… Нет, наверно, не получится. «Получится», – сказал мне Климов. Голоса? Да нет, это он на самом деле сказал в прошлый раз, когда я пыталась топить эту печь. И под его руководством получилось, правда, было много дыма вначале. Еще есть, конечно, газовый котел, затопить – и сразу станут теплыми батареи по всему дому… А зачем мне тепло во всем доме? Я погреюсь у печки и уеду. Чаю только выпью и, пожалуй, разок взгляну на озеро со второго этажа.
Глава 41
Что‑ то где‑ то упало внизу. Упало и покатилось. С тонким, мелодичным звуком. Так падают хрустальные рюмочки – с последним прощальным звоном. Нежно и тонко звякнула – и больше ее нет, той маленькой бесполезной рюмочки, из которой два раза в жизни пили рябиновую настойку. Или капали второпях остро пахнущую спасительную валерьянку, в самый последний момент заставляющую бешено стучащее, выскакивающее из груди сердце биться чуть помедленнее…
Спускаться вниз страшно. С чего вдруг рюмочке выпасть из большого запертого буфета, покатиться по полу, звеня и прощаясь со своей долгой, но глупой жизнью? Кто‑ то должен был открыть шкаф. Но я заперла входную дверь. Значит, кто‑ то проник в окно. Ведь на окнах нет решеток, да и во двор может легко войти любой, так же, как когда‑ то вошла я. Вошла и осталась. Кто‑ то поднимается по лестнице, тяжело и неотступно. Господи, куда же мне спрятаться… А если это Климов? Если он думает, что в дом проникли воры? Проникли и спят у него на кровати. Или он вовсе не один, а как раз на эту же кровать собирается пристроить сейчас какую‑ нибудь симпатичную особу, из космического медперсонала, скажем, или даже начинающую космонавтку… Я нащупала под кроватью тяжелое деревянное сабо, в которых хожу по дому – для уверенности и тепла, в них никогда не бывает холодно и ног не замочишь. Кто бы ты ни был – вор ли, Климов ли с космической медсестрой или без, я тапочек этот дубовый брошу, потому что от страха дрожать больше нет сил!..
Я проснулась от холода. Печка давно потухла или просто не разгорелась как следует, а я как‑ то, незаметно уснула в большом кресле перед ней. На второй этаж я так и не дошла. Как‑ то мне неловко было забираться в чужую спальню. Не думаю, что кто‑ то там спал у Климова после меня. Почему‑ то думаю, что никто не спал. Почему‑ то я в этом просто уверена. Но все равно…
Так что же это звенело во сне? И с чего я придумала какие‑ то деревянные сабо, которых у меня отродясь не было… Нет, были! Как же! Я вдруг четко вспомнила светло‑ рыжие сабо, с оранжевыми и желтыми цветочками по бокам, старательно нарисованными чьей‑ то не очень умелой рукой. Мне их подарили на день рождения, на седьмой или на восьмой. А я плакала, потому что на день рождения не дарят сабо. Потому что я хотела куклу.
У меня была кукла, или даже две, но я хотела новую, красивую, с волосами, которые можно было бы расчесывать, с закрывающимися глазами. Я видела такую у одной девочки. Или не куклу, а хотя бы какую‑ нибудь игрушку, пусть медведя или слоника. А мне подарили сабо. И мама с отчимом загадочно шептались, прежде чем достать сабо из зеленого шуршащего мешка. Я даже думала, что там кто‑ то живой – шевелится и шуршит. Хомяк, ежик или – неужели! – маленький пушистый котенок…
А лежали они – кломпены, тяжелые деревянные голландские башмаки, которые отчим по случаю купил на ярмарке народного творчества. Башмаки оказались страшно неудобными, но мама месяца два заставляла меня их носить, для исправления плоскостопия и, вероятно, характера, дурного, – не ма‑ ми‑ ного! Потом я спрятала один башмак за штору и уложила сверху старые газеты и журналы, которые, увязав веревочкой, хранил там отчим.
Мама искала‑ искала башмак, да так не нашла. И забыла о нем, а когда весной, снимая шторы для стирки, все‑ таки обнаружила его там, он мне уже не налез, стал короток. И мама подарила эти разнесчастные башмаки, совершенно новые, соседской девочке, жившей с маленьким братом и матерью, собирающей по углам и свалкам все нужное и ненужное, что можно было там найти. Мать их рано спилась и умерла, брат куда‑ то пропал. Девочка же росла‑ росла и выросла, стала совершенно нормальным человеком, выучилась, работает где‑ то.
А я всю жизнь, видя ее, с жестоким любопытством вглядываюсь – как, неужели вот так бывает, и яблоко далеко укатывается от своей яблони, далеко‑ далеко, совсем в другую сторону? Как будто не было в ее жизни стыдного детства, с постоянными приходами участкового, уговаривавшего ее мать выбросить все барахло из маленькой комнаты, откуда ползли червяки по соседним квартирам, как будто не собирала она во дворе окурки для мамки, плачущей на кухне о своей глупой жизни и беспроглядной нищете, как будто не ходила во всех наших обносках, доставшихся им милостью соседей. Мы, дети, еще и крикнуть могли: «Ирка, ты что это мою кофту задом наперёд надела? У нее завязки спереди, а не сзади! Ну‑ ка, давай переодень! » Счастливые сытые дети, не ведавшие, что такое есть объедки, нарытые и на помойке в том числе, и выбирать из кучи обносков те, что поприличнее, не очень рваные, не с такими уж мерзкими пятнами…
Как странно себя чувствуешь в чужом доме. В чужом… Да нет. Мне этот дом не чужой. Мне кажется, что я была здесь не три дня, а гораздо больше. Здесь осталась часть моей души. Ведь можно быть где‑ то месяц, год, а то и больше – и ничего не останется. Ты никогда не захочешь вернуться туда, пройти вновь по той улице, сесть за тот стол, за которым сидела каждое утро, или лечь на ту кровать, которую какое‑ то время считала своей. А иногда и пробыла вроде совсем мало где‑ то, а тебя тянет и тянет туда вновь.
Вот, меня притянуло, и я расположилась. Печку затопила неумело, кое‑ как разобралась, откуда течет вода, – а она течет прямо в доме, я это точно помню, только надо было открыть все перекрытые краны. Хозяин все тщательно проверил, закрыл, подготовил перед отъездом. И записочек мне нигде не оставил. Что странно. Мог бы написать: «Дорогая и милая моя Ликуся, мечта бывшего космонавта! Если захочешь помыться или водички набрать, вот этот синий крантик открутишь первым, потом проверишь давление, потом открутишь красный, чуть погодя отвернешь большой рычаг и тоже проверишь давление…» Или хотя бы пронумеровал, что за чем открывать. Конечно, рядом с домом есть колодец, и в нем хорошая, вполне чистая вода, я ее уже пила. Но я не готова таскать воду ведрами и мыться по частям. Я привыкла принимать контрастный душ. Это здоровые сосуды, настроение, иммунитет, в конце концов. Я ведь собираюсь жить в провинции, не отказываясь от всех своих привычек. Разве нет?
Я освоила кресло у печи‑ камина, в нем вполне можно читать, писать, мечтать и даже спать. Приготовила себе ужин и завтрак из того, что Климов оставил мышам. А он почти ничего не оставил. Чтобы сильно не похудеть (я очень боюсь высохнуть к сорока пяти годам, как положено высыхать безнадежным старым девам), я сходила в ту самую единственную известную мне булочную, купила довольно сносную булочку на завтрак и заодно на обед и ужин, питаться бутербродами мне, понятно, не привыкать. И странно, совсем не засобиралась обратно.
Во‑ первых, я еще не была в редакции местной газеты – просто обязательно туда сходить, поприветствовать товарищей по перу, полюбопытствовать, чем живут, как живут. Во‑ вторых, я хочу позволить себе остановиться. Пусть на два дня. Или на три.
Ничего без меня не изменится.
Будет чуть скучнее и желчнее Лапик – мне говорят, что со мной на передачах он нервничает и приобретает от этого какой‑ то новый шарм, даже добреет. Какой уж там шарм у Генки!.. Но его любят радиослушательницы, за обещающий и зовущий бархаток в голосе, за его неожиданные паузы, за юмор на грани фола, но лишь на грани.
И я не возьму у кого‑ то лишнее интервью, и не напишу бессмысленной блестящей статьи, которую прочитывают взахлеб и тут же забывают. Дам проявить себя другому журналисту. Тоже неплохо.
А я остановлюсь. Подумаю. Или просто прислушаюсь к себе. Или просто побуду одна. А то я не одна всегда, каждый день? Нет, я не одна. Я на публике. Я – публичный человек, по роду своей деятельности. Даже если я одеваюсь так, как будто одна скачу на лошади в прерии и позади меня, как и впереди, – километры пустынных американских степей, непригодных для жизни, все равно это я лишь так одеваюсь. Наверно, подсознательно подчеркивая – я свободна от всех вас.
А я не свободна.
Не может быть свободен человек, имеющий машиноместо в подземном гараже хорошего московского дома, за которое надо ежемесячно платить, равно как и следить за машиной, платить за нее налоги. Не может быть свободен человек, который изо дня в день, годами пишет не совсем то, что думает. Вроде то, но рядом.
Я ведь не пишу: «И эта дура набитая, певичка Н., надев посреди дня темные очки, села на очень неудобный, холодный кожаный диван, который она приобрела просто для шику, а вовсе не для тепла и уюта в доме, положила ногу, толстенькую, кривоватую, обтянутую очень тесными джинсами, на вторую ногу, на щиколотке которой красуется крайне неприличная и глупая татуировка (даже странно, почему ей создают имидж неотразимой красотки с достаточно высоким IQ – коэффициентом отсутствующего интеллекта), и своим тусклым, гнусоватым голосом, которым не то что петь, а и говорить благозвучно не получится, проныла: “Прико‑ ольно! ” И больше, собственно, на все мои вопросы ничего толком она мне не ответила».
А мне позарез нужно – такую задачу мне поставил мой непосредственный начальник, решающий в результате, хорошо ли я, свободный и смелый журналист, тружусь или нет, – написать, что она умна, обаятельна, совсем не озабочена славой, а как раз наоборот, серьезно занимается музыкой и… чем‑ нибудь еще, оригинальным. Чем – я должна придумать сама. Чтобы было привлекательно для людей.
Все‑ таки наши люди не такие уж дремучие. Ну и что такого, если городские жители, как и сто, и двести, и триста лет назад солят капусту и огурцы, делают заготовки на зиму и за год выпивают море пива и водки – в суммарном объеме? Они, наши люди, смотрят американские фильмы, а американцы любят пофилософствовать о вечном или о чем‑ то, очень похожем на вечное, люди читают Акунина и Дэна Брауна, интересуются историей, эзотерикой и инопланетянами. И наш журнал покупают, чтобы понять, что те, кто имеет право занимать наше внимание на экране, нравиться нашим мамам и нашим детям, они тоже что‑ то из себя представляют, те, кто часами сидят вечером у нас на кухне, отгороженные от нашей реальной жизни светящимся экраном, тоже личности, не хуже нас, а то и лучше.
Так что я отнюдь не свободна. А мне нужна свобода? Разумеется. До определенных пределов. Это заложено в нашем генокоде. Кому‑ то она больше нужна, кому‑ то меньше, кого‑ то устраивает несвобода как залог уверенности в завтрашнем дне. Кстати, и меня тоже. Я повязана по рукам и ногам своей дурацкой профессией. Но зато я уверена, что завтра буду сыта, обута, одета, смогу заплатить за квартиру, за отдых, а главное – я буду востребована, я буду нужна. Но почему‑ то все чаще и чаще я представляю, что живу где‑ то, где вода не льется из крана, где тепло нужно устраивать себе самому, своими руками, и где пойти можно не туда, куда ведет дорога, а куда ты хочешь пойти. Может, именно так размышлял Ван Гог, перед тем как отрезать себе ухо и поехать жить на теплый остров к женщинам, не требующим от него соблюдения никаких условностей? Люблю – целую тебя и живу с тобой, не люблю – не целую и не живу. Впрочем, насчет этой стороны жизни с некоторых пор условностей и у нас стало меньше. Не надо для этого уезжать к туземцам и отрезать собственные уши.
Глава 42
Сначала появился пес. Прибежал, обнюхал меня молча, сел рядом, потом лег. То ли сторожа´, то ли охраняя. Я не решилась погладить его, хотя очень хотелось. Ведь именно такой я всегда представляла свою собаку. Умной, спокойной, веселой, очень верной. Будет ли она пуделем или доберманом‑ пинчером, или же кем‑ то еще – дело десятое.
Потом пришел он. Ничего не спрашивая, как будто бы совсем не удивившись, что я здесь, в его доме, подошел ко мне, обнял, погладил по голове, что‑ то проговорив, но я не разобрала, что. Но точно что‑ то такое, от чего хочется жить и жить, и смеяться, и ждать далекого лета, и радоваться наступившей за ночь зиме, бежать по чистому, только что выпавшему легкому снегу в осенних сапожках, чувствуя тонкой подошвой холодную землю.
Потом как‑ то сразу появились дети, двое. Мальчик рос быстрее и становился похожим на него. А девочка, милая и тихая, играла рядом со мной, взглядывая на меня глазами моей мамы – серо‑ зелеными, круглыми, как будто всегда чуть удивленными, но в отличие от маминых – очень спокойными. Потом появился еще ребенок, и еще…
Я лежала в разложенном кресле и смотрела, как две птицы расхаживают по ветке дуба за окном. Так не бывает. Потому что так не бывает никогда. И сны мне снятся о том, чего никогда не будет в моей жизни. И судя по снам, я очень несчастный человек, хотя сама этого не сознаю. Ведь я именно этого хочу? Именно этого мне не хватает? Верного пса, любящего мужа, троих или четверых детей.
А если этого нет, значит, моя жизнь пуста и бессмысленна.
Да нет! Вовсе нет. Мало ли что приснится!
Я встала и быстро оделась в холодной комнате. Да, что‑ то не очень у меня получается с печкой. И вообще… Не пора ли домой? Писать глупости, глупости же говорить. А я, вероятно, другого не умею. Если бы я пошла работать в школу, например, в Калюкине, если бы меня взяли, – чему бы я могла научить детей? «Дети, не пишите глупостей и не болтайте ерунды, как мы с Генкой Лапиком»? Так они мне не поверят. И никто не поверит, даже если я всё это брошу. Решат, что сошла с ума от одиночества.
У меня остался один день неожиданных осенних каникул, которые я сама себе устроила. И надо употребить его во благо.
Я быстро умылась, выпила вкусного климовского кофе – то ли кофе у него какой‑ то особый, то ли вода здесь такая, то ли просто мне все мило в этом доме. Съела вчерашнюю булочку. Не торопясь. Всё мне казалось – вот как бы сейчас было в добром сказочном фильме – стукнет калитка, залает пес. Молча улыбаясь, войдет он … В самый‑ самый последний момент, когда она, то есть я, уже собралась уезжать, уже поняла, что ничего не будет…
Так. Надо бы аккуратно перекрыть воду и то ли закрыть, то ли открыть заслонку в печке… Нет, печь лучше оставить в покое. Интересно, обнаружит ли он, когда приедет сюда, что здесь была я? Ночевала, лазила у него по сусекам в поисках сахара, пила кофе из большой чашки, на которой написано «Жене от мамы». Может, дать ему какой‑ то знак? А какой? Подумав, я вырвала из блокнота листочек и написала: «Женя, я приезжала. Но тебя не застала. Лика». Или «Целую, Лика»? Да нет, ведь я не знаю, с кем он сюда приедет. Лучше просто «Лика». Мало ли зачем какая‑ то Лика приезжала. Может, она приезжала брать интервью. Хотя все, что мне интересно в нем, я уже узнала раньше.
Узнала, как хорошо сидеть, прижавшись к его плечу, растворяясь в странном, новом для меня ощущении. Когда стираются границы твоего «я», когда собственно «я» становится не таким уж и важным. Когда чьи‑ то другие эмоции, желания, даже мысли мгновенно становятся и твоими тоже…
Узнала, как остро, как желанно может быть чье‑ то прикосновение. Просто прикосновение к твоей руке, щеке. Как начинается от этого во всем твоем существе движение каких‑ то новых, других, неизвестных энергий. Как пропадают все звуки, все краски, как остается только его голос, его тепло, его желания, наполняющие и тебя.
Вот это все я узнала в те три нереально далеких июньских дня. А об остальном я могу и сама написать. Во что он играл в детстве, этот бывший космонавт, пишущий теперь хорошие детские книжки? Да какая разница? Я не спрашивала. Написала – в футбол и шахматы. Кому это интересно? Вот о его одиночестве я написала – это людям интересно. Еще бы. Такой привлекательный человек – и один. Я сделала тогда для статьи очень хорошую фотографию Климова – он быстро обернулся на меня и получился очень живой, искренний взгляд. Я еще тогда удивлялась – а что же он так весело на меня смотрит? Наверно, понял, что попалась птичка в сети. Разве не смешно?
Разве не смешно, что я, успешная мажорная журналистка, высокооплачиваемая болтунья, абсолютно самодостаточная, влюбилась, как юная школьница? Я не способна влюбиться. Мне давно никто не нравится. И я не хочу влюбляться. Мне это мешает. Я начинаю думать о глупостях и совершать глупости, как все влюбленные люди. До свидания, сеанс связи окончен, мой милый космонавт! Жаль, что вы в свое время не полетели в космос. А то бы не уехали с горя в глушь, а меня бы к вам не прислали. Узнавать – каково это – сидеть в глуши и сочинять сказки об эльфах и гномах, стараясь не думать о том, что полжизни уж точно гонялся за химерами. Крутился на тренажерах, ел всякую ерунду, сто раз отрабатывал разгерметизацию корабля, чтобы так никогда и не узнать, что такое настоящая невесомость и как это – когда в окне – черная пустота. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Как не слушаются руки и ноги после возвращения на Землю, каким острым и резким кажется обыкновенный воздух, как тяжело дышать, как тяжело поднять себя, как долго привыкает организм к обычной пище… Вот к этому вы готовились полжизни, но так и не узнали. И очень расстроились. Ушли от мира, на время. А тут я – как нельзя кстати…
Какими, в сущности, глупостями занимается человек в своей жизни. Мало ли каждый из нас учился тому, что никогда ему не пригодилось? Вот я, скажем, учила на журфаке французский и испанский языки. Испанский забыла напрочь, даже элементарный разговор поддержать, боюсь, не сумею. На французском кое‑ как объяснюсь. А сколько сил затрачено! Я уж не говорю о всяких вспомогательных дисциплинах, мучительное напихивание которыми в результате создает новую личность, а именно – человека с высшим образованием. Которого, кстати, я всегда четко определяю. Даже если образование так себе, ни шатко ни валко, кое‑ как и кое‑ где получено, а вот что‑ то меняется в человеке за четыре‑ пять лет учебы, общения с преподавателями, насильного постижения нужных и ненужных предметов.
Итак, я – человек с хорошим высшим образованием, спокойный, умный, по здравом размышлении ухожу. Я уезжаю. Я закрыла дверь на висячий замок, постояла на крыльце. Подышала, посмотрела по сторонам. На дуб, на бочку, на небо, на первые упавшие листья… Ну как же все‑ таки здесь хорошо! Как хорошо… Как не хочется уезжать отсюда в суету московской жизни! Почему же им всем, сотням тысяч провинциальных девочек и мальчиков, – хочется? Потому что у них нет того, что есть у меня. И они мечтают это получить. Славу, деньги, хорошую интересную работу.
Ведь я ругаю свою работу с точки зрения вечности, с точки зрения монаха, сидящего высоко в тибетских горах и смотрящего на хорошо спрятанную от простых глаз гору Кайлас – гору бессмертных мудрецов и высшей мудрости, которая открывается не всем, а лишь посвященным. А с точки зрения обычного человека у меня – великолепная, интересная, востребованная специальность. И, главное, я в ней – востребована, да еще как. Стоит лишь открыть сейчас телефон и прочитать восемнадцать сообщений. «Лика, завтра эфир в 17. 00. Тема – старые московские дворики и новые московские дворники. Надеюсь на тебя. Леня». «Лика, завтра берешь интервью у Трофима, подготовься, пойдет главной темой в декабре». «Лика…» «Лика…». Ведь я нужна? Я в чем‑ то даже незаменима. Что же мне еще требуется?
Отчего покойный ныне Ингмар Бергман, создав с десяток мировых шедевров, уехал на пустынный остров Форё и последние годы жизни не только ничего не снимал, но и ни с кем не разговаривал? Что‑ то такое понял – что делало все остальные разговоры бессмысленными? Так же как и граф Толстой в свое время, как и многие великие, всю жизнь пробивавшиеся, пробивавшиеся к самым сокровенным тайнам мироздания, самым важным. И, вероятно, пробившись, заглянув туда одним глазком, в оторопи останавливались. Что они там видели? Отчего переставали писать книги, снимать фильмы? Понимали бессмысленность наших жалких попыток понять Его Великий Замысел? Или, наоборот, может быть, понимали, что ничего великого в том замысле не было, – мы, вся наша жизнь, наши верования, – не больше, чем случайность? Получилось, как получилось. А могло все выйти и по‑ иному. И в мире есть только один закон, закон расширения хаоса. Он действует и в микро– и в макромире, он же руководит всеми главными событиями человеческой истории.
И никто из тех, кому мы молимся, на кого надеемся, в чье милосердие, всепонимание, всепрощение, а главное – изначальную высшую мудрость верим, и не думал заниматься нашим будущим и настоящим? Никто нигде не оберегает нас, не прощает, не поможет в случае наших маленьких, личных и тем более уж всемирных, глобальных катастроф. Мы, случайные, неразумные, можем надеяться только на себя, но мы не в силах управлять своим чудовищным пятимиллиардным сообществом, пожирающим самоё себя за хвост и беспорядочно двигающиеся конечности…
Ведь воистину: многие знания – многие печали. И блаженны нищие духом. Им на самом деле хорошо, ведь они ничего не понимают. Так, как хорошо было и Адаму и Еве в раю. Это и был рай – отсутствие знания. Для чего же мы были созданы? Для счастья? А в чем оно состояло? В неведении и ничегонеделании? И, пытаясь найти потерянный рай, мы ищем лишь забвения и потери разума? Как страшно замыкается круг…
Нет, все‑ таки так не может быть. Отчего же рассердился Создатель, когда те, кого он создал, вкусили от древа познания, от древа добра и зла? И не странно ли, что познание приравнивается к умению отличить добро от зла? Выходит, первоначальное, самое главное знание о мире, самое тайное и важное для Создателя – это не распределительный закон умножения, не законы квантовой механики и не расшифрованный геном человека. Самое главное – это то, что в мире есть добро и зло. Это и есть суть познания.
И Он не хотел, чтобы мы отличали добро от зла? Так для чего же Он тогда нас создал? Чтобы мы были нагими, но не знали этого, бегали, плодились в райском саду и радовались, как милые, веселые, бессмысленные щенки или котята? Он нас создал для своей забавы? Или Он нас создал для того, чтобы мы жили, грелись на солнышке и были счастливы, не зная, кто мы и что мы? А разве не к этому стремится большинство из нас – как можно больше греться на солнышке, слаще есть, мягче спать и как можно меньше знать…
Глава 43
Я захватила с собой несколько сказок Климова. Те, от которых он пренебрежительно отмахнулся: «Публиковать? Да ты что! А смысл? Столько хлопот…»
Сказал или подумал, уже не помню. Но мне они очень понравились. Знакомый издатель, которому я их показала, правда, с некоторым сомнением переспросил меня об авторе и его желании публиковать сказки. Но не могла же я сказать, что это я написала и просто взяла мужской псевдоним. Хотя…
Уже выходя из издательства, оставив там на свой страх и риск сказки и рисунки к ним, я запоздало подумала, что не надо было до поры до времени говорить, что это не мои произведения. И опубликовать было бы легче, если бы я принесла от себя. Сначала ты работаешь на свою славу или авторитет, а потом они работают на тебя и еще и бегут впереди, как вышколенные слуги, везде двери приоткрывают, пыль со стульев смахивают. У меня особой славы нет, но известностью человека, хорошо пишущего, я успела обзавестись. И мне вряд ли откажут, а вот новичку в литературе, особенно если этому новичку около пятидесяти лет…
Но я волновалась напрасно. Сказки Климова взяли, включили в план следующего года, очень радовались рисункам – ведь не надо платить художнику, который или рисует средне – как правило, это штатные художники в издательстве, или слишком много денег просит, если это свободный и мало‑ мальски талантливый человек.
Не знаю, нуждается ли Климов в деньгах, – ведь не по этой же причине он поехал куда‑ то работать? А почему, собственно, и нет? Не знаю, очень ли обрадуется, увидев свои сказки изданными. Не знаю, ничего о нем не знаю. Кроме того, что знаю… всё. То есть всё чувствую. Чувствую, что ему плохо, хорошо, неинтересно, очень любопытно и так далее. Вернее, чувствовала – в те два с половиной дня. Или это были три с половиной дня? Когда я потеряла счет времени, выпала из жизни, провела все эти дни в каком‑ то ином пространстве, наполненном другими звуками, иными чувствами, совершенно новыми – не забытыми, нет! – новыми ощущениями… Так ведь может быть? Так бывает?
Да, так бывает, бывает с каждым, хотя бы раз в жизни. Странно, как будто мы на что‑ то запрограммированы. Да не как будто – а так и есть, скажет мне любой биолог. Беременность – сорок одна неделя, раньше десяти лет и позже пятидесяти пяти не родить, дольше ста двадцати не прожить, а если по‑ хорошему, то больше восьмидесяти лет в полном здравии и рассудке практически никому не удается оставаться. Почему? Почему у нас есть «ген смерти», запускающий в определенный момент механизм старения? Чтобы освобождать место другим, это ясно. Распространение белковой плесени – наверно, таковы мы были бы с точки зрения Земли, если бы она умела думать, как мы, в подобных категориях – не предусмотрено в неограниченном количестве. И так она, агрессивная плесень, расползается, расползается, постепенно готовясь уничтожить и Землю, и саму себя. Или хотя бы себя.
Вот ведь удивительно. Если человечество пойдет не тем путем, то уничтожать его никому не придется. Всевышнему не придется нарушать обещание, данное им когда‑ то христианской половине человечества – больше человечество с лица Земли не стирать, несмотря ни на что (ведь именно так сказано в Ветхом Завете, древнейшем историческом источнике, дошедшем до нас). Оно сотрет себя само, освободит место для иных людей. Или не людей. Муравьев, например. Или пыли. Кто‑ то бы меня сейчас поправил – «разумной пыли». А кто доказал, что пыль, живущая в моем доме, – неразумная? Она хитроумна, ловка, изобретательна, крайне живуча. И что есть разум? Способность осознать самоё себя? Способность к анализу, к логическим умозаключениям? Тогда примерно у половины живущих на Земле homo sapiens sapiens разума точно нет.
Да, а я еще сетую временами на одиночество. Ну кто из мужчин выдержит рядом с собой особу, отягощенную такими мыслями? Кто, кроме Климова… А для Климова я оказалась недостаточно красива. Попрошу издателя сделать благодарственную надпись – как любят делать американцы в начале своих книг: «Благодарю свою маму, а также жену, папу, друга Фреда, Роберта, Исидору из Иллинойса, доктора Джеймса Д. Кука, патера Брауна за его воскресные проповеди, на которых он открыл мне глаза, а также моих драгоценных детей Ники, Вики и Тома за то, что они есть».
Я злая? Нет. Просто века страданий, размышлений, рефлексии, стоящие за спиной моих предков, позволяют чуть свысока смотреть на наивных американцев – в чем‑ то малышей с точки зрения человека, который родился и умрет на среднерусской равнине.
А я сделаю, вернее, попрошу издателя сделать такую надпись на книжке Климова: «Особе, оказавшейся недостаточно красивой, но очень умной и энергичной, а также остроумной и острословной, с благодарностью, Климов».
Я несколько раз набирала номер Климова, думая сказать ему если не о своей не очень удачной поездке к нему, то о его будущей книжке, но каждый раз решала позвонить в следующий раз. Чуть попозже, когда соберусь с мыслями. Но надо же как‑ то называть книжку… Я перебирала названия отдельных его сказок, связанных одной сюжетной линией и героями, пока у меня само не пришло замечательное название: пусть книжка называется «Пряничный Лес». Одного из главных героев его друзья зовут Пряником – за то, что он слишком добрый, мягкий, всем уступает. Да, конечно, – Пряничный Лес. Это так мило, уютно. Понравится маленьким девочкам, да и мальчикам, может быть, тоже. Они ведь только делают вид, что их не трогает ничто милое и симпатичное, и беззащитное. Ведь им как раз больше всего и нравятся именно такие девочки, несмышленые трогательные милашки, – нормальным мальчикам, по крайней мере.
Как интересно. Со мной рядом как будто появилась некая бестелесная, но вполне определенная сущность. Не материальный, но ощутимый душой образ. С ним можно даже поговорить. Он как будто тебе что‑ то ответит. О нем заботишься – вернее, о том, чей это образ. Если все время думаешь о ком‑ то, то мысли твои становятся энергетическим сгустком, реальностью, они тебя будят, не дают уснуть, когда ты очень устала, велят принимать решение.
Но как бы я ни думала о Климове, как бы душа моя ни рвалась к нему, я звонить ему не собираюсь. Почему? Наверно, я не могу бороться за чье‑ то чувство. Отчего‑ то такая борьба меня уничижает. Я не смогла бы встать посреди двери, упереться руками в косяки и сказать: «Не пущу! », если бы от меня уходили. Я не смогла – когда уходил когда‑ то Сутягин, оставив после себя пустое, никак и никем не восполнявшееся место. И я не могу просить: «Приходи! », если он сам не приходит. Это очень несовременно, с этим трудно жить среди растерянных мужчин, потерявшихся в неожиданной свободе, данной им нашим временем, явно переходным – знать бы только к чему.
Глава 44
Я ехала на интервью с известным певцом и старалась настроить себя на мажорный лад. Ничего хорошего я о нем не знаю. Поет он отвратительно. Голосом, на мой вкус, не обладает никаким – ни хорошим, ни средним. Внешность сомнительная, вероятно, у стилистов‑ гримеров‑ постижеров уходит много сил на создание его образа – сладковатого, миловатого, но с оттенками мужественности. Вот такое сложное сочетание. А мне нужно написать о нем позитив. О нем и о его новой семье. Интересно, о какой по счету?
Ехать пришлось за город. В этом поселке я еще не бывала. Два КПП – один за другим. Если в одном ошибутся, в другом, может, и зацепят подозрительную личность. А ведь именно здесь недавно произошло какое‑ то громкое убийство. И КПП не помогли. Впрочем, если просто один вполне законный житель элитного поселка захочет убить другого, от этого охрана не убережет.
В доме певца меня радушно встретили, проводили в гостиную, усадили на мягкий диван, предложили чаю. Я же никак не могла найти в себе точку опоры, чтобы перестать раздражаться. Надо зацепиться за что‑ то нормальное, настоящее. Посмотреть на какой‑ нибудь цветок. Монстера с политыми искусственным глянцем листьями, привязанными к искусственному стволу. Нет, не пойдет. Толстый разноцветный попугай в золоченой клетке – ну просто из мосфильмовских запасов, из детских фильмов шестидесятых годов про бедных принцесс, которых не пускают на свежий воздух из царских хоро´ м. Или вот, за окном – голубая елка. Она‑ то хотя бы настоящая. Пусть и пересаженная на этот бывший подмосковный пустырь из какого‑ то заповедного леса.
Отчего меня это все так раздражает? Я ведь не завидую такому богатству? Я достаточно обеспеченный человек. Нет, не завидую. Цветаева когда‑ то писала «люблю богатых». А вот я, похоже, не люблю. А кого люблю? Бедных? Наверно. Если выбирать между теми и этими…
Люблю бедных. Не пьяниц опустившихся, не потерявших человеческий облик нищих и бомжей, а ту бедность, которая, возможно, и не догадывается, что она бедна. Люблю аккуратные подоконники, тщательно протертые выстиранными и выглаженными тряпочками, любовно выращенные цветы в нарядных горшках, люблю бабушек в чистых платочках, и вообще – аккуратное, простое, гордое собой, своей незамысловатой и честной красотой.
А не люблю детей‑ мажоров, откормленных, лоснящихся от лишних жиров и углеводов, наследующих вместе с богатством родителей их наглость и спесь. Не люблю их родителей, в шкурах зверьков ценных пород, в очках, скрывающих глаза от солнца и от вопросительных взглядов тех, других, которым не достались ни шкуры, ни острова в океане, ни даже хороший кусок нашей собственной, среднерусской равнины. Не люблю их собачек, наряженных по последней моде, с глупым тявканьем оповещающих мир о том, что их вывели, наконец, пописать…
Певец вышел ко мне в скромных джинсах, серо‑ голубой рубашке, улыбаясь, легко встряхивая слегка подкрашенными светлыми волосами. Просто пай‑ мальчик, шестидесятого года рождения.
Его молоденькая жена вышла чуть позже, с пухлым малышом на руках. Я сняла ее, малыша, ее с малышом и певца с малышом, а потом всех втроем…
– А как ваш сын от третьего брака? Не переживает? – спросила я, понимая, что лучше спросить, чем раздражаться и раздражаться, глядя на умильное семейство. – Ему же еще семи нет? Я вчера прочитала, когда готовилась к интервью.
– Не переживает, – улыбнулся певец. – Он большой парень, все понимает. Вот сейчас все вместе поедем в Германию, на фестиваль, и его возьмем, пусть поближе познакомится с новым братиком, да, лапуся? – обратился он к своей молоденькой половинке, рядом с которой его образ вечного мальчика несколько разрушался.
– Странно, – не дала я ничего сказать лапусе, – а мне казалось, что дети очень нуждаются в отце, особенно маленькие. И переживают, если их бросают.
– Я бросил не сына, а его мать. С которой стало невозможно жить. И он обязательно это поймет, – снова улыбнулся певец. – Поймет, что без любви жить с человеком нельзя. Что папа встретил настоящую любовь. Это можете написать. Это очень понравится моим поклонникам.
– Не сомневаюсь. Слово «настоящее» всегда действует на подсознание. А ваши родители когда развелись? – спросила я как можно миролюбивее.
– Развелись? – поднял брови певец. – Да почему? Они и сейчас живут вместе.
– И страстно любят друг друга, как в первые месяцы после свадьбы?
– Не понял…
– А что тут понимать? Почему ваши родители, когда у них после пяти лет совместной жизни прошла дикая страсть, не побежали в разные стороны в поисках новой страсти? Даже если влюблялись, они не бросали пятилетних детей?
– Так, я не понял. Мы, кажется, договаривались об интервью, а не о проповеди. Проповедь мне прочитает батюшка в воскресенье, мы с Марусечкой ходим на воскресные проповеди в наш домашний храм, это напишите обязательно. У нас здесь есть свой храм. Построенный на деньги обитателей нашего маленького рая. И грехи нам наш батюшка все отпустит.
– Все‑ все?
– Вы знаете, милая… – Певец снова улыбнулся.
А я подумала, что зря я думаю о нем, как о совершенно никчемном человеке. Плохо поет, плохо сочиняет… Зато в руках как себя держит!
– Вы хорошо держите удар, – похвалила я его. – Только я не милая, я очень вредная и откровенная журналистка.
– Да, я ботинками в журналистов не бросаюсь, у меня другой имидж. Но, пожалуй, хватит. Меня не надо учить жить. Я знаю, как жить, и могу еще других научить. Все мои дети и все мои бывшие жены, кстати, накормлены, одеты‑ обуты, те, кто поумнее, еще и гостинцы получают. Так что… – певец с хрустом потянулся, – жить надо с любимыми. Так и буду учить своих детей.
– А что делать тем, кого бросили? Научите их?
– Да ладно вам! – вдруг подала голос юная хозяйка дома. – Меня Стасик не бросит никогда. Правда, пусик?
– Правда… – детским голосом ответил ей певец и нежно чмокнул.
Не очень хорошо было уходить, нормально не поблагодарив и не попрощавшись, но как‑ то силы мои иссякли. Ну если звездам шоу‑ бизнеса позволены нервные срывы, может, и звездам журналистики и радиоэфира тоже позволены тихие истерики, хотя бы изредка?
Я знала, о чем думал сейчас певец, я могла бы его ткнуть его же собственными страхами и сомнениями. Но зачем? Чтобы лишний раз у кого‑ то раскрылись глаза от удивления, чтобы к моему имиджу вредоносной журналистки плотно прикрепился еще и ярлык «странная, не от мира сего»? Марусечка расскажет подружке, та еще кому‑ то…
– Продюсер с вами неважно поступил, но то, что вы хотите сделать, еще хуже, все‑ таки он старый друг вашего отца. Не отмоетесь потом, лучше просто с ним расстаньтесь, – все‑ таки напоследок не удержалась я от доброго совета.
Какими глазами смотрел мне вслед Стасик и его Марусечка, я уже не видела, спеша прочь из их искусственного, вымученного мирка.
Глава 45
– Я не буду писать о Стасике, – четко объявила я шефу, когда приехала в редакцию.
– Не пиши. Отдай материал редакторам, все сделают, – неожиданно легко согласился Вячеслав Иванович. – С тобой все в порядке?
– Не знаю, – пожала я плечами. – Смотря что считать порядком.
Я поняла мелькнувшую у шефа странную мысль.
– Нет, – улыбнулась я. – Любовника у меня не появилось. Просто я взрослею. И муть такую писать больше не хочу.
Вячеслав Иванович, привыкший к странностям моего характера, все же крякнул.
– Ты, Борга, правда, знаешь, стала совсем невыносима. Почему муть‑ то? Ты хорошо пишешь, даже честно…
– Если честно писать, то я должна написать сейчас, что Стасик – моральный урод, плодит детей и бросает их на каждом углу. Правда, не забывает подкармливать и поздравлять с праздниками. Женится каждые пять лет снова, каждая жена все моложе и моложе, друзья путаются в женах, детях. А он еще пытается всех передружить, собирает вместе. Те дети, которые ходят на такие «семейные» сборища, тоже путаются, где чья мама, кто когда и где жил с папой. В общем, счастье в духе неудавшихся семейных коммун – общая свалка жен, детей, пап… Папа бьется в пароксизме страсти то здесь, то там, а дети растут, растут и ждут, когда же им, наконец, можно будет свободно, без оглядки, совокупляться.
– Фу‑ у… – выдохнул Вячеслав Иванович. – И что мне с тобой делать? Это не есть формат нашего издания.
– Увольняйте. Сама, наверно, не уйду. Приросла, всеми коготками увязла. Плохо, тошно, а вот сама бросить и начать новую жизнь не могу.
– А где ты собираешься начать новую жизнь? – заинтересованно спросил шеф. – Небось у конкурентов? Говорят, они новый имидж журналу делают. Острыми углами наружу.
– Ага, – вздохнула я. – Ничто мне, получается, больше не светит. Кроме как в такой же помойке ворошиться.
– Нет, тогда не отпущу. Паши здесь. Хоть помойка, да своя. Да и почему помойка‑ то? Слова выбирай… – шеф бормотал, что‑ то ища на столе. Не нашел, махнул рукой. – Да что тебе, в самом деле, я не знаю? Ну давай, я оклад повышу! И так пишешь, что хочешь, безобразничаешь, отпуска´ берешь…
– Беру… – грустно согласилась я. – Ну, я пойду?
– Куда? Увольняться?
– Да нет. Муть какую‑ нибудь очередную писать, вранье.
– Слушай, Борга, – шеф вдруг вышел из‑ за стола, подошел ко мне и взял за локоть. – Я тебя понимаю. Даже больше, чем ты думаешь. От одиночества еще и не такое с людьми бывает. Вот хочешь… У меня друг есть один, бывший…
– Космонавт? – засмеялась я.
– Почему космонавт? – удивился Вячеслав Иванович. – Нет, разведчик. Ну, то есть в ведомстве этом сидит. Тоже один. Живет в смысле совсем один. Хочешь, познакомлю? Ты ему понравишься, он любит таких… – Шеф показал руками что‑ то похожее, вероятно, на меня. – Худых, ну и вообще… странных.
– Я подумаю, Вячеслав Иванович, спасибо, – я аккуратно освободилась от пионерских объятий шефа, который хоть и не любит таких, как я, худых и странных, но кто его знает, вдруг что ненароком где затикает, разница в возрасте у нас все‑ таки соответствующая. Может и затикать.
– Что ты смеешься? – недовольно спросил шеф, похлопывая меня при этом по спине.
А я увидела… Нет, может, я все‑ таки это придумала? Не мог же мой шеф, пожилой и вполне приличный человек, представлять себе такие глупости.
– Точно вверх ногами? – спросила я на всякий случай.
Шеф побагровел и резко отодвинул большое кожаное кресло, которое мешало ему пройти.
– Всё! К понедельнику… Там… Сама знаешь!
Что к понедельнику, не знал никто, ни он, ни я. Но в фантазиях его, глупых и не очень реальных, я все‑ таки не ошиблась. Смешной старый человек. Впрочем, не смешнее, чем я, со своей влюбленностью в нереального и малознакомого мне человека.
Книжка Климова вышла быстро, получилась красивой, толстенькой, приятной на вид, на ощупь. Я быстро проглядела все сказки. Как по‑ другому выглядит печатное слово! Мило, чудесно, замечательно… Я молодец! Только автор ничего пока не знает. И, кстати, может не узнать. С нынешними тиражами – пять тысяч экземпляров как большой подарок от издателя. А так – две, полторы для разгону… То ли дело в благодатные для писателей советские времена! Я нашла у Климова и читала в кресле перед сном по пять страничек из нереально праздничной, ветхой книжки никому не ведомого теперь советского писателя О. Данилова «Ранние всходы» о прекрасной жизни колхозной библиотекарши Раечки, книжки, щедро изданной когда‑ то тиражом семьдесят пять тысяч экземпляров наивного и даже вполне вдохновенного вранья. А я так переживаю, что вру и вру изо дня в день. Власть обязана врать, создавать иную реальность, в которой удобнее и приятнее переносить жизненные невзгоды, разве нет? А средства массовой информации – любые, и сиюминутные, и похожие на литературу и искусство, – это четвертая власть, власть над умами, сердцами и душами. Алгоритм несложный. Так, теперь есть хороший повод позвонить Климову. И придется: а). Признаваться, что я к нему ездила. б). Признаваться, что я копалась у него в компьютере, взяла сказки без спросу. в). Объяснять, каким образом я от его имени опубликовала сказки.
Но ведь в конце концов я должна отдать автору гонорар, который получила за него, как доверенное лицо… Пятьдесят пять тысяч рублей за книжку и аж сто пятнадцать за рисунки! Учитель будет работать приблизительно пять месяцев за такие деньги – московский и питерский учитель, разумеется, не пензенский, а работник коммерческого банка – два или один месяц, в зависимости от того, кем работать. Глупая, странная, вывороченная наизнанку наша нынешняя жизнь.
В девяносто первом году произошла почти бескровная революция, поменявшая один строй на другой. Социализм с кроваво‑ красными флагами на капитализм с демократическим и одновременно царским (если вдуматься – как же это может быть? ) бело‑ сине‑ красным стягом. Несколько сотен человек два дня сражались в центре Москвы, не очень понимая, с кем они дерутся, но точно зная, за что, – за некую свободу. Уж точно о защите своей будущей частной собственности никто из наивных защитников Белого Дома не ратовал и не думал даже. И уж точно не знал, что защищает будущих нефтяных магнатов, приобретших себе загадочным образом то, что доныне никому не принадлежало, защищает будущие могущественные газовые корпорации, банкиров, раздувающихся на дармовых и чудовищных прибылях… Несколько сотен сражались и строили баррикады, а остальные сидели дома у телевизоров и смотрели, как рушится то, что строили семьдесят лет, строили на обломках того, что строили до этого много столетий, – а именно Российскую империю…
Но как странно. Ведь у каждой революции есть вожди. Или вождь. И группа людей, совершивших эту революцию… Кто на самом деле совершил революцию девяносто первого года? Или вот так всё рухнуло, разломалось само, под собственной тяжестью, как неправильно выстроенный дом с кривыми стенами и треснувшим фундаментом? И не было никого, кто взял тогда на себя такую смелость, ответственность за жизни людей и тайно подготовил и совершил переворот, не объявляя своих истинных целей, а во всеуслышание провозглашая лишь свободу и демократию?
Все произошло естественным путем, и в стране, где семьдесят лет всё вершила идеология, стали всё решать деньги – потому что это естественно, потому что неравенство лежит в природе всего сущего, потому что я за свою маленькую копеечку буду изо всех сил стараться, пыжиться и радоваться, если удалось сегодня скушать булочку послаще, чем у соседа… Не знаю. Возможно, это так и есть. Возможно, это часть той неприятной правды, которую Создатель старательно упрятал от нас и совершенно не рассчитывал на нашу чрезмерную любознательность.
По поводу гонораров Климова мне пришла в голову хорошая мысль. Звонить я ему, конечно, не буду. Но в платной компьютерной базе (все покупается и продается, очень удобно, на самом деле) я легко нашла нужные мне сведения, открыла на его имя счет, перевела скромные гонорары. Написала ему эсэмэску с редакционного телефона, с указанием банка и номера счета. Там же посоветовала посмотреть в интернет‑ магазине книжку Евгения Климова «Пряничный лес». Захочет, посмотрит. Будет ему сюрприз. Так ведь бывает. Ты ходишь, занимаешься своими делами, а в это время кто‑ то думает о тебе, что‑ то делает для тебя… Бывает, я знаю. Просто со мной такого не было. Потому что я вредная, худая и странная. Но с другими точно бывает.
Глава 46
– О чем ты мечтаешь, Борга? Поделись с влюбленными в тебя радиослушателями, – невинным голосом вдруг предложил мне Генка на эфире, после долгого обсуждения обычных проблем автолюбителей, связанных с наступлением зимы.
– Я мечтаю… – я задумалась на секунду.
Ведь, наверно, больше всего я мечтаю о том, чтобы снова перевернуться на своей машине и перестать ощущать чужие мысли и желания, разные глупости, которыми полнятся чужие головы и души. Но об этом же не скажешь на эфире.
– Вот! – торжествующе сказал Генка, видя мое замешательство. – Один‑ ноль! Неужели нам с вами, дорогие радиослушатели, удалось поставить в тупик милую Лику?
– Я мечтаю о том, чтобы…
Да что со мной такое? Я не могу с ходу сказать необязательную глупость и побежать, побежать дальше по дорожке какой‑ нибудь извилистой, поверхностной, затейливой мысли, уводя всех прочь от ненужной мне темы? Не мое ли разве это призвание – мыслями, словами заставлять всех забывать о своих собственных мыслях и следовать за моими?
Я посмотрела на страшно довольного Генку, на удивленно переглядывающихся за стеклом звукорежиссеров. И засмеялась.
– Ну да, поставил в тупик. Неискренне отвечать не хочется, а честно сказать не могу.
– Очень неприличное желание? – тут же поинтересовался Генка.
– Очень, – подтвердила я. – Но не настолько, как твоё о крупной мускулистой боксерше. С тугой жилистой шеей, с крепкими ягодицами…
Генка посмотрел на меня с ненавистью.
– Да, я люблю… спорт, – выговорил он. – А не поговорить ли нам о преимуществах женского бокса? Тем более что чемпионат мира на носу…
Я слушала Генкины разглагольствования, сама что‑ то говорила. Но не могла избавиться от странного ощущения. Как будто смотрю на все это со стороны. Одна моя половинка говорит необязательную ерунду, шутит, подкалывает Генку, а другая смотрит на это, слушает и удивляется – какими же глупостями занимается человек, когда ему так мало времени отпущено на Земле.
А ведь я не была, например, на Алтае. Я никогда не купалась в горной речке. Я не видела, как растут таежные цветы. Я никогда не пила воду из ручья, никогда. Только из водопровода и колодца. Я не летала восточнее Красноярска. Я видела океан только в кино. Я, журналист, много чего не видела. И я сижу сейчас здесь с Генкой и говорю о том, что женщина может ударить больнее, чем мужчина, потому что она способна точнее рассчитать удар и попасть в болевую точку.
– Выключите радио, дорогие друзья, – сказала я, не дав Генке договорить. – И подумайте о чем‑ нибудь важном для вас. Не прогоняйте мысли о проблемах. Проблемы сами не рассосутся, их все равно придется решать. Не прячьтесь от своих близких в нашей болтовне. Не прячьтесь от самих себя.
– Аминь! – пробормотал Генка с вытаращенными глазами.
– Да вроде того. А у нас музыкальная пауза, – сказала я, увидев, как машет рукой режиссер. – Ну, я пошла? – спросила я Генку, беря свою сумку.
– Да нет уж, посидите еще, – ответил мне вместо Генки Леня, который, оказывается, стоял все это время в рубке. – В таком духе и продолжите. Только объясни, что насчет того, чтобы выключать радио, – это была шутка. Ага? – Леня быстренько прошел к нам в комнату, подошел ко мне и попытался примирительно обнять. – О вселенских проблемах поговорите. Расширяем, так сказать, круг общения и круг тем. Хороший лозунг, кстати. С тобой, Борга, как на вулкане. Тепло, да страшно. Духи у тебя приятные, загадочные, как ты сама… Не очень там распаляйся насчет суеты и тлена, я чувствую, ты настроена сегодня категорически.
– Да я вообще, не только сегодня, – пожала я плечами. – Может, я все‑ таки пойду?
– Истерики – не твоя тема, – Леня покрепче прижал меня к своей скрипучей куртке. – Ну что ты, в самом деле! Все‑ таки одинокие женщины… – Он осекся, а я сама засмеялась.
– Ты уже второй человек за последнюю неделю, который так открыто, наивно говорит мне о моем одиночестве. А, может, я не одинока?
– Одинока, одинока, – тут же подсуетился Генка. – Я знаешь, как одиноких вижу?
– Ну, как? – вздохнула я. Ведь сейчас не избежишь каких‑ нибудь скабрезных подробностей.
– Да вот так! Вижу и всё! – подбоченился не готовый к остроумной импровизации Генка. – По голодному взгляду.
– Стыдно, Гена, говорить общими местами. Тебя полстраны слушает, а ты не можешь с ходу отбрить ненавистную коллегу.
– Ладно‑ ладно, ребятки! – Лёня чмокнул меня в ухо и попытался дотянуться до Генки, чтобы и его похлопать по спине. – Все умные слова в эфире, пожалуйста.
…Эфир – редакция – полить строманту – три страницы научно‑ популярного журнала о новостях физики и биологии – чашка сублимированного кофе за столиком у стеклянной стены с видом на Крылатский мост… Эфир – редакция – не забыть полить строманту… Мне радуются, меня хвалят, у меня теперь даже берут интервью благодаря радио… Мне, в конце концов, платят… А мне не хватает чего‑ то самого главного. Потому что человеку всегда чего‑ то не хватает, это необходимое условие развития нас как вида? И причина вечной неудовлетворенности каждого из этого вида в отдельности. Да нет, ну как же! А разве не бывает очень утомленных, плохо ухоженных, но абсолютно счастливых многодетных родителей? Я даже как‑ то давно брала интервью у такого семейства. За исключением старшего сына, подростка, стеснявшегося своего потертого костюмчика из прошлого века, все казались крайне довольными жизнью вообще, наполненными спокойной, постоянной радостью. И когда я спросила: «Что бы вы заказали внезапно свалившейся на вас фее? », они долго смеялись, переглядывались, подталкивали друг друга и в результате заказали новую крышу на свою старую дачу. И тачку‑ самоходку, родом из Японии. И еще чтобы у самой маленькой сестры и самой поздней дочки больше не было аллергии на шоколад. Потому что другим обидно – им тоже не дают…
Я ухожу, ухожу от одной, очень определенной и простой мысли, а меня как будто подталкивают, ведут. Кто? Что меня ведет? К мысли, что какая бы самодостаточная я ни была, успешная, везде привечаемая, но мне лично для счастья этого не хватает.
Ночью мне приснился папа. Папа стоял грустный, в потертом вельветовом пиджаке, которого у него никогда не было, скрестив руки на груди, и смотрел на меня, прислонившись к какой‑ то темной стенке. Мне очень хотелось заглянуть в проем двери, туда, за стену, что там. Я пошла, но папа меня остановил, качая головой. – Нет‑ нет, – сказал он, – тебе туда не надо смотреть, там ничего нет.
– Но, папа, мне же интересно увидеть – что такое «ничего»… – Я попыталась пробежать мимо папы.
Он поймал меня за руку.
– Там – ничего. Поверь мне. Всё – здесь.
– Здесь у меня нет ничего, папа! У меня нет детей, у меня нет ребенка, от меня ничего не останется здесь!
– А от меня осталась ты, – улыбнулся папа и на моих глазах ушел в эту открытую дверь.
А я стояла и никак не могла сделать шаг, чтобы догнать его. И сказать ничего не могла.
Я проснулась вся в слезах и еще долго плакала, лежа в кровати. Ну женщина же я, в конце концов, даже если мне жизнь и не позволяет быть ею до конца. Значит, я имею право на слабость, имею право поплакать, по крайней мере, когда меня никто, кроме папы, не видит. А папа точно видит, он всегда приходит ко мне во сне в те моменты, когда в жизни совершается что‑ то непонятное.
Да, у папы была я. А у меня кто? Щеночек чихуахуа, которого я могу купить себе по Интернету? Вот закажу сейчас, не раздумывая, и мне привезут маленького, пушистого, глупого, который будет бегать по квартире, тявкать… Я буду с ним разговаривать, как с сыночком. И окончательно сойду с ума. Мне ведь и так часто намекают на мою неадекватность миру и его обитателям.
Половинка не дается тому, кому она не нужна. Это сказала я или кто‑ то, кто еще умнее меня?
От насмешливой мысли слезы как‑ то прошли сами собой. Хотя, конечно, обидно. И до слез, и без слез – по‑ всякому обидно. Кто‑ то беременеет, как деревенская кошка, не зная, куда деваться от ежегодно возникающей в организме новой жизни, ненужной, лишней, новой клетки, которая через пять лет уже весело бежала бы по квартире, не тявкая, а рассуждая о том, о сём, требуя любви, моей любви, которая на сегодняшний день никому – ни единому человеку в мире! – не нужна…
Я знаю, так бывает. Включается мощная программа воспроизводства, включается на максимум и затмевает всё, затмевает разум. Ведь если позволить себе думать об этом, остановиться уже трудно – я просто обычно не позволяю…
Да, какой бы умной я ни была, тот, кто меня придумал, был умнее. Ему надо было, чтобы таких, как я, было много, и он заложил в меня основной инстинкт. Не спаривания, нет, размножения. Если бы мне сейчас сказали, что для того чтобы по моей квартире тоже побежал маленький, смешной, доверчивый, похожий на меня, мне нужно, например, отрезать кусочек руки и из нее выращивать этого маленького, я бы с радостью согласилась.
А если я не перестану об этом думать, то точно сойду с ума. И стану похожей на гнома Тихогрома из старинной сказки, которую каждый народ рассказывает, по‑ разному называя этого несчастного гнома. Он не хотел ничего, кроме маленького, тепленького комочка, которого родила молодая королева. Когда я в детстве читала эту сказку, я была абсолютно уверена, что гном Тихогром, или Рампельстилтскин, хотел новорожденную малютку съесть, поэтому помогал королеве делать из соломы золото и так добивался своей награды. Но теперь мне почему‑ то кажется, что у него были на то совсем другие причины. Гномы ведь бывают только мужского рода? Гномочек никто и никогда не видел? Ни в одной старинной сказке гномы не бывают детьми? Гномы всегда мудрые, умелые или ловкие коварные, но они – старые? Они жили почти что вечно. Но не могли размножаться, вот в чем дело.
Может быть, я – гном? Не сказать ли сегодня об этом в эфире? Вот будет радости у Генки.
Или, может быть, если говорить серьезно, все дело в том, что я не верю в Бога? Большинство земного населения верит – хоть в какого, пусть похожего на нас, или же неизвестно на что или на кого похожего, но всесильного и всемудрого. Которому Известно. Который Знает и Может. Может то, чего не можем мы. И всё и про всех знает. То есть он имеет на все ответ. То есть ответ этот где‑ то есть. А вот я – не верю. И не уверена, что о нас кто‑ то думает на звездах или где‑ то между ними. И что есть кто‑ то, знающий все. И что где‑ то у кого‑ то есть тайные ответы на все мучительные вопросы нашего бытия. Не верю – и поэтому мне так одиноко на свете? Я одна, я чувствую свою слабость, ограниченность своего разума, такой небольшой запас жизненных сил, я знаю и чувствую конечность своей жизни на Земле. И не верю, не могу, не получается верить, что будет еще какая‑ то жизнь, вечная, другая. Не будет ее. Я знаю физику, читаю журналы, я стараюсь успеть за быстро развивающейся наукой, я хочу вместе с ними заглянуть за ту таинственную грань вспоротого нашим разумом пространства, где все как‑ то не так, как у нас, здесь… Но ведь именно физики признаются, что чем больше они узнают, тем меньше понимают в общем строении мира.
Я не пойду искать Бога. Хотя это было бы логично в моей ситуации. Может, Бога я бы и не нашла, но обрела бы какое‑ то равновесие… Стоп. У меня нет равновесия в жизни? На одной стороне – успех, благополучие, хорошая журналистская карьера, вот еще и небывалые способности, проявившиеся после аварии. И это все перекашивает меня на одну сторону, потому что с другой стороны – с той стороны, где во мне должны нуждаться, видеть во мне самую лучшую, самую теплую, добрую, красивую маму, – там у меня никого нет.
Глава 47
В подтверждение моих недавних мыслей о всеобщем законе расширения хаоса, правящем нашим миром, по телевизору сообщили, что поймали двух людей, ограбивших квартиру Вячеслава Веденеева. Тут же мне позвонил и сам Слава, с благодарностью.
Недоверчивый следователь Сережа Куртяков все же разослал ориентировки на предполагаемых грабителей, и – о чудо! – какой‑ то добросовестный и старательный курсант, проходя практику на охране московского метро, просто внимательно смотрел на входящих и выходящих пассажиров. И заметил пару мужчин, один из которых, очень высокий, странно покачивался при ходьбе, как будто надломленный в поясе. Остановил проверить документы, у одного документов не оказалось, паспорт второго вызвал большие сомнения. В отделении уже другой человек, тоже совершенно случайный, отнесся к этой паре внимательней, чем нужно, спросил, что у них в сумке, которую второй, ничем не примечательный, слишком крепко держал, не отпуская ни на секунду. А в сумке оказались ни много ни мало Славины медали, которые они везли, очевидно, куда‑ то сдавать – на продажу или на переплав.
– Лика, мне сказали, что это ты как‑ то узнала про воров и описала их. Я не понимаю, конечно, как ты в это дело оказалась замешанной, откуда знала приметы, но все равно тебе признателен, причем очень. Все что угодно, только не медали, ради которых столько… Ну ты понимаешь.
– Слав…
Господи, как же ему объяснить? А может, попробовать, как есть?
– Слав, конечно, это трудно объяснить, тем более по телефону…
– Давай встретимся, – охотно предложил Слава.
Понятно, ему было бы интересно узнать, какое отношение я, которой он доверял и даже подарил свою замечательную и секретную картину, имею к преступникам.
– Мы будем сто лет договариваться о встрече, а ты эти сто лет будешь думать обо мне что‑ то не то. Давай я попробую прямо сразу сказать тебе всё, как есть.
– Да ерунда! – быстро ответил Слава. – Хочешь, машину пришлю прямо сейчас?
– Я за рулем, еду.
– Через полчаса около Филипповской булочной на Тверской, попадешь туда?
Я с сомнением посмотрела в окно. Всё еле едет, но я уже на Пресне…
– Да, буду.
За эти полчаса, что я ползла на тихо сопящей Мазде, не предназначенной для подобной езды – ну точно не для скорости пять километров в час делали японцы мою замечательную быстроногую красотку, – я несколько раз меняла решение.
Да, я наберусь смелости и скажу Славе о своих внезапно открывшихся способностях. Нет, я скажу, что следователи что‑ то напутали, просто мы по радио с Генкой говорили об этом инциденте, и шутили, и все перевирали, и на ходу выдумывали приметы преступников…
Да нет, ну что за бред. Я просто ничего не скажу. Отсмеюсь, отболтаюсь. А зачем тогда я еду на встречу со Славой? А я не приеду…
Я чуть не врезалась в затормозившего впереди «мерса». Нет, спасибо, только не сейчас. Включаем аварийку? Водитель, считающий, что он плохо себя чувствует, имеет право ехать на аварийке. А я чувствую себя плохо, я измучила себя непривычными сомнениями.
Я вообще‑ то – Стрелец. Я мажорный человек, родившийся зимой, в начале декабря. Мажорный не в том новомодном смысле, на меня не валятся горы швейцарского шоколада, и мой папа или муж не покупает мне третью квартиру, в которой по мраморной лестнице катятся, звеня, золотые монетки. Мажорный в музыкальном смысле – если музыка написана в мажоре, то и не стоит пытаться исполнять ее грустно.
Мама вынашивала меня девять месяцев, три календарных сезона. Всю долгую весну, которую мама никак не могла решить, рожать ли ей от моего никудышного отца, горе‑ изобретателя. Всё долгое жаркое лето, когда мама, наперекор отцу, продолжала работать в своей душной бухгалтерии. Всю сухую и холодную осень, которую мама, неожиданно смягчившись, просидела в кресле‑ качалке у окна, благосклонно принимая папину ненормальную заботу о ней и о будущем ребенке. Папа был так рад, ну уж так рад, что мама, видно, заранее невзлюбила меня за то, что я стала центром внимания в их маленькой семье. К самым родам мама так изменилась и внешне и внутренне, что за несколько дней до назначенного срока сходила на консультацию к психиатру. Она показала ему спортивную шапку, которую носила уже второй месяц, и коротко остриженные ногти.
– Понимаете, доктор, это не я. Как будто в меня вселился другой человек. Я вижу, что это ужасная шапка, и ничего не могу с собой поделать. Надеваю ее и сама себе в ней нравлюсь. Симпатичная такая, ловкая, быстрая… И хожу вот с такими безобразными ногтями, как мальчик. А покрасить не могу, раздражают цветные ногти.
Психиатр, по рассказам мамы, громко смеялся. И отсмеявшись, объяснил ей:
– Так в вас действительно живет другой человек. Мальчик, по всей видимости. Он будет энергичный, живой, носить кепки и спортивные шапки и, очень надеюсь, не будет красить ногти. А настроение у вас хорошее?
– Да слишком! Всё радует, всякая глупость, мой глупый муж тоже радует, кажется умным и беззащитным. Хотя я его на самом деле ненавижу! Шутки его дурацкие! Так я сама теперь все время пытаюсь шутить! Как шут гороховый!
– Вы так не горячитесь. Такое бывает. Вы вернетесь в саму себя после родов. Осталось немного подождать. А сейчас просто новая личность чуть‑ чуть замещает вашу.
Это одна из маминых любимых семейных легенд, которой она часто пугает малознакомых людей. Поедет куда‑ нибудь отдыхать и рассказывает в лицах, как я, еще нерожденная, заставляла ее изменять самой себе и носить ужасные шапки и острить по любому поводу.
Вот я и получилась мажорным, успешным, уверенным человеком. В красной кепке, надетой задом наперед, без маникюра, острословной и нелюбимой мамой. Последнее обстоятельство лишь придает мне твердости и желания выжить в этом мире, полном ловушек, условностей, невыполнимых или невыполняемых законов, подлости, корысти, глупости, в мире, для меня начавшемся когда‑ то третьего декабря. Как я еще до третьего декабря заставляла маму изменять самой себе и носить старую кепку моего бедного папы, я, увы, не помню.
Я – человек‑ позитив. Я не привыкла метаться в сомнениях и самоедстве. Я еду на встречу со Славой для того, чтобы хороший и порядочный человек не усомнился в моей дружбе и порядочности. Даже если для этого придется раскрыть ему мою странную тайну.
Я удивилась месту, которое мне назначил Слава, – неужели он пойдет в такое публичное место? Его знают и как политика, и еще помнят как спортсмена. С трудом припарковав машину в переулке, я пошла в сторону Тверской и увидела Славину машину. Он высунулся в окно и помахал мне рукой:
– Садись! Поедем, здесь рядом.
– В пыточную камеру? – не очень весело пошутила я, думая о том, как же все‑ таки меня раздражают условности жизни в большом городе. И как иногда хочется говорить то, что думаешь, не искать скрытых планов в речи другого и понимать именно те слова, которые к тебе обращены. И верить им.
– Лика! – Слава чмокнул меня в щеку, когда я села рядом с ним. – Вот то ли ты шутишь, то ли нет. Непонятно. Но очень обидно.
Слава говорил и говорил, а я чувствовала одно – он совершенно не знает, как выспросить у меня правду. А он очень хочет знать правду. Он даже отменил сейчас важную встречу, когда я вроде бы согласилась все ему рассказать. И теперь не знает, как, с какой стороны поумнее ко мне подступиться, к умной и лживой журналистке.
– А ты никак не подступайся, – прервала я его отвлеченные рассуждения и тревожные мысли. – Я тебе все расскажу. Давай только выйдем из машины и получим где‑ нибудь стакан минералки или апельсинового сока. Я полтора часа проторчала в пробке, вспоминала себя маленькой. И ужасно хочу пить.
– Между этим есть какая‑ то связь? – настороженно спросил Слава.
– Нет, – засмеялась я. – Я просто хочу пить.
– Вот здесь, – Слава показал шоферу, где остановиться. – Даже ты вряд ли здесь была. Закрытое местечко. Фейс‑ контроль и ночью, и днем. Причем есть строгий список допущенных физиономий, остальные могут даже и не пытаться. Хотя вывеска, видишь, есть, все официально…
– А что скажут тем, кто рожей не вышел?
– Что мест нет, – улыбнулся Слава. – Проходи, не стесняйся. Нам будут рады.
Мы вошли со Славой в небольшое кафе. Меня, как я поняла, пропустили со Славой. Я оглядела помещение. Кафе как кафе. Если не считать того, что везде понатыканы видеокамеры и нереально чисто, и никого вообще нет, кроме двух мужчин средних лет, в строгих костюмах, вполголоса беседующих о чем‑ то с крайне озабоченным выражением на лицах.
– А где допущенные лица? – Я быстро выпила стакан ледяного сока, который нам тут же принес официант с непроницаемым взглядом – неровен час и официанты тут в погонах, раз все так сурово.
– Тебе не интересно, правда? – Слава пытался шутить, но у него это плохо получалось. – Никого не сфотографируешь. А здесь, кстати, даже и не думай фотографировать, отнимут камеру сразу, причем навсегда. Зато здесь любой, кто придет, может чувствовать себя в безопасности, как в бронированном автомобиле.
– А зачем мы сюда пришли, Слав? Ты…
Ну да, конечно. Я перевела на язык слов – не чувств, не ощущений – то, что переживал сейчас Слава. А переживал он самый обычный, банальный и очень сильный страх. Слава боялся меня, он не понимал, что происходит. Может, налет на квартиру – только первый звоночек. В политике ведь все так серьезно… Он и так сделал смелый шаг – решил встретиться со мной, подозревая, что я имею какое‑ то отношение к ограблению его квартиры, только по какой‑ то причине сдала налетчиков.
– Награбленное не поделили, – объяснила я Славе. – Осторожно…
Слава поперхнулся своим зеленым чаем, несмотря на мое предупреждение. Бедный чемпион. Или я сейчас разговариваю не с чемпионом? Все‑ таки с трусливым политиком? А бывают разве другие? Да, бывают, конечно, но долго не живут.
Я увидела на телефоне высветившееся слово: «Мама». Ничего себе. Мама мне звонит раз в полгода. А тут уже второй звонок за месяц, кажется.
– Да, мам.
– Лика‑ а‑ а…
Я услышала мамино рыдание. Не совру, если скажу, что на моей памяти мама плакала два раза – когда умерла бабушка, и еще когда я однажды сказала, что Валерик – тупой идиот безо всякой надежды на успех, недоучка, лентяй и в этой связи полный неудачник. Почему‑ то мои слова тогда поразили маму в самое сердце, возможно, я просто сказала то, о чем мама даже боялась подумать.
О чем же плачет моя мама сейчас? Я как‑ то сразу поняла, что ничего трагического не произошло, что все живы, никто не отрезал себе ненароком конечности и не сшиб человека насмерть. Тем более, что кроме меня в нашей семье водит только Валерик, у которого машина с прошлого года стоит со снятым аккумулятором и тремя колесами.
– Мам, успокойся, что случилось?
– А ты не знаешь? – Мама тяжело дышала, набирая дыхания для того, чтобы зарыдать еще сильнее.
– Нет.
Слава выразительно посмотрел на меня – может, он думал, что я, как некоторые дочери, разговариваю со своей мамой по три раза на дню, обсуждаю рецепт утиного паштета с яйцом и вчерашнюю серию полицейского детектива.
Я прошептала ему: «Извини, два слова с мамой нужно сказать, она плачет». Слава кивнул. Я пыталась вслушаться в мамины неумелые всхлипы – красиво плакать женщины учатся годами, сквозь слезы говорить то самое важное, что мужчина должен услышать именно в такой момент, но это не про мою маму, ее мужчин слезами не возьмешь, сами поплакать мастера. Из того, что говорила мама, я толком понять ничего не могла. И вдруг, на секунду выключив в своей голове громкий звук маминых переживаний, я поняла. Отчим. Да нет! Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Неужели он, тихий, покорный, забитый, зависимый до самой последней своей клеточки, решился на такой шаг?
– Ушел Петр Евгеньевич, понимаешь, дочка?! По‑ настоящему ушел! Все газетные вырезки свои в коричневой папке даже взял! Помнишь его папку? Она стухла уже вся, а он ее взял! Зачем это ему, интересно, показывать своей молодой шлюшке, что ли? Какой был радиоактивный фон в районе щукинской поймы в 1970 году? – Мама горько засмеялась.
А я порадовалась – раз мама так красочно объясняется, членораздельно выговаривает сложные слова, даже шутит – не я, моя мама! – страшного с ней ничего не произойдет.
– Мам, а кто тебе сказал, что она молодая?
– А ты знаешь, сколько ей лет? Ты знаешь? Знаешь! Знаешь и молчишь! Всегда так! Я ведь тебя еще тогда спросила, кто у него. И ты все поняла! Я по твоим глазам видела, что ты поняла! Ты поэтому и убежала, чтобы мне навредить, как обычно, чтобы ничего мне не говорить!
– Мам, кто из нас экстрасенс? – Я взглянула на Славу, но он никак не отреагировал на мои слова. Ну и хорошо, раньше времени не испугается.
– Шутишь, балаболка! На радио своем шути, мать позорь! Экстрасенс она, видишь ли! Да я такой же экстрасенс, как и ты, чтоб ты знала! Я все давно почувствовала, я даже видела ее во сне, тварь эту, переманившую Петрусю!
– И где же они познакомились, раз ты все знаешь? – Я постаралась спросить это спокойно, хотя мамин воинственный тон и традиционная манера перевести все военные действия, всю артиллерию и удары с воздуха на меня ничего хорошего ни мне, ни нашему разговору не предвещали.
– На птичьем рынке! Что, съела? Думала, ты одна такая умная? Я сразу поняла, когда он тогда приехал с рынка, как в чумной маске, ненормальный…
– Мам, – негромко остановила я ее, – а что такое чумная маска?
– Отстань! Ты жестокая и равнодушная! От тебя ни капли сочувствия матери! Нет и не было никогда! Ты как не дочь мне!
А ты как не мать, могла бы сказать я, но, разумеется, не сказала.
– Мам, если ты хочешь, я к тебе приеду. Но я вряд ли тебе чем‑ то помогу. Сходи лучше в церковь, поставь свечку святому Петру, чтобы вразумил Петра Евгеньевича и объяснил ему, что никто, кроме тебя, любить его никогда не будет, потому как не за что его любить. Полное отсутствие мужских качеств. И той женщине с котятами…
– С котятами? – взвыла мама. – Я поняла! С котятами! Вот откуда этот бред, который он нес последние дни. Все спрашивал меня, нет ли у него аллергии на котов! Я говорила, что нет, а он снова спрашивал – не мешают ли коты спать по ночам. Он ведь, знаешь, сволочь старая, если ночью проснется, до утра не уснет.
– А ты что говорила, мам? В смысле, про котов что ответила этой старой сволочи?
– Не смей так про Петра Евгеньевича говорить! – взвилась мама. – Я сказала, что коты очень полезны для здоровья и долголетия… О‑ о‑ ой, дура я какая! Дурочка глупенькая, доверчивая…
– Мам… – я взглянула на Славу, который уже очень нетерпеливо смотрел на меня и нервно постукивал пальцами по темной скатерти. – Мам, ты извини, я не могу больше говорить. Я думаю, он вернется.
– Думает она! Да ты о матери никогда не думаешь! Ни словом, ни делом не поможешь! Всем же кажется, что ты такая замечательная! Ты бы себя слышала по радио! Просто совесть сорокалетних москвичей, звучащая в эфире!
– Здорово сказано, мам, я сегодня это повторю в эфире, скажу, моя мама меня такими словами отругала с утра пораньше. Всё, пока, звони!
Я выключила телефон, хотя мама продолжала что‑ то говорить на очень повышенных тонах. Хорошо, что у моей мамы всегда есть внешний враг. Ведь это лучше, чем безадресно корить судьбу или Всевышнего, а уж тем более себя. Ни Валерика, ни Петра Евгеньевича серьезно ругать тоже нельзя – они смысл маминой жизни. И какой же он будет, этот смысл, если мама в них по‑ настоящему разочаруется? Поэтому пусть лучше ругает меня.
– Слава, извини ради бога, мне мама звонит раз в год, только если что‑ то случилось. У нее просто серьезные неприятности с мужем.
– С твоим отцом? – зачем‑ то уточнил Слава.
– Нет, отец давно умер, то есть пропал без вести. С отчимом. Ладно. Ты готов к суровой и очень странной правде? Не сойдешь от нее с ума?
– Я от политики и спорта с ума не сошел, так что…
– А жуки?..
Ну что у меня за особенность мозгов! Конечно, Слава улыбнулся, но уж очень как‑ то через силу.
– Жуки – да. Это ненормально, я согласен.
– Слав, прости. У меня просто так созданы мозги. Я над всем смеюсь, даже если мне это нравится. Мне, кстати, именно твоя картина с жуком и помогла. Я ее повесила в холле и мимо нее хожу каждый день. Смотрю на жука, и мне так же хорошо от этого, как в первый раз, когда я ее увидела. Ты что‑ то такое вложил в нее… Свое, энергетическое, личностное…
– Ты серьезно говоришь?
– Да. Объяснения этому я не знаю, хотя думаю, что физическое объяснение есть, просто нам пока неизвестное. Наверняка, что‑ нибудь связанное с законами квантовой физики, которые будут изучать в школе твои внуки. Ну вот, от этой картины я почувствовала что‑ то такое… неприятное, тревожное в день ограбления или накануне, я точно не помню. Я еще хотела тебя предупредить, звонила поздно ночью, но ты не ответил на звонок.
– Да, я иногда отключаю телефон, – растерянно сказал Слава. – И что? Ощущение – и что? А откуда ты приметы грабителей знала?
– Откуда? – задумчиво переспросила я, всеми силами пытаясь отогнать от себя то, о чем Слава сейчас думал. Да нет, не может Слава такого предполагать обо мне. Как же неприятно заглядывать в душу другому, когда он так плохо о тебе думает. Плохо и глупо. При чем тут я и грязная политика, во‑ первых, а потом, своровать медали и деньги, чтобы выбить из предвыборной гонки бывшего чемпиона, – не самая изящная идея.
– Слав, если бы со мной посоветовались, я бы точно предложила что‑ то другое.
– Ты общаешься сейчас со мной тоже по законам квантовой физики, которые еще никто пока точно не знает? – продолжал настаивать Слава. – Я ведь тебя про приметы спрашиваю, откуда ты их узнала.
Я посмотрела на напряженное, уже не очень молодое лицо бывшего олимпийского чемпиона. Как же лица многих спортсменов удивительно похожи на лица рабочих, всю жизнь занятых тяжелым трудом. Грубоватая кожа, глубоко прорезавшиеся морщины, плотно сбитая нижняя челюсть – признак постоянных волевых усилий…
– Сказать тебе, чем тебя так достал сегодня сын за завтраком? Так, что ты хотел дать ему пощечину, да остановился?
Слава замер с крохотной чашечкой в руках. Теперь, выпив мутного зеленого чая, от которого исходил настойчивый запах прелой соломы, он пил черный кофе с сероватой плотной пенкой. Слава аккуратно поставил чашечку на квадратное блюдце.
– Я понял. Везде камеры. А ты?.. Ты… – он неопределенно обвел вокруг себя взглядом, – с ними? Или просто крутишься с органами, везде свои люди, что‑ то тебе дали посмотреть…
– Слав! – Я остановила его. – Это бред, ты сам не понимаешь? Ты же мне позвонил, когда я была на Пресне, и через полчаса я уже сидела в твоей машине. Какие органы? Где я кручусь? Я просто… Я просто всё знаю теперь про всех. С некоторых пор. После аварии, в которую я попала весной. Понимаешь?
– Всё про всех?
– Нет, конечно, выборочно. Про тех, с кем общаюсь. Самое такое, знаешь, больное и острое. Но иногда и ерунду понимаю какую‑ нибудь. Радости, кстати, такое знание не добавляет, поверь мне. Но зато я иногда кому‑ то помогаю. Вот про любовницу отчима, которая котят продавала на птичьем рынке, я узнала раньше мамы, мама только догадывалась, чувствовала что‑ то. А я взяла и прочитала у него в голове, как урывками, эпизодами фильм посмотрела. Но маме своей никак не помогла. А тебе – видишь…
– А мать у тебя тоже, значит, экстрасенс? – вдруг совершенно спокойно и другим тоном спросил Слава. – Со мной два раза работали экстрасенсы. После травмы и перед одной Олимпиадой как‑ то. Правда, в мозги не залезали…
– Или не говорили тебе об этом, – засмеялась я.
Слава чуть спокойнее и внимательнее посмотрел на меня:
– Ну да. Или не говорили…
– Вот. Успокоился немножко?
Слава неопределенно кивнул. И спросил:
– И что, ты теперь можешь сказать, кто победит на выборах?
– Ага. И сколько проправильственных фракций будет в Думе. И кто станет министром финансов.
– А министром здравоохранения?
Я засмеялась. Мужчины, тихо разговаривавшие за дальним столиком, оглянулись на меня. Я подмигнула Славе:
– Может, еще громче засмеяться? Подойдут поближе, в головы им залезем, тайны какие‑ нибудь узнаем. Это кто, кстати?
– Да я не знаю, – пожал плечами Слава. – Нет, лучше громко не смейся. Подойдут, да не они.
– Тебе нравится вот так жить?
– Как? Я всегда жил по расписанию, в жестких тисках. Сейчас чувствую даже некоторую свободу. Так кто же все‑ таки будет министром здравоохранения?
– Слав, да ты что!
Я смотрела во все глаза на умного, вполне адекватного миру и самому себе, как герою спорта, человека и только диву давалась – он так наивен? Или же, как очень многие, живет в своей капсуле, в понятном ему мирке и законы остального мира для него просто не существуют.
– Слав, – терпеливо ответила я, – я тебе объяснила. Я понимаю лишь то, что очень беспокоит человека, душу его задевает, так, наверно. Хотя я не читала инструкции к своему дару. Не приложили, надо позвонить, попросить, чтобы выслали.
– Ясно, – ответил Слава. – Я так и думал. Все туманно и сомнительно.
– Слав… – негромко попросила я его. – Слушай, не надо быть таким. Тебе не надо. Столько лет потратишь на ерунду. На вранье. Ты же не бедный человек. Займись чем‑ нибудь полезным. Школу спортивную открой. И пусть там преподаватели хорошо получают, а родители, особенно небогатые, платят не очень много. Не знаю…
– Я буду министром, – ответил мне Слава. – Не сейчас, так потом. Понимаешь? Я хочу…
Да, я поняла. Он хочет почувствовать себя опять так, как тогда, когда он стоял на пьедестале с золотой медалью на груди, с самой главной спортивной медалью в мире. Плакал под гимн, и перед ним был огромный восхищенный им, Славой, мир. Это непередаваемо.
– Слав, ты взрослый человек. Зачем тебе это? Министр – это вовсе не чемпион, это суетная, часто бессмысленная и очень формальная деятельность.
– Ты не понимаешь, – Слава махнул рукой официанту. – Ладно, пойдем. Я понял, что ты не из органов, и не с преступниками заодно. И не от моих конкурентов. Странная ты все‑ таки, Борга. Или притворяешься такой?
– Ага. У меня оперативный псевдоним в разведке знаешь, какой?
Слава внимательно посмотрел на меня:
– Какой?
Я засмеялась:
– Слав, тебе точно не надо быть министром. Там другие законы. Не такие.
– Квантовые? – уточнил Слава.
– Отнюдь.
– Садись, я довезу тебя до твоей машины.
– Да нет, спасибо. Я с удовольствием в кои веки раз прогуляюсь по центру Москвы. Дышать, конечно, нечем, но посмотрю, что да как, в книжный зайду.
– Слушай, Лика, я вот что подумал… – Слава аккуратно взял меня под локоть. – Если все так, как ты говоришь…
– Именно так, не сомневайся.
– Тогда… Может, ты мне и сможешь помочь. Хочешь, будешь моим референтом? Таким, знаешь, – негласным.
– Ты предлагаешь мне работу? – Я постаралась больше не смеяться.
– Скорее, сотрудничество. Будешь там… по обстоятельствам… на переговорах присутствовать, на заседаниях всяких, потом мне расскажешь, кто да что на самом деле думал…
Я остановила его:
– Слав… Знаешь, откуда у меня приметы преступников? Их видел человек, который сам просто не может по ряду причин обратиться в полицию. А человек нормальный, хотя и вне закона сейчас, так вышло не по его вине. Вот он меня и попросил помочь справедливости. Он твой поклонник, давний и преданный.
– Та‑ ак. Ясно. Я что‑ то в этом роде и предполагал. В смысле, о тебе, что ты никакой не экстрасенс, а… А про сына ты как узнала? Ведь он действительно утром из меня просто всю душу вытряс.
Я пожала плечами:
– Да с потолка взяла. Я же знаю, что у тебя сыновья подростки. С ними всегда у всех разные неприятности.
– У тебя ведь нет детей, – зачем‑ то уточнил Слава.
– Нет.
– И не будет, да?
Я посмотрела на своего давнего приятеля. Конечно, мы никогда не были дружны, но иногда так бывает, что из всех людей, с которыми знакомишься по делу случая, с одним‑ двумя образуются более теплые, настоящие отношения, пусть и не очень глубокие. Мне казалось, что именно так у меня со Славой. Поэтому он доверился мне, подарил картину, рассчитывал, что я не буду осмеивать его странные художественные пристрастия на публике…
– Наверное, не будет. А что?
– Да я как‑ то подумал… Даже не знаю, отчего это мне сейчас пришло в голову. Голова вроде совсем другим занята… Ты какая‑ то, знаешь… м‑ м‑ м… и не то чтобы не женственная, нет, ты вполне ничего, но просто ты… – Слава не мог подобрать слов, и я понимала к чему – к ощущению, которое трудно, практически невозможно выразить словами. Нет таких слов, в современном, по крайней мере, языке. – Вроде и человек, а вроде и…
– А вроде и нет, – весело закончила я. – Гном. Ты прав, гномы не размножаются, я уже об этом думала. Они живут долго‑ долго, потом умирают, и от них ничего не остается, даже маленького скелетика. Маленькие, вредоносные, но несчастные и очень экологичные существа. Все, пока, Славочка! Подумай о том, что я сказала. И я на тебя не обиделась ни за что, разве что чуть‑ чуть. Ага?
Не давая ему ничего сказать, я быстро свернула в переулок и пошла, не оглядываясь, практически уверенная, что Слава догонять меня не будет, тут же сядет в свою машину, которая давно уже потихоньку подъехала к нам и стояла в трех метрах. И поедет по своим суетным и очень уж ненадежным делам.
Глава 48
Я машинально слушала новости на первом канале. Небывалая жара в Башкирии; авария в северной столице, которая еще лет двадцать назад и думать забыла, что была когда‑ то столицей Российской империи, той, которой давно нет; ставшая уже привычной смена губернатора на периферии – трудно удержаться от соблазна стать верховным правителем в своем районе, пусть даже и с оговорками, что где‑ то там, наверху, есть кто‑ то поважнее и власть там практически абсолютная, зато здесь ты царь и бог в одном лице, пока не прислали следующего… На орбиту полетел новый экипаж, трое наших, а еще американец, японец… Здорово, может, известный мне человек сидит сейчас за пультом управления и наблюдает за работой какого‑ нибудь прибора в этом корабле, волнуется, чувствует свою причастность к полету…
– Дэрик Паттерсон, Яшимото Кимияки, а также российские космонавты чувствуют себя нормально, – доброжелательно рассказывала моя любимая диктор, идеальная телеведущая – всегда выглядит так, как будто она хорошо, но немного поела очень здоровой, питательной и легкой пищи, тщательно почистила зубы, посмотрела перед эфиром на себя в зеркало и убедилась, что красивей и правильней лица, спокойней, доброжелательней просто в мире нет, и только после этого села читать телетекст.
– Евгений Климов, выполняя свой первый полет, решает одновременно две важнейшие задачи… – невозмутимо рассказывала ведущая новостей.
Я застыла с откушенной сушкой‑ малюткой в руке. Нет, этого быть не может, потому что не может быть никогда. Климову четыре месяца назад было сорок девять лет. Допустим, ему еще не успело исполниться пятьдесят. Я ведь не знаю, когда у него день рождения. Но даже если не исполнилось. Там дюжина человек тренируется каждый день, чтобы однажды полететь в космос. А тот, кто уже не полетел, кто двадцать лет ждал, не дождался, был списан или сам себя списал – какая разница, но тот, у которого вышли все сроки и все силы на ожидание, – он не может больше ни на что рассчитывать. Не исполняют в пятьдесят лет в первый раз сложнейшее двойное па‑ де‑ де из балета «Баядерка». Не танцуют «Дон Кихота», не бегут сорок два километра марафонской дистанции, не крутят кульбиты и хуки на спортивных самолетах…
Климов широко улыбнулся и, легкомысленно качнувшись вправо‑ влево, помахал мне рукой с экрана.
– Привет, – прошептала я. И тоже помахала ему рукой.
– Привет, – беззвучно ответил мне Климов. То есть отвечал он наверняка со звуком, только с орбиты сейчас никакого звука не шло. Пять взрослых дяденек, включая моего знакомого писателя детских сказок, плавали в рубке перед монитором в состоянии невесомости и доброжелательно улыбались всем остальным, не летавшим в космос.
– Вот, твоя! – Я взяла лежавшую передо мной книжку климовских сказок и показала ему.
Климов радостно покачал головой и показал мне большой палец. Остальные космонавты тоже чему‑ то очень обрадовались и тоже как могли выразили свой восторг. Вот и ладно. Климов человек тонкий, умеет читать даже и не по губам, а по вибрациям тонкого эфира, заполняющего все пространство – как земное, так и околоземное, по всей вероятности. Так что сомнений в том, что он сейчас разговаривал лично со мной, у меня практически не было.
Моя любимая диктор, к сожалению, перешла к другим новостям, а я открыла климовскую книжку. Какие чудесные рисунки. Добрые, светлые. Какие прекрасные слова. Милые очаровательные герои, очень оригинальные, ни на кого не похожие… Но почему же так плохо продается книжка? Нулевой уровень раскрутки, объяснили мне в издательстве. Что взял оптовик насильно, как новинку – обязан взять, иначе ему не дадут бестселлеры, на которых он и живет, и копеечку свою немалую имеет, то и взял. Еще возьмет только при каких‑ то особых обстоятельствах. Либо автор вложит все имеющиеся средства на рекламу своего опуса – не важно, хорошего ли, дурного, шедевра или даже совсем неприличного. Либо найдет того, кто вложит. А так остается надеяться, что книжечка за книжечкой, помаленьку, скромный тираж распродастся сам собой и, по крайней мере, не уйдет на вторсырье, провалявшись на складе несколько лет.
Вот жаль, что по телевизору не сказали, что у космонавта, который сейчас на орбите работает, книжка детская вышла! Так… Стоп. А это идея. Кроме того, что я скажу это в эфире сегодня вечером, я еще и по‑ другому нашу книгу подтолкну. Ведь как‑ никак я тоже причастна к ее изданию. Лежала бы сейчас у Климова в виртуальных закромах, забытая самим автором.
Я быстро нашла нужный мне номер.
– Издательский дом «Нооригмы», Лика Борга, – представилась я, тут же поймав саму себя на мысли, что и первое, и второе я произношу подчеркнуто легко. Вот ведь не легко, а так чуть подчеркиваю – и ничего особенного в нашей славе‑ то и нет. Слава как слава. Вот тебе и скромница Борга, которая думает о вечном, не посещает салоны красоты, а звездные тусовки – лишь по приказу, и всячески распекает звезд за их чванливость и самовлюбленность.
Кстати, я могу теперь представляться и как ведущая на знаменитой радиоволне, но мне сейчас срочно нужно взять интервью у руководителя центрального телеканала. Что ему говорить с ведущей радиоэфира? А вот дать интервью для нашего журнала… Только надо обсудить это с начальством, потому что даже у моей свободы и самостоятельности есть свои ограничения. В лице генерального директора, к примеру, он же первый отдел и главный цензор. Но к нему сама я не пойду, а начну со своего непосредственного шефа.
Вячеслав Иванович на удивление быстро согласился, что нам просто необходимо интервью с шикарным, вальяжным и плохо доступным для прессы руководителем одного из центральных каналов на телевидении. О том, что я уже от лица журнала договорилась о встрече, я умолчала. Дам своим начальникам возможность считать, что это решили они.
Глава 49
Задав первые же два вопроса Кириллу Александровичу и получив в ответ на оба приятную улыбку, я поняла, что его слава темной лошадки с загадочным прошлым и плотно закрытым от посторонних глаз настоящим – не выдумка. Ничего он не собирается мне отвечать. И ладно, я ведь не затем пришла. Попробую сразу о космосе и о летающем сейчас в нем Климове.
И тут в дверь заглянула девушка:
– Кирилл Александрович, вы позволите, я… – Она запнулась, увидев меня.
Я с интересом смотрела на молодую сотрудницу. Кирилл сделал ей знак, чтобы она подождала за дверью.
– Знаете, отчего она покраснела? Редкое свойство, кстати. Давно не видел, чтобы взрослые девушки краснели…
Я быстро ответила, не дав ему продолжить:
– Кажется, она боится, что… что вчерашняя смелость ей так даром не пройдет. Но отказываться от своих слов и не думает.
Кирилл чуть помолчал, разглядывая меня.
– Да, все верно, я помню, там было что‑ то о ваших колдовских навыках… У конкурентов было, в их очень субъективных и несерьезных новостях. Мы не стали говорить об этом. Банкира какого‑ то вы со свету свели, да? Думал, имя себе делаете. Еще раз так сможете – как про Лену нашу сейчас рассказали?
– Скорей всего – да, – вздохнула я.
– В принципе, это не важно, – снова улыбнулся своей знаменитой улыбкой руководитель центрального телевизионного канала.
Широкая ослепительная улыбка и строгие, грозные даже глаза из‑ под шикарных бровей. Если бы у него не было этого имиджа просто по случаю, по природе, его стоило бы придумать для такого поста.
– Мне все равно, понимаете вы как‑ то больше других или просто умны. Ведь умные люди и так понимают больше других.
– Ну да, – кивнула я, думая о том, что беспокоило сейчас Кирилла.
Не сказать ли ему об этом? А зачем? Он и так прекрасно знает, какого критического состояния достиг конфликт в семье и как некстати это ему сейчас, совсем некстати. И с женой. И с сыном. Сказать, чтобы произвести еще большее впечатление, чем я невольно произвела. Не стоит. Ведь помочь я все равно не смогу, не умею. К этому таинственному каналу не подключена, увы. Может быть, пока, может быть, со временем я научусь и лечить души, и гасить конфликты, не применяя при этом минометы и не таская своих подопечных за собой по городу. А пока…
Впрочем… Я вдруг почувствовала, как удобнее всего было бы выйти из трудной ситуации Кириллу. Удобнее, спокойнее. И никому бы от этого не было плохо. По крайней мере, не хуже, чем сейчас. Чуть даже лучше.
– А если сыну пожить на даче с бабушкой? Он и заниматься там сможет, мальчик совершенно нормальный, надзор за ним особый не нужен. И бабушке веселее. А жена пока успокоится, не станет на нем отыгрываться за вас. И вам, раз вы решили все оставить как есть, легче будет с ней договориться. Ей при сыне не хочется идти вам навстречу, слишком легко все прощать…
Кирилл сощурил глаза, откинул прядь волос, раздул ноздри… Ну, император, понятно, властитель огромной могущественной и богатейшей империи. И какая‑ то… – кто я для него? – мелкая сошка из убогого журнальчика – вдруг лезет, да еще в такие запутанные и душные семейные дебри…
– Я разберусь, – сквозь зубы проговорил Кирилл. – Неужели это все стало достоянием…
– Нет, – засмеялась я, хотя мне было вовсе не смешно, а неловко. – Не стало, – повторила я. – Это знаю я, потому что это знаете вы. Больше ничего.
– И что, обо всех вы так знаете? – Он очень внимательно и уже не так грозно посмотрел на меня.
– Практически. Так что мой ум здесь ни при чем. Я пытаюсь не анализировать все, что слышу, иначе вся моя жизнь теперь будет уходить на расшифровку чужих тайных кодов.
– Передачу о себе хотите? Там… спичечные коробки подвигаете, мысли почитаете…
– Нет, – опять засмеялась я. – Я ничего этого не умею. По заказу не получается, я уже пробовала. Я живу, как жила раньше, когда не умела… м‑ м‑ м… понимать. Или почти так же.
– Или почти… – задумчиво повторил Кирилл, очень серьезно меня рассматривая. – Вот и порешили. Момент! – Он быстро набрал номер. – Андрей Сергеич! Зайди‑ ка на минутку. Нет, прямо сейчас. Значит, подождут! Проветрят головы, а то шутят у тебя как из‑ под палки…
– Кирилл… Александрович, а что мы, собственно, решили? – успела только спросить я, а в кабинет уже влетел маленький и очень уверенный в себе продюсер нескольких неглупых, крайне популярных и остроумных передач.
– Андрюш, вот известная или неизвестная тебе особа…
Андрей мельком взглянул на меня.
– Пока неизвестная. Чего хочет? Славы? Денег?
Я только слегка покачала головой. Мы, конечно, люди привыкшие к наглости нашего же брата, но зачем же так? Сказать ему о неприятности, которую он никак не решится сообщить Кириллу? Всё ждет подходящего времени. Придется сказать, если будет продолжать в том же духе.
– Лика Борга, радиоведущая …
– Я не слушаю радио, Кирилл Александрович, ты же знаешь. У меня в машине – Мацарт и Бах. Бах и Мацарт. Иначе меня взорвет.
– Так… – Кирилл выразительно откинул волосы со лба. – Не слушаешь, и молодец. Я тоже не слушаю. Тем не менее. Интересный проект намечается. Совершенно новый. Ни на что не похоже. Мне отличная мысль в голову пришла.
– С ней? Проект с ней? – Андрей довольно бесцеремонно кивнул в мою сторону.
Мне обидно не было, но я решила все‑ таки прекратить этот странный разговор в моем присутствии доступными мне на сегодня средствами.
– Наверно, пора наконец сказать о проблеме с Лавровским. Или платить ему надо, или менять его срочно. Сорвет съемку, будет истерика, как в прошлый раз, – проговорила я.
– Пресса? – Андрей брезгливо посмотрел на меня.
Конечно, они же все сразу думают, что я сижу в кустах и подслушиваю, подсматриваю, вместе с моими неугомонными коллегами‑ папарацци, ловлю каждое неумное или неловкое слово и бегу, несу это любопытным обывателям…
– Андрей, это не то, что ты думаешь. Это очень интересная особа. Лика, хочу вам предложить… У меня есть идея, надо ее развить. Знаю ваш хороший слог, быстрый ум, и при наличии таких чудесных способностей…
– …можно открыть маленький цирк на центральном канале, – договорила я. – Свой собственный, ни у кого такого нет. Дрессированные журналисты, читающие чужие мысли и громко тявкающие в сторону власти и знаменитостей.
Кирилл засмеялся:
– Да, что‑ то вроде того. Не знаю пока. Цирк, как вы выражаетесь, с политиками, может быть. Или что‑ то другое. Но вы уже у меня работаете, с сегодняшнего дня. Что там и как – с Андрюшей придумаете, мне завтра расскажете.
– Завтра? – Андрей поднял брови, но, встретившись взглядом с Кириллом, который уже уселся в свое кресло и с непроницаемым видом улыбался из него всем сразу и никому из нас в отдельности, больше ничего говорить не стал.
– Вообще‑ то я пришла, чтобы взять у вас интервью…
– Я не даю интервью, вы же знаете. Мне просто интересно было взглянуть на вас. Я слышал вас случайно по радио. Пару раз.
– Хорошо, спасибо. Еще я хотела…
– Человек еще что‑ то хочет после того, как ему предложили работу на нашем канале! – засмеялся Андрей.
– Я хотела попросить, вернее, предложить, чтобы в следующем новостном блоке, когда будут говорить о космонавтах, показали вот эту книжку. Это сказки Климова…
– Который сейчас летает? – Кирилл с интересом протянул руку, мне пришлось встать и поднести ему книжку.
Ладно, император так император. Империя же есть, и власть огромная есть – над умами, даже над сердцами. Не его лично любят, но детище его – сложное, многорукое, многоголосое, многолицее… «Обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».
– Да. Очень хорошие сказки. Но пропадут, если не подтолкнуть.
– Я посмотрю, – улыбнулся Кирилл. – Почему нет? А вам зачем это надо? Из любви к искусству?
Из любви к Климову, подумала я. А вслух сказала:
– Это я издала книжку.
– На свои деньги? – удивился Андрей.
– Да нет, почему. Просто помогла, хорошая литература. Разве так не бывает?
– Да, я что‑ то в этом роде о вас и предполагал, – кивнул Кирилл. – Внешность, конечно, у вас… Хотя…
Опять вмешался Андрей:
– Если ее чуть‑ чуть…
– Краситься в зеленый цвет не буду, даже не рассчитывай, – предупредила я.
– Покрасим в фиолетовый, – засмеялся Андрей.
Кирилл задумчиво смотрел на меня.
Андрей поймал его вопросительный взгляд и кивнул:
– Да, согласен. Необычная внешность, остроумная, смелая… Хорошо, я понял. Придумаем.
Я слушала, как они говорят обо мне в третьем лице, и лишь пожимала плечами. Важные, знаменитые мальчики со своими игрушками, дорогими, необычными такими же, как они сами.
– Лика еще… – Кирилл перевел взгляд на меня и продолжать не стал. – Потом сам поймешь. Чудеса всякие умеет делать.
– Руками или ногами? – засмеялся Андрей.
– Мозгами, – вздохнула я. – Но вообще‑ то я не собиралась работать на телевидении. Я собиралась уезжать из Москвы.
– В Америку, что ли? – поинтересовался Андрей.
Я махнула рукой:
– Да перестань! Зачем русскому человеку Америка? В глушь какую‑ нибудь, где электричество дают по часам и из всех подружек – соседская бабуля и ее престарелая корова.
Андрей приобнял меня и подмигнул Кириллу:
– Наш человек! Вот место Лавровского и занято!
Глава 50
С утра я включила новости. Да, вот как, оказывается, решаются некоторые вопросы. С милой улыбкой ведущая утренних новостей рассказала о такой симпатичной детали из жизни одного космонавта, находящегося сейчас на орбите. Хороший текст кто‑ то написал для новостей, ведущая с симпатией посмотрела на миллионы телезрителей, обложку показали на экране крупным планом… Все хорошо, прекрасная маркиза. Вот если бы не звенящая тишина в доме…
Вовремя зазвонили все три телефона – и городской, и два мобильных одновременно. Я мельком глянула на дисплеи лежащих передо мной мобильных и сняла трубку городского. Звонила мама.
– Я хотела тебе сказать. Просто, чтобы ты не беспокоилась…
Мне стало тепло и непривычно хорошо от маминого голоса. Ну надо же. Мама хочет, чтобы я не беспокоилась о ней, чтобы я не нервничала. А я ведь и правда все время думаю о том, как несправедливо получилось всё у мамы в жизни.
– Да, мам. Привет. Как дела?
– А дела хорошо, дочка. Петруся вернулся, вот сидит сейчас красит табуретку.
– В какой цвет?
Мама кашлянула.
– В красный.
– А почему в красный, мам? Как символ торжества справедливости? Или просто чтобы было веселее?
– Будут сидеть на ней по очереди с Валериком. Кто провинится, тот и сидит сегодня, – на полном серьезе ответила мне мама. – Это будет табуретка позора.
Ну и ладно. Главное, чтобы в их доме установился привычный миропорядок. Даже если для этого потребуется выкрасить часть мебели в красный или серо‑ буро‑ малиновый цвет.
Я представила себе грустного Петра Евгеньевича – это его нормальное состояние, он не бывает другим, ему так комфортно и удобно, в своей тягучей, щекотящей собственную душу грусти. Вот теперь еще новый повод для светлой печали – будет вспоминать котят и свою позднюю любовь, будет класть маме голову на плечо и плакать от невозможности счастья, от невозможности прощения, от сознания своей рабской покорности и полной зависимости от всех жизненных циклов моей мамы. Мог бы жить по‑ другому – не вернулся бы.
– Я поздравляю тебя, мама, с победой! – сказала я. – Не каждая женщина может похвастаться такой победой в своей жизни.
– Да, – почему‑ то не очень уверенно сказала мама. – Я победила.
– Ты… ты не плачешь, мам?
– Нет, – ответила мне мама. – Прости, – я услышала, как она высморкалась. – Да, я плачу. От счастья.
Я не стала уточнять, от чего именно плачет мама, и вообще развивать эту тему. Одно то, что она звонила мне, означало, что не всё так хорошо в ее королевстве.
– Мне приехать, мам?
– Не стоит, – твердо ответила мама. – Мы тут пока сами разберемся. Потом придешь в гости. Я испеку пирог с рыбой в воскресенье. Приходи.
– Я не люблю пироги с рыбой, мам. А в воскресенье у меня эфир. И еще я теперь буду работать на телевидении.
– О господи! – искренне ужаснулась мама. – Теперь, значит, и по телевизору позорить меня будешь. Ну что делать! У кого какая судьба.
– Вот именно, – засмеялась я. – Мам, у меня звонок на мобильном.
– Да ради бога! – ответила мама. – Когда у тебя было время на свою мать?
Я нажала отбой на городском телефоне и ответила «да» на одном из мобильных. Мне уже второй раз подряд звонил мальчик Женя Апухтин, и разбираться со своей мамой, кто из нас кого больше за жизнь обидел, я сейчас не могла.
– Да, Женя. Что случилось?
Женя молчал.
Конечно, разве можно так начинать разговор с ребенком? Это же не товарищ мой с канала новостей или с радио, привыкший общаться без «Привет» и «Пока».
– Доброе утро, Женечка. Я рада тебя слышать. Как у тебя дела?
– Хорошо, – ответил мне Женя и снова замолчал.
– Ты… – Я посмотрела на календарь, чтобы удостовериться, что сегодня не суббота. Не воскресенье – точно. В воскресенье будет пирог с рыбой и эфир с Геной Лапиком. – Ты не в школе? Ты заболел?
– Я сейчас гуляю, – ответил мне Женя. – Можете приехать ко мне?
– Конечно могу.
Связь прервалась, и я быстро перезвонила мальчику.
– Я приеду. Но почему ты гуляешь?
Женя помолчал и потом ответил:
– Только я не знаю, где я. Я сел в метро, проехал, потом вышел… Хотел сходить в «Макдоналдс», но не нашел. Там его не было. Потом я поехал на автобусе…
– Понятно. А что сейчас ты видишь?
– Киоск и дом красный…
С большим трудом мне удалось понять, на какой улице стоит сейчас Женя. Выяснять, как и почему он оказался в метро, вместо того чтобы сидеть за партой в школе, смысла никакого не было. Главное, чтобы он не потерялся до того, как я смогу добраться на другой конец города, где находится 9‑ я Парковая улица.
– Женя, а родители тебя не ищут? Не надо позвонить им на всякий случай?
– Тетя Лена сказала, что они еще спят. Лучше попозже позвонить, – спокойно ответил мне Женя. – Я уже звонил, и у меня почти все деньги кончились на телефоне. Я думал, что не получится вам позвонить.
– Я поняла. Сядь на какую‑ нибудь лавочку и жди меня, хорошо? Можешь учебник по литературе почитать, например.
– Хорошо, – ответил Женя. – А учебник не промокнет?
Я быстро посмотрела в окно.
– У тебя там дождь?
– Да. Но у меня ноги почти совсем не промокли…
Я уже стояла у лифта и смотрела, как он быстро едет с двадцать второго этажа на мой двенадцатый. Огромная Москва, расползшаяся ввысь и вширь. На Октябрьском Поле – солнце, последнее, осеннее, яркое и негреющее, а в Измайлове накрапывает дождь, и у мальчика Жени Апухтина почти совсем не промокли ноги…
– Женя! Что мне с тобой делать!
– Можете бойкот мне объявить, – серьезно ответил Женя. – Я папу тоже довел. Он мне еще тогда бойкот объявил, когда я не хотел нормально себя вести…
– Слушай, я уже в лифте, сейчас связь прервется. Иди… Не знаю куда. Там есть магазин какой‑ нибудь? Супермаркет большой? Нет, подумают еще, что ты воришка. Ладно, на остановку автобусную сядь, под крышу.
– Хорошо, – сказал Женя. – Но здесь только трамваи.
– Найди, пожалуйста, какой‑ нибудь навес. Чтобы люди вокруг были. И телефон не потеряй.
– Хорошо, – послушно ответил Женя.
– И жди меня! Я скоро буду!
Как можно быстро в будний день, когда все едут на работу и на учебу, добраться на противоположный край Москвы? На метро точно быстрее. Вот не выпендривалась бы, побежала бы со своим нежданным даром собой торговать, была бы, может быть, штатным экстрасенсом в правительстве, летала бы на собственном вертолете над Белокаменной…
Я была практически уверена, что через час двадцать, когда я, обалдевшая от духоты и какофонии метро, выйду на востоке Москвы, Женя уже будет далеко от 9‑ й Парковой. Но мальчик, как послушный и образцовый ребенок, обняв свой школьный рюкзак, сидел под навесом у метро рядом с бабушками, расположившимися прямо на земле и торгующими последней в этом году петрушкой с огорода.
– Привет! – сказала я Жене.
– Привет, – ответил мальчик, видимо заждавшийся меня.
Бабуся, раскладывавшая на коробке из‑ под южноамериканских мандаринов свой чеснок и петрушку, завидев меня, неодобрительно покачала головой:
– Ну вот что за матеря теперь такие, а? Что он сидит, тебя ждет? Дел много? Всех денег никак не заработаешь?
Женя вопросительно посмотрел на меня – как я отреагирую?
Я обняла мальчика:
– Я рада тебя видеть. Пойдем. Ты голодный?
– Да уж ясно дело, что не сытый! – ответила за него бабуся. – Ну, вы смотрите на них, а! Кепки наденут набекрень и побежали…
Мы с Женей переглянулись. Я посмотрела на бабулю, на приближающегося с другой стороны стража порядка, выразительно махавшего старушкам, сидящим у метро со своим немудреным товаром – кто с зеленью, кто с отростками комнатных цветов в самодельных горшочках из‑ под пластиковых бутылок, кто с пышными, но грустными осенними букетами. Я достала кошелек.
– Сколько богатство ваше стоит, бабуля?
– Петрушка по двадцать, чеснок – двадцать пять! – гордо ответила та. – И не торгуюсь, и так доллар подорожал!
– И правильно. А цветочки почем? – Я кивнула на два скромных букета темно‑ голубых растрепанных цветов, похожих на одичавшие хризантемы.
– По восемьдесят букет. Но тебе отдам за пятьдесят.
– Считай, – я кивнула Жене, – сколько за все будет?
Мальчик на удивление быстро и правильно посчитал:
– Триста сорок рублей.
– Молодец. Бабуль, мы все возьмем, заготовим на зиму себе чеснок с петрушкой, да, Женя? – Я протянула ей пятьсот рублей. – И букеты себе подарим сами, раз нам никто цветов не дарит.
Бабуся недоверчиво рассматривала мою купюру, а потом спохватилась:
– Сдачу, а сдачу‑ то возьми!
– В следующий раз, ладно? А то мы и так никуда не успеваем!
– На математику, да? – испуганно спросил Женя. – Можно не пойдем?
– Да какая уж там математика! – отмахнулась я. – Давай пойдем где‑ нибудь позавтракаем и заодно пообедаем. А то я ничего не ела и не пила сегодня. А ты?
Женя уклончиво помотал головой, из чего я заключила, что если он что‑ то и ел, то говорить ему об этом совсем не хочется. Кому интересно говорить о том, что он когда‑ то съел?
– Я без машины, благодаря тебе…
Я быстро посмотрела на мальчика, мгновенно сжавшегося от моих слов. Слова надо выбирать, разговаривая с ребенком. Быть искренним, внимательным и очень разборчивым в словах.
– То есть… Давай‑ ка на метро до центра доедем. А там разберемся, куда нам идти, да? У меня пара часиков есть. Не хочешь мне рассказать, почему ты из школы удрал?
Я покрепче взяла Женю за руку, и мы направились в метро.
Странно. Это чувство ни с чем невозможно сравнить. Я понимаю теперь озабоченный и полный собственной значимости вид мамаш, когда они тащат своих чад в поликлинику, или школу, или еще куда‑ то. И понимаю, почему меня всегда подсознательно раздражает их превосходство. Что особенного в вашей роли? Хочется сказать мне. Мне, которой некого и некуда тащить.
– Я не удрал, – ответил Женя. И замолчал.
– Хорошо, ладно. Проходи… проходи… А разве детям не бесплатно в метро?
– Какие дети? – удивилась контролер в метро. – Он у вас разве не школьник?
– Он у нас школьник, – улыбнулась я.
Да, ясно, буду быстро учиться быть… Кем? Нет, я не хочу и не могу отвечать себе на этот невозможный вопрос. Просто буду быстро всему учиться.
Мы сели в полупустой вагон. И я внимательно посмотрела на Женю. Не похоже, чтобы он недавно мыл уши с мылом и вообще умывался.
– Скажи, пожалуйста, а ты сегодня где ночевал?
– Сегодня? – невинно переспросил Женя.
– Можешь не говорить.
Действительно, зачем говорить о том, как он пришел вчера вечером в школу, посмотреть, как тренируются старшие ребята на необыкновенных занятиях по рукопашному бою, – ломают доски голыми руками, прыгают выше собственного роста и, главное, дерутся, дерутся друг другом, и никто их за это не ругает. Потом, когда занятия закончились, он решил посмотреть, можно ли пройти с пятого этажа выше – туда ведет таинственная лестница, обычно закрытая решеткой. Решетка и сейчас была закрыта, но зато почему‑ то была неплотно прикрыта дверь в кабинет химии, где занимаются только самые старшие школьники.
Женя потихоньку зашел в полутемный кабинет – на улице еще не совсем стемнело, только начинало. Через некоторое время глаза привыкли к темноте. Сколько же всего необыкновенного он успел там увидеть! И пробирки, и всякие загадочные пакетики с порошками, и необычные баночки. Потом стало совсем темно – и в кабинете, и на лестнице. И Женя сначала сидел и боялся, а потом как‑ то незаметно для себя уснул.
Когда он проснулся, было очень холодно, неудобно, хотелось есть, пить. Он спустился на четвертый этаж в туалет, попил там воды из‑ под крана. Вернулся в кабинет химии, увидел, что и там была раковина, умылся. Кран никак не закрывался, но у Жени точно такой же хитрый кран дома, на кухне. Его надо прикручивать тихонько, осторожно, пока не останется последняя капелька, ее подоткнуть пальцем – и все, кран успокаивается.
Потом он нашел в шкафу у учительницы открытую пачку печенья. Печенье оказалось необыкновенно вкусным, и Женя съел всю пачку. Теперь он практически уверен, что химичка всегда будет ненавидеть его за это печенье, если узнает, кто его съел.
– Не узнает, – успокоила я его. – Как же она об этом узнает? Никто ведь так и не понял, что ты ночевал в школе? Все думали, что ты, как и все, пришел на первый урок, просто пришел одним из первых, да?
Женя, особо не удивляясь моим словам, кивнул. Вот ведь у детей мои способности почему‑ то оторопи не вызывают! И недоверия тоже. Если звери безо всяких слов и объяснений понимают то, что знает один из них – что нужно прятаться или что в лесу появилась вкусная и легкая добыча, то почему же и одному человеку не понимать про другого чуть больше, чем тот говорит?
– Ты уверен, что тебя не ищут родители?
– Я звонил. Тетя Лена сказала, что они спят…
– Ты мне уже это говорил.
Я внимательно смотрела на мальчика. Как же обидно, что я вижу иногда в своей голове всякие глупости – вроде обнаженных туркменских девушек, которые грезятся Генке Лапику в его потных мечтах, а вот просто понять сейчас – правду говорит мальчик или нет – я не могу.
– Давай я позвоню тете Лене. Или папе. Скажешь мне телефон?
Женя неуверенно произнес:
– Скажу.
– Давай, говори.
Я набрала номер и долго ждала, практически уверенная, что номер совершенно неправильный.
– Алё? – женский голос ответил мне спокойно и вполне доброжелательно.
– Лена?
– Да.
– Лена, скажите, у вас…
Я вдруг остановилась. А что я ее спрошу? Почему Женя не ночевал дома? То есть я буду ее ругать за невнимание к приемному сыну ее мужа – и муж ли он ей, я не знаю. Просто поинтересуюсь, как она относится к Жене? Или спрошу хотя бы, заметила ли она его отсутствие?
– Говорите, я слушаю! – так же доброжелательно сказала Лена.
– Лена, вы знаете, что ваш… – Как назвать Женю? Зачем я лезу в чужую семью, даже не зная, как мальчика называет его… Кто она ему? О господи… – Что… Женя ночевал сегодня в школе?
– Да? Почему? – удивилась Лена. – Я с ним поговорю, чтоб он больше так не делал. А он там ничего не разбил? Всё в порядке?
– В порядке, – успокоила я ее. – Всё в полном порядке. До свидания.
– До свидания! – приветливо попрощалась со мной Лена.
Я посмотрела на мальчика. Он сидел и читал рекламу книги неведомой писательницы, которая пишет, судя по плакату на панели вагона, о любви чувственной, беззаветной, страстной, волшебной… Интересно, это всё к одному человеку? Спросить бы писательницу, заплатившую за рекламу своего опуса раз в сорок больше, чем ее гонорары, встречала ли она сама такого человека. Может, именно он и оплатил цветные бумажки, которыми заклеены стены вагонов. Злая я, все‑ таки, злая. И не знаю или забыла, что такое любовь волшебная, томная, беззаветная. И еще как хочется, чтобы твои буковки – родные, драгоценные, самые лучшие – прочитали все‑ все‑ все. Даже если смысла в этих буковках меньше, чем в пузырящейся и въедливой рекламе мыла и химических йогуртов.
– Ты любишь читать? – спросила я Женю.
– Нет, – ответил он. – Я раньше любил. Но потом все книжки прочитал и стал читать второй раз. Но второй раз не так интересно.
– Ясно. Выходим. Здесь как раз и пиццерия есть отличная, и большой книжный магазин. Сначала поедим или за духовной пищей?
Женя повернул ко мне бледное лицо с темными кругами под глазами. Ну что я спрашиваю! И зачем веду его в пиццерию? Ему надо поесть дома супа, вареной курицы и лечь спать, часиков на десять. Но у меня дома супа не бывает никогда, тем более вареной курицы, и сама я через полтора часа уже должна быть на телевидении. Вот там и поспит. У меня в крохотной, но персональной комнатке, которую мне выделили как кабинет и как гримерку, есть даже диванчик. Это не домашняя кровать, но и не кабинет химии. Дети актеров и работников других таких же ненормальных профессий часто живут в театрах и за кулисами телевизионных студий. «Дети»?..
– Женя…
Как спросить об этом мальчика? Себя я уже спрашивала, и не раз, но ответа так и не получила – кем я хочу быть этому мальчику? Спрошу его.
– Женя… – повторила я, ненавидя себя за мямлость.
Ну что со мной такое! Я ведь ничтоже сумняшеся могу все что угодно императору телевизионной российской империи сказать – для меня он человек и человек, а тем более своим начальникам или всенародным любимцам, с которыми веду регулярные беседы о смысле их разноцветных судеб.
Нет‑ нет, пожалуй, сначала надо определиться с выбором пиццы. Ведь это очень важно, какую пиццу заказать. Одно дело – с нарезанными кружочками сосисок, другое с ананасами и курицей…
Глава 51
На проходной телевидения, показывая свой новенький пропуск, я объяснила охраннику:
– Мальчик со мной, на съемку.
– Нужно на него отдельный пропуск выписывать. Так не положено.
– Это…
Ну давай, Лика, смелее! Произнеси то, что тебе так хочется и так боязно сказать. Ведь обратного пути нет, по крайней мере, для тебя самой.
Я быстро посмотрела на Женю. Мальчик с интересом оглядывался по сторонам, хотя пока ничего интересного, кроме сверкающих после недавнего ремонта потолков и хромированных люстр, вокруг не было, ни одной мало‑ мальски известной физиономии. К тому же я думаю, что все Женины знаменитости пока сосредоточены в стране рисованных зверят, рисованных же ужастиков и героев.
– Я знаю этого дядю, – вдруг с необыкновенной радостью сообщил мне Женя. – Он играет маньяка в фильме. Когда он задушил свою соседку…
Я засмеялась и прижала к себе Женю.
– Я думала, ты пока только мультфильмы смотришь! Так, – я перевела взгляд на охранника, – вы нас с сыном, пожалуйста, пропустите, а то я опоздаю из‑ за вас, будет очень нехорошо.
– Не положено, – недовольно пробурчал охранник. – Проходите!
В моем кабинете Женя тут же пристроился на диванчик и выжидательно уставился на выключенный монитор телевизора. Я, увидев его взгляд, не задумываясь включила телевизор. Я попадаю в плен к маленькому человеку? Не слишком ли много раз за последние полгода я попадаю к кому‑ то в плен? Интересно, он заметил, как я назвала его, уговаривая охранника? А может, и заметил, да не придал никакого значения. Он привык к тому, что чужие, по сути, люди называют его сыном, ничего особенного в это слово не вкладывая.
Я посмотрела на мальчика, сосредоточенно переключавшего в этот момент программы на пульте. Я придумываю это, потому что мне так хочется, или действительно он сейчас думает о том, как сядет рядом со мной дома на уютном, мягком диване, как я налью ему чаю и пододвину большую вазочку с…
– С чем? – не удержалась я. – С солеными палочками?
– Да, – кивнул Женя. – С хрустящими палочками. Они стоят одиннадцать рублей, в нашем буфете в школе иногда продаются. Это вообще самое мое любимое, что только есть.
– Ясно… А я‑ то думала, чем я тебя кормить буду, я готовить не очень.
– Я люблю макароны с маслом, я вам приготовлю, – ответил Женя. – Толстые такие, знаете? Похожие на улиток. У меня жила улитка на подоконнике. А потом ее ворона съела. И еще умею варить яблочный компот, меня бабушка заставляла варить…
– Наверно, учила варить, да?
– Нет, заставляла! – Женя опустил голову.
– Ладно, – я с трудом прогнала из головы Женину грузную бабушку с жесткими седыми волосками, торчащими на подбородке, с толстыми пальцами, с тяжелым дыханием, с сумрачным взглядом водянистых глаз. – Женя, не думай, пожалуйста, про бабушку, я ее боюсь.
Женя от неожиданности даже засмеялся.
– Вы разве кого‑ то боитесь?
– Подожди секунду, – я отобрала у него пульт и включила звук у телевизора, где шел какой‑ то концерт. – Давай посмотрим. Я хорошо знаю эту певицу. И ты, кстати, ее видел, мы с тобой у нее в гостях были.
Женя кивнул и стал смотреть вместе со мной.
На сцену вышла Герда в короткой темно‑ голубой тунике и обтягивающих лосинах света индиго. С ней за ручку шла маленькая Лиза в прелестном и тоже ярко‑ синем платьице. Женя разулыбался:
– Да, я помню… И девочку…
– «Не проси меня смея‑ яться…» – начала Герда.
– «Я и так всегда смею‑ юсь…» – запела вместе с ней Лиза чистеньким и довольно крепким голоском. Вполне бабушкин напор и какой‑ то очень неожиданный тембр для такой юной певицы.
Герда запела своим мощным эстрадным контральто, по привычке широко расставив ноги. Так, вероятно, она стоит в бальных платьях, в которых поет уже много лет. В лосинах это выглядело забавно, но неплохо. Так обычно стоят мужчины‑ певцы, особенно оперные, поющие на хорошей опоре. Звук – на диафрагме, тело – на крепких ногах. Хорошо отлаженный поющий инструмент. Так и Герда сейчас. Тем более что рядом с ней пела маленькая, тоненькая, бесконечно дорогая ей девочка. Девочка, которая больше года никак не могла даже произнести ее имя. И Герда, скорее похожая сейчас не на энергичную бабушку, а на позднюю, но еще полную сил, любви, надежд маму, пела вместе с Лизой просто замечательно, не изображая из себя королеву, не встряхивая то и дело сверкающими искусственным блеском кудрями, не надувая губы, не вытаращивая глаза, на которые она – не удержалась! – наклеила огромные синие ресницы.
– Да, Герда, – я почти не удивилась, что Герда звонит мне.
– Послушалась тебя, идиотка. Оделась, как…
– Вам идет, вы же знаете сами, Герда. Стиль хулиганистой Мальвины.
– Что ты мне выкаешь? Хочешь подчеркнуть, что мне сто лет, а тебе нет еще и тридцати?
– Мне тридцать восемь, – засмеялась я. – А вам – сами знаете, никто и не догадывается, что вам сто лет.
– Какая же ты сволочь, Борга! – хмыкнула Герда. – Нравится тебе, как Лизанька поет?
– Нравится, – искренне ответила я. – Еще и бабушку перепоёт.
– И пусть, я не против, только за, – тоже совершенно искренне сказала Герда. – Ты когда к нам приедешь?
Я взглянула на Женю.
– Давайте в субботу. Я приеду с Женей.
– Это кто еще? Мужиков не надо никаких, ты что?
Женя доверчиво смотрел на меня, а я не смогла второй раз повторить то, что сказала на проходной охраннику.
– Это мальчик Женя, Герда. Помните, я приезжала с ним? Мой… племянник.
Я испугалась. Испугалась, что не смогу, не получится, что я буду еще хуже, чем Лена, что он не впишется в мою ненормальную жизнь, в которой я никогда точно не знаю, куда и во сколько поеду завтра, в котором часу вернусь домой…
– А‑ а, племянник. Да, конечно, приезжай с ним. Что ему подарить? Он играет в компьютер?
– Не знаю… Скорей всего, играет.
Я смотрела на Женю, сжавшегося на диване и как будто разглядывавшего что‑ то невидимое, что было перед ним.
Я нажала отбой, выключила звук у телевизора, где Герда с Лизанькой как раз спели заключительный аккорд в замечательный редкий унисон – в две октавы, и села перед мальчиком на корточки.
– Женя… Скажи… Ты хотел бы жить со мной? У меня дома?
– Я не знаю, – мальчик взял у меня из рук пульт. – Я переключу программу, можно?
– Конечно. Все равно я сейчас убегу по делам. А вот ты не убегай, будь любезен. Ты можешь посмотреть телевизор, поделать уроки. Ты знаешь, что тебе задано?
Женя неуверенно кивнул.
Нет, я не справлюсь. Я не справлюсь ни на одной стадии. Я не пройду бюрократическую пытку усыновления или получения опекунства. И вообще… Я не смогу отвечать за чужую жизнь. Я не готова, я не сумею. Женя – это не строманта. И даже не мопс. Это истерзанный одиночеством и ненужностью ребенок. А я…
– Посиди, ладно? Я время от времени буду заходить или звонить тебе. Вот смотри, очень хорошая книжка, ее написал настоящий космонавт, представляешь? Он сейчас на околоземной орбите летает. Тоже Женя, между прочим. Как и ты. Мой хороший товарищ, Евгений Климов. Попробуй, почитай.
Женя опять кивнул и с некоторым недоверием взял книгу, а я достала из шкафчика несколько пакетов с печеньем, сухариками и конфетами, положила перед ним на маленький столик и побыстрее ушла.
Часа через три, когда мне удалось вырваться на короткий перерыв, я забежала в свой кабинетик.
Женя спал на диване, положив под голову мою куртку. Ботинки он снял и аккуратно поставил около дивана. Как и положено заброшенному ребенку, на нем были разные носки – оба темно‑ синие, но один с цветными ромбиками на щиколотке, другой – без, зато с дыркой на большом пальце. На полу лежала раскрытая книжка сказок Климова. Я посмотрела – страница тридцать третья. Лягушонок встречает фею, но сначала не знает, что это фея, думает, что она обыкновенная и довольно занудная божья коровка. Я внимательней взглянула на картинку. Фея в образе божьей коровки как‑ то очень напоминала меня.
Не важно, что написал Климов это до встречи со мной. По законам квантовой физики то, что происходит потом, влияет на то, что было до. Уложить в голове невозможно, но иметь в виду необходимо, чтобы правильно ориентироваться в пространстве собственной жизни.
Я прикрыла мальчика его же курткой, быстро вскипятила чайник и налила ему чашку невкусного зеленого чая – другого у меня здесь не было. Другой чай – разный, вкусный, коллекционный, – у меня дома, куда я, возможно, привезу Женю.
Я люблю покупать чай и представлять себе, как соберу гостей, разолью им по чашкам диковинный ароматный чай, как все мои гости перезнакомятся между собой, один хороший человек узнает и полюбит другого, университетские подружки подружатся с хорошими милыми девочками из редакции…
Если учитывать, что гостей у меня не было лет восемь или даже десять, то чаем я запаслась как следует. Хватит на всех.
Глава 52
Я смотрела на экран телевизора, как будто прямо в глаза Климову. Климов тоже словно смотрел мне в глаза. Я слышала его мысли – разумеется, мне это казалось. Ведь вряд ли он на самом деле мог думать сейчас о том, как бы половчее поменять позу и не перевернуться при этом вниз головой, как это будет смешно и нелепо. Почему нелепо? Перевернется и ладно. Наоборот, очень даже интересно миллионам людей на Земле…
Я постараюсь ему сказать – так, чтобы он услышал. Хотя я точно знаю, что это невозможно. Он ведь даже меня не видит, он просто смотрит в то место, где на корабле установлена камера.
Что я могу ему сказать? Чтобы было коротко и ясно? «Я была у тебя дома, нашла ключ, съела все, что ты оставлял мышам на зиму…» Нет. Глупо. «Ну, как там твой пес? И с кем он, кстати? С медсестрой из космического отряда? Ведь у вас есть такие, наверняка? Она красивая? » Еще глупее.
Журналист, ведущий передачу с космонавтами, вдруг сказал:
– Мы знаем, что у одного из вас сегодня день рождения. Вы бы хотели, чтобы жители Земли вас поздравили?
– Да мы, собственно, тоже жители Земли, – засмеялся Климов. – Да, конечно. Это у меня день рождения. Не знаю, что пожелают мне, а я пожелал бы каждому встретить свой полувековой юбилей на орбите!
Журналист стал много и весело говорить, а я прошептала, по‑ прежнему глядя Климову прямо в глаза (кто знает, может, по квантовым законам это и имеет смысл? ):
– Я тебя поздравляю! Я, кажется, тебя люблю…
– И я тебя поздравляю. Я тоже тебя люблю, – ответил Климов. – Или мне это кажется? От состояния полной невесомости?
– Надо проверить это на Земле, – проговорила я.
– Смело, – опять засмеялся Климов. – Люблю маленьких смелых женщин. Гордых и независимых.
– Я в единственном числе, Женя, – ответила я. – И еще я хочу взять к себе жить одного мальчика, его зовут Женей, как и тебя. И он тоже совершенно непредсказуем. Ты не против?
– Я – за, – спокойно ответил Климов.
Чтобы не сойти с ума, я сказала:
– Если ты меня сейчас слышишь, поймай, пожалуйста, вон тот странный металлический предмет, который плавает рядом с Ямашито.
– Яшимото, – поправил меня японец.
А Климов действительно ловко ухватил какую‑ то блестящую загогулину, которая висела в пространстве между ним и японским космонавтом, и очень весело подмигнул мне при этом. Яшимото похлопал Климова по плечу, отчего тот закачался в воздухе, а японец показал мне большой палец. Какой‑ то неяпонский жест, по‑ моему…
Я проснулась и посмотрела в темное октябрьское небо. Четыре часа тринадцать минут утра. Спят и те, кто рано встает, и те, кто поздно ложится. Какой странный был вчера вечер. Я ведь видела на самом деле Климова по телевизору. Но вот был ли тот разговор? Или я уснула от усталости и мне все это приснилось?
Я вчера невыносимо устала. За день я успела взять интервью у актрисы‑ истерички, которая пару раз пыталась затеять со мной склоку во время разговора, тут же набросала о ней хорошую, добрую статью, которая поднимет настроение наивным читателям‑ телезрителям, ищущим правды, любви и справедливости хотя бы в иллюзорном мире телесказок для взрослых.
Еще я провела эфир, выдержала бешеный натиск Генки Лапика, мучившегося неожиданно сковавшим юного сладострастного Геника радикулитом. Геник сидел, склонившись на одну сторону, обмотавшись толстым шарфом, глотал обезболивающее и яростно сворачивал любую тему на меня лично.
Потом я замечательно поговорила с Жениным приемным папой, убедилась, что он немного чудной, но совершенно нормальный человек, который будет не против, если кроме него и тети Лены еще кто‑ то будет заботиться, чтобы Женя надевал в школу одинаковые носки и не спал под елкой и в кабинете химии на полу. В какой форме этот кто‑ то будет выражать заботу о Жене? А в любой, главное, чтобы Жениному приемному отцу не пришлось много бегать по инстанциям и что‑ то подписывать.
Вечером я успела еще съездить в роддом к Верочке и столкнулась там с совершенно очаровательным молодым врачом, просто мечтой всей моей собственной жизни, пока в ней не было некоего космонавта, отпраздновавшего вчера юбилей… Сероглазый, улыбчивый, крепкий, среднего – правильного! – роста, не огромный, не маленький, русский‑ русский, с хорошим чистым лицом, милой улыбкой, мохнатыми светлыми ресницами… Врач смотрел на Верочку влюбленными глазами, а она снисходительно и загадочно улыбалась. Неужели всё так просто и сказочно получится у моей разнесчастной подопечной? Ведь я как раз желала встретить ей хорошего молодого врача, не обремененного женой, детьми, а также лишними средствами, от которых сносит голову… Желала или знала, что именно так и будет?
И после всего этого я забрала Женю из школы, где он вместе со старшеклассниками пытался постичь тайны философии древней борьбы и бесконечно повторял сложные красивые движения, с помощью которых когда‑ нибудь он станет неуязвим для врагов, прежде всего для тех, что прячутся в стенах и в полу, аккурат под Жениной кроватью…
После ужина я делала с Женей математику и русский, удивляясь, как в третьем классе можно решать настоящие комбинаторные задачи, входящие в основу информатики, и спокойно отыскивать лукавые орфограммы русских слов.
Когда мальчик лег спать, я включила ночные новости. И увидела Климова сотоварищи, плавающих в невесомом пространстве космического корабля.
Я говорила с ним? Он мне отвечал? Ему действительно вчера исполнилось пятьдесят лет, и он сказал, что ему нравятся такие, как я, – малорослые и независимые?
Не знаю. Но знаю, что я всё же сказала ему, что хотела. То, что так трудно, так невозможно, так опасно для здоровья. Сказала, что я больше не самодостаточна. Что, несмотря на мое решительное отличие от подавляющего большинства земных жителей, мне не хватает чего‑ то очень простого. Мне не хватает рядом его дыхания, его взгляда, его улыбки, предназначенной только мне. И будет он, как в те короткие и бесконечные три июньских дня, понимать меня без слов или все же придется что‑ то объяснять – но я решилась открыть ему дверь. Решусь, если он когда‑ нибудь найдет меня. Ведь это сделать совсем не сложно.
Пусть хотя бы этим я буду похожа на всех тех, чьи мысли, надежды, ревность и подозрения, страхи и отчаянье наполняют меня помимо моей собственной воли, помимо всех понятных мне законов жизни, заставляя жить по‑ другому, думать по‑ другому, чувствовать то, что в принципе почувствовать невозможно, оставаясь среди людей. Но я ведь еще пока здесь? И я не перестала быть человеком.
Просто я другая. Стала другой. И кто сказал, что именно так и не должно быть?
Март 2007 – октябрь 2012
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|