
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Елена Александровна Катишонок. Жили‑были старик со старухой. Елена Катишонок. Жили‑были старик со старухой
Елена Александровна Катишонок
Жили‑ были старик со старухой
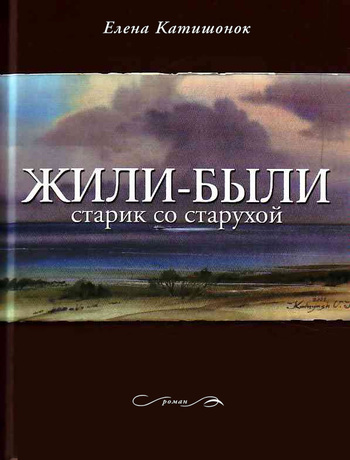
Елена Катишонок
Жили‑ были старик со старухой
Разве минувшее не родная стихия рассказчика, разве прошедшее время глагола для него не то же, что для рыбы вода?
Томас Манн
Жили‑ были старик со старухой у самого синего моря…
Синее море было скорее серым и находилось в часе езды: сначала на трамвае, потом на электричке, но они давно там не бывали.
Жили они вместе уже пятьдесят лет и три года.
Старик действительно любил ловить рыбу, но обходился без невода: просто шел поутру с удочкой на небольшую речку, которая текла за спичечной фабрикой, прямо за парком. Накануне привычно проверял бесхитростную снасть, засовывал тайком от старухи чекушку во внутренний карман пиджака, некогда серого, а теперь сизого от старости, и церемонно просил у правнучки‑ четырехлетки жестяное игрушечное ведерко. Рыбу он, понятно, в ведерко не клал, но девочка с таким благоговением наблюдала всякий раз за его сборами, поставив ведерко на видное место, что на рассвете он прихватывал с собой смешную жестянку. Был он среднего роста, коренастый, с очень прямой спиной, хоть и ходил, прихрамывая на одну ногу. Крепкий, солидный нос покоился на казацких усах, густых и блестящих; картуз нависал надо лбом точно так же, как густые брови – над черными, блестящими и глубоко посаженными глазами.
Пряжу старуха не пряла, зато вышивала в молодости немало и с большим искусством. Ей удивительно подходило ее имя Матрона, которое в жизни звучало более заземленно: Матрена; сама она тоже соответствовала имени: статная, прямая, с округлым, но суровым лицом, на котором выделялись черные брови редкой выразительности; голос имела высокий и сильный. Впрочем, она могла бы зваться и Домной, настолько была домовитой и властной. Одевалась всегда в темные платья с вышивкой на груди, свободный покрой которых целомудренно скрывал мягкими складками оплывшие формы. Неизменный платок на голове, как и платье, чистоты был безукоризненной, отчего старуха всегда выглядела нарядно.
Было и корыто: его роль выполняла добротная оцинкованная ванна, в которой раз в неделю старуха замачивала, а потом стирала белье, глубоко погружая в мыльную пену полные руки и безжалостно теребя тряпье по стиральной доске, рельефные волны которой имитировали все то же синее море. Через пару дней рядом с диваном, на котором спал старик, она клала аккуратно выглаженную, еще теплую косоворотку и белейшую пару нижнего.
Как они жили? Кем они были? Не всегда же звались они стариком и старухой: были ведь когда‑ то детьми, женихом и невестой, супругами, а затем и родителями – шутка сказать! – семерых детей, из которых двое померли во младенчестве.
Оба родились на Дону, в Ростове, и выросли в староверских многодетных семьях с очень сходным жизненным укладом и достатка весьма скромного. Староверов в Ростове было немного, и они жались небольшой упрямой общинкой, теснимые уверенным троеперстным православием. Рабы Божий Матрона и Григорий (так звали будущего старика) обвенчались в маленькой моленной, заключив свой союз как раз накануне смены девятнадцатого и двадцатого веков. После этого, недолго думая, первыми перебрались в Остзейский край, к гостеприимному синему‑ серому морю, где трезвых и работящих их единоверцев встречали приветливо. Довольно скоро научились понимать на слух местный язык, а поселились в так называемом Московском форштадте, где уже больше двух веков прочно жили русские староверы, отторгнутые родной землей за экономию букв в имени Господа.
Здесь и начали жить они в своей первой ветхой землянке – маленьком, но уютном домике, который сняли на Калужской улице. Старику в то время было двадцать четыре года. Он знал столярное дело и любил его, поэтому сразу открыл мастерскую. Рекламе не доверял и считал баловством, да и не нуждался в ней после того, как сделал шкаф по заказу своего домовладельца. В трактире, куда иногда захаживал, свел знакомство с пожилым земляком‑ ростовчанином, давно уже здесь обитавшим и имеющим связи, так что в мастерской недолго работал в одиночку: нашел двух столяров‑ подручных.
В Ростов между тем отправили весточку о своем житье‑ бытье, чтоб родным было о чем подумать. Там весточка была разумно истолкована как приглашение, и пока шли озабоченные сборы, старика, который стариком еще, конечно, не был, стали уважительно именовать «Григоримаксимычем». Заказы прибывали, а с ними прибывали и приятные хлопоты: закупка материала, новые деловые знакомства, не говоря уж об устройстве дома. Старуха, тогда восемнадцатилетняя, уже была беременна первенцем.
В первом году нового века, веселым Пасхальным апрелем, в большом светлом храме был «крещенъ младенецъ женскаго пола» именем Ирина. Знай родители значение имени, немало подивились бы собственной прозорливости, так точно нарекшей начало их мирной жизни. Крестным отцом новорожденной сделался старухин брат Феодор Иванович, прибывший недавно, но уже крепко стоящий на ногах; крестной матерью – Камита Александровна Великанова, достойная супруга известного благотворителя староверской общины.
Это был первый день после Радоницы. Счастливый молодой отец запер мастерскую и вместе с рабочими отправился кутить: сначала в трактир, а после, как следует отпраздновав и разогревшись, на извозчике – к центру города, в бордель, где и «угостил» обоих мастеров упитанными, надушенными пачулями барышнями в честь вышеупомянутого младенца женскаго пола.
Как об этом узнала мать младенца, установить так же трудно, как невозможно описать гнев, ею овладевший, когда она увидела в окно медленно подъезжавшего извозчика. Из пролетки, пошатываясь, вылез веселый муж и тут же полез в карман, чтобы рассчитаться с извозчиком и с городовым, который почтительно нес за пролеткой картуз счастливого и грешного отца. Дома он услышал от больной после родов жены немало таких слов, которые ему были знакомы, но словарным запасом молодухи из старообрядческой семьи никак не предусматривались. Ликующий, виновато‑ похмельный и изумленный, он все еще шарил по карманам, словно пытаясь что‑ то найти. И нашел: извлек на свет миниатюрную бархатную коробочку, открыл, подцепив ногтем крышку, и, поймав слабую, влажную руку жены, ловко надел на первый попавшийся палец золотое кольцо с изумрудом. После решительно грохнулся на колени, уткнувши горячее лицо в пикейное покрывало, чтобы высказать что‑ то благодарственно‑ извинительное и заодно избавить ее от перегарного духа, а потому не видел, как обида на лице жены сменилась восхищением и колечко быстро обрело свое место. Голос оставался еще сердитым, и Гришка был отослан «проспаться и вымыться», однако же к младенцу был допущен, и лицо его от созерцания дочери сияло таким восторгом, что куда там изумруду. Проспавшись от кутежа, но не от восхищения, водрузил рядом с прежними новую икону Нечаянных Радости, написанную по его заказу в честь младенца. И впрямь – не чаял…
Так они жили уже втроем; а вскоре и ростовская женина родня начала прибывать, быстро приноровляясь к другой полосе и пополняя ряды староверской общины. Молодой столяр сделал несколько прочных скамей для моленной да пару надежных, устойчивых лесенок, чтобы удобно было затеплять лампады и свечи высоко укрепленным образам, с которых печально смотрели мудрые очи.
Работал он много и истово. Его мебель шла нарасхват, потому что сделана была любовно и остроумно, без единого гвоздя или шурупа, и украшена была вдохновенной резьбой.
К непроходящему изумлению отца дочка радостно играла на полу мастерской со стружками. Он даже не успел пожалеть, что первенец «женскаго пола»: будь он «мужскаго», можно было бы передать ремесло. Впрочем, через пять лет родился крепкий чернобровый мальчик, которого окрестили солидным именем Автоном. Коренастый, здоровый, он рос кротким и послушным, вопреки торжественному своему имени, что не удивительно, поскольку привык отзываться на теплое, почти женское имя Мотя.
Андрей появился на свет год спустя, сильно измучив мать. Он оказался таким же крепким и здоровым, как брат, но рос серьезным, задумчивым и молчаливым; это в нем осталось на всю жизнь.
Четвертые роды прошли легче, но «ясное дитя», мальчик Илларион прожил меньше года и был унесен глоточной болезнью, успев за свою коротенькую несмышленую жизнь привязать к себе обоих родителей крепкими узами любви и боли.
Следующего ребенка, еще два года спустя, мать ждала со страхом и нетерпением, надеясь унять тоску по ушедшему ясному сыночку и боясь, как бы не случилось беды с этим. Даже имя было уже задумано: Антон. Повитуха, однако, повернула громко орущего, извивающегося младенца причинным местом, отчего стало ясно: Антонина.
К тому времени землянка на Калужской и вправду стала казаться ветхой, так что они по очереди сменили две квартиры на Малогорной улице. На пересекающей ее Больше‑ горной как раз продавали дом: две четких четверки на эмалевой табличке задорно выставили острые локти: что, мол, Гриша, кишка тонка – собственный дом?! Впрочем, продавали недорого. Взвесив все «за», обнаружили так мало «против», что быстро и купили, чтобы не передумать. Неподалеку располагалось кладбище, где нашла себе вечный покой старухина мать. Так появилось семейное кладбище Спиридоновых. Судьба – или История – не очень мудрила и нарекала этих бесхитростных рабов Божиих столь же незатейливыми именами: старуха была урожденной Спиридоновой, от каковой фамилии без колебаний отказалась, чтобы стать Ивановой. Сами же старик со старухой были молоды и здоровы, и близость погоста никого из них не пугала.
Старшей девочке уже исполнилось одиннадцать, и она была главной и единственной помощницей матери по дому и, разумеется, нянькой для детей. Округлостью и чертами лица Ирочка очень походила на мать, только никакой суровости и властности в этом нежном лице не читалось: оно было спокойным, мягким и улыбчивым. Догадывалась ли девочка, что у отца она была любимицей, или нет, неизвестно, но не было случая, чтобы они не понимали друг друга, – и тогда, и сорок лет спустя. Она уже ходила в школу и своей страстью к учебе изумляла родителей. Сами они ничему, кроме молитв, никогда не были обучены; книг в доме не водилось. Мать, которую к тому времени все в семье, включая мужа, звали мамынькой, умела быть полновластной владычицей в доме, а отец знал свое ремесло, в котором аршин, опыт и вдохновенный ум собственных рук заменяли школьную премудрость. Газет, естественно, не читали и даже численника в доме не держали. Вся их жизнь, прошлая и настоящая, четко, как таблица умножения, укладывалась в стройную систему праздников и постов, так что отсчет вели, говоря упрощенно, от Покрова до Николы или от Сретения до Спаса, а дни ангела почитали важнее, чем дни рождения.
На рождение каждого ребенка старик – еще будучи далеко не стариком – кутил, ограничиваясь, впрочем, трактиром, после чего неукоснительно вручал жене то медальон на цепочке, то агатовую брошь с бриллиантом, то серьги с аметистами цвета теплого сумрака, всякий раз снисходительно дивясь ее страсти к желтому металлу. Сам он носил только простые серебряные часы на «цепке», подаренные женой на именины. Золотое свое обручальное кольцо надевал исключительно по праздникам, отговариваясь помехами при работе, что было правдой. За жену всякий раз суетливо и беспомощно переживал, когда та болела родами; детям гордо радовался, но ни разу более не испытал он такого счастливого трепета, как в том прозрачном апреле, когда взял на руки первое свое чадо.
Постные дни в ветхой землянке – среда и пятница – соблюдались строго, не говоря уж о больших постах. Трапеза была обильной и разнообразной, на это хозяйка была большой мастерицей. Варились щи со снетками или густой грибной суп с пухлой перловкой, тускло поблескивающей не хуже настоящего жемчуга; крупная, вальяжная белая фасоль, запеченная с разноцветными овощами, а уж пирогов!.. Семья собиралась за большим квадратным столом, сработанным отцом не для одного поколения. За этим же столом, покрытым белой и сияющей, как наст, крахмальной скатертью, справляли и праздники – с молочным поросенком, словно прилегшим боком от усталости на блюдо, гусями, вспухшими от антоновских яблок, и гигантским окороком, рдеющим таким же румянцем, как лицо создательницы этих яств. Для хозяина выставлялся законный праздничный графинчик. Откушав, нанимали экипаж и ехали гулять в центр города. Отец, все еще ощущая себя ростовскимъ мещаниномъ, сознавал, однако, что для детей родным стал именно этот город, а не Ростов. Мать любила прогулки не меньше детей, да и то сказать: жизнь у нее была непростая и, при всей занятости, однообразная, хоть вой. Ведь классические женские добродетели – Kinder, Kirche, Ktiche, эти сакраментальные три «К», хороши, только если опираются на четвертое – кротость, а этого в Матрене как не было сроду, так и не предвиделось.
…Ей нравилось гулять по этому западному городу, так не похожему на родной Ростов; нравилось быть главной и строгой, запрещать или снисходительно разрешать, когда к солидному семейству подкатывал свою тележку мороженщик, хотя сама очень любила держать шероховатую вафельную воронку с холодными матовыми шариками. Нравилось, когда встречные благосклонно, восхищенно или с завистью провожали взглядами здоровых нарядных детей; нравилось, что на праздной руке мужа тускло поблескивало венчальное кольцо, и нравилось любоваться тайком на их отражение в витрине.
А конка!.. Матрена делала особенно строгий вид, когда дети усаживались, потом чинно занимала место рядом с мужем. Конка уносила их вдоль реки на долгую прогулку в Царский Лес, где мороженое было совсем уже особенное – не иначе как царское; а старик с наслаждением выпивал холодного пива. Они не сразу заметили – спасибо, дети обратили внимание, – как спокойную конку вытеснил электрический трамвай. Поначалу старуха не очень ему доверяла: рельсы рельсами, а ну как свалится?! Лошадей нету, одной хлипкой жердинкой держится, и то Бог знает за что… Привыкла, перестала бояться и садилась в трамвай с предчувствием чего‑ то нового и радостного. Это сбывалось: рельсов становилось все больше, а когда трамвайные вагоны зазвенели на форштадте, по Большой Московской, она и думать забыла о своих страхах.
…Потом возвращались – шли по Театральному бульвару мимо пятиэтажной гостиницы «Рим», сворачивали на Александровский, по которому тренькал упомянутый трамвай, огибая монумент то ли великого тирана, то ли великого реформатора, но в любом случае – великого. С особенной гордостью слушали они звонкий голос старшей дочки, старательно и увлеченно читающей вывески на двух языках: «Контора нотариуса», «Отель Империал», «Склад товарищества ситцевой мануфактуры», «Фабрика Бон‑ Бон», «Парфюмерия», «Табак». Табаку старик не курил, как старуха не ведала парфюмерии; слова «отель» и «Империал» звучали, как выстиранные пододеяльники, полощущиеся на холодном ветру; к услугам же нотариуса, слава Богу, прибегать не было надобности. Бывало, гуляли и по Старому Городу, неторопливо обходя строгое здание ратуши и углубляясь в затейливые извивы улиц и улочек, вымощенных добротным шведским булыжником.
Город все еще оставался чужим, хоть и обживался понемногу: с Александровского бульвара сворачивали на Мельничную, которая вела домой, к Московскому форштадту, уже привычному, растоптанному и разношенному. Старик уважительно снимал картуз при виде церквей с непривычными аскетическими крестами, которых в богобоязненном Остзейском крае было немало, но оба единодушно соглашались, что лучше их белокаменного храма, отражающегося золотой луковкой купола в реке, конечно же, нет.
Дома он с облегчением скидывал выходной пиджак и жилет и, вешая одежду в шкаф, искоса наблюдал в зеркало за женой. Она расчесывала свои длинные и пышные черные волосы, уставшие лежать сплетенными под праздничным платком. За эти годы он уже выучил наизусть, как она, отложив гребень, гибкими и умелыми взмахами плетет на ночь вялую ленивую косу больше чем в аршин длины, что прикинул сначала на глаз, а потом выверил: сошлось. Как всегда, на ночь затеплили все лампадки. То ли из окон, то ли от наволочек с кружевными прошвами шел спокойный аромат свежести. Не переставая зудели кузнечики, и это зуденье, хоть и громкое, убаюкивало. Июль выдался необычайно знойным даже здесь, у самого синего моря.
«На добрую память милому и дорогому брату Петру Ивановичу Спиридонову от Матрены Ивановны и на память от Григория. Быть может, больше не увидимся. Я ухожу на войну», – написано на обороте фотографической карточки. Лицо старика ничего, кроме хмурого раздражения, не выражает. Старуха здесь покорная (что затрудняет сходство с оригиналом), смятенная и потерянная. Самым решительным выглядит старший сын, стоящий впереди так, словно оба нарочно подталкивают его: ступай.
14‑ го июля была объявлена мобилизация, потому как земля была хоть и не русская, а все же Россия, ибо входила в Империю вот уже ровно двести лет и четыре года. Памятник Великому на Александровском бульваре озабоченно и хмуро демонтируют, в то время как старуха собирает мужа на войну. Уложила белье, сверкающее и мытьем, и катаньем, гирлянду сушек в льняном мешочке, издающих веселый кастаньетный стук, и неизбежное льняное же вышитое полотенце, а сняв с вешалки столь неуместную сейчас выходную жилетку, остановилась. Муж вошел в комнату с таким же точно лицом, как на фотографии, и она вдруг кинулась к нему: «Гриша!.. » Так стояли они, обнявшись: не старик и не старуха – Гриша и Матреша – и знать не знали, как им жить дальше.
Мешок, заботливо собранный женой, старику не пригодился, как и сам он оказался не пригоден к армейской службе, не говоря уж о войне, по причине единственного пломбированного зуба. Он выслушал объяснение пожилого фельдшера, застегнул рубаху, аккуратно высвободив зацепившийся за пуговицу крест, и вышел на улицу, бормоча в усы: «Мать Честная, Пресвятая Богородица!.. », и не помнил, как ноги донесли до дому. Ничего не зная об этой войне, он знал только, что на любой войне убивают. Не боялся, что его убьют, – боялся убить. Ни трусом, ни храбрецом старик не был, а боялся по одной‑ единственной причине, простой и понятной: убивать нельзя. Всегда твердо это знал, а сейчас с каждым шагом ощущал кожей прикосновение креста под нательной рубахой.
Немцев в городе еще не было, хотя вражьи корабли заняли ближний порт; стало быть, скоро будут здесь. Витрину немецкого оптического магазина «Генрихъ Краузе и Сыновья» в Старом Городе безжалостно разгромили местные патриоты и их сыновья. Ира звонким голосом читала из газет про Бог весть где существующую Сербию, так ощутимо близкую Германию, и что царь клялся на Евангелии воевать до победного конца.
Из всего стало ясно одно: отсюда надо уезжать, а куда, тоже понятно – в Ростов, конечно, куда ж еще. Там все родное и привычное, у обоих остался кто‑ то из родни, не говоря уж о том, что старику давно хотелось показать отцу с матерью внуков, всех сразу. Вскоре у неразобранного мешка с сушками появилось солидное соседство. Еще бы – самих двое да пятеро детей, а как бросить нажитое?! Старик запер «собственный дом, нумер 44» и мастерскую. С соседями простились скоро – многие уже эвакуировались. Отстояв службу Успения Богородицы, вся семья получила благословение батюшки, которое и помогло не потеряться, не отстать от поезда и не быть оттерту в неописуемых мирных баталиях эвакуации, а прибыть в родной Ростов и легко отыскать брата Петра Ивановича, так и не получившего фотографическую карточку по той причине, что не была отослана.
Жилье нашлось вполне сносное. Приодевшись (не зря Матрена сунула в один из узлов выходную жилетку, не зря! ) и нарядив детей, отправились к деду с бабкой. Ни деда – дедом, ни ее – бабкой, впрочем, признать было невозможно. Зорким женским глазом Матрена заметила, что кудри у свекра поредели, а сам будто подсох немного, только кисти рук стали крупнее, что ли; усы приглаживал тем же движением, что и муж. Он же, обнимая мать, чуть было не поднял и не закружил ее, как делал с дочкой: щуплая, цыгановатая, она осталась такой изящной, что осознать ее матерью двенадцати детей, воля ваша, было никак невозможно. К тому же называл ее свекор теплым и ласковым именем «Ленушка», а когда она стремительным и гибким движением сняла платок – примерить новый, подаренный невесткой, – стали видны черные густые волосы, нигде не прочеркнутые сединой. «Ишь, что копченая», – со странной ревностью подумала Матрена, сравнивая налитую тяжесть своего молодого кормящего тела с неуместной девичьей стройностью свекрови. С удовлетворением убедилась, что ни в ком из детей, слава Тебе, Господи, сходства с нею нет, да и живут… не близко. Это примирило ее с мужниной родней окончательно. Застолье удалось; милости просим к нам.
Трое старших детей на правах беженцев были устроены кто куда: Ирочка стала жить в пансионе, Мотя с Андрюшеи попали в училище, где обучали ремеслам, в том числе и столярному делу.
Вот неделя, другая проходит. У младшего резались зубы; Тонька была ребенком подвижным, что называется, «живое серебро», и Матрена от всего этого, а также от непривычного быта измучилась. Время от времени, всегда внезапно, появлялась «Копченая». Быстро и ловко, не слушая Матрениных уязвленных протестов, простирывала детское и буквально выталкивала ее из дому: сходи, развейся. Поджав губы, та хватала корзинку и отправлялась на базар, который базаром звался только в Городе, а здесь – звонким, набатно медным словом майдан. Возвращалась она действительно отдохнувшей, со свекровью разминалась в дверях, не успев вслух ужаснуться ценам на майдане, а дома ждали накормленные, чистые дети, горячие чугуны в печке и еще не просохший пол. Домовой, бормотала Матрена, ставя корзинку, чисто домовой.
Старик в поисках работы уходил рано. Он стал непривередлив и брался даже за мелкий ремонт, но и такую работу стало находить все трудней. Ростов, куда они так стремились, менялся с каждым днем, с каждой приходящей – и проходящей – неделей. Он скучал по старшей дочери, которую видел только раз в неделю, и ему казалось, что за эту неделю она еще больше похудела. Говорят, время видно по маленьким детям. Что ж – Симочка ходил, что прибавило Матрене хлопот, а Тоньке уже заплетали тонкие волосы в косичку. Ира на глазах становилась барышней. Она прибегала в воскресенье, после заутрени, и хлопотала допоздна, виновато помогая матери и стараясь сделать как можно больше. Однако той становилось все тяжелее, да и скудная еда сказывалась. Симочку, любимца, пришлось отнять от иссякшей груди, когда ему только‑ только стукнул год, и у матери навсегда осталось чувство виноватости, словно недодала самого насущного по своей прихоти или недогляду.
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя…
Увы! утешится жена… –
пела Ира, развешивая белье. Старику было жаль всех: и друга, и жену, и «самого героя» – этих героев стало появляться на улицах все больше, а сколько их лежало в больницах, а сколько полегло Бог весть где… И про это тоже пела дочь:
…То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей…
Слово «жертва» из песни было, в сущности, самым верным и определяло всю их жизнь. Война шла уже не только в окопах, но и в воздухе, что было совсем страшно, потому что непонятно. Пожилые сестры милосердия с подписными листами в руках, в развевающихся косынках, все чаще стучались в дома, останавливали прохожих на улице: «Жертвуйте…» Предлагалось жертвовать «детям воинов», «семействам павших», «на табак солдату», «на призрение вдов убитых воинов» и даже «на переносные бани солдатам в окопы». Ирочка призналась, что у них в пансионе идет сбор пожертвований «На книгу солдату», и отец не смог отказать, хотя не понимал, на кой им там, в окопах, книги? …
Теперь он уходил искать работу засветло, а возвращался в потемках, но аршин оставался праздно лежать в кармане – не нужна была ростовчанам мебель штучной работы, даже и с резьбой; да и никому сейчас не нужна была. Нужен был хлеб, который стремительно дорожал и норовил вовсе исчезнуть: лавки закрывались, и люди ездили за мукой по дальним станицам. Теперь никто мешками, как прежде, муку не продавал; только стаканами. Да и вообще продавали, как и покупали, всё реже: с деньгами творилось что‑ то непонятное, ибо свою осязаемую ценность, то есть способность купить, они стремительно теряли, и майдан жил главным образом обменом.
Слава Богу, что в тот день он пришел пораньше. Двое младших сидели под огромным клетчатым платком и завороженно слушали мать. Жена расчесывала дивные свои волосы и так‑ то весело рассказывала, что дров в эту зиму им не надо, жарко! А первым долгом, расчесав волоса, отправятся они в новый парк на Елизаветинской, да от солнца чтоб зонтик не забыть – не дай Бог, напечет, уж как палит, как палит, точно печка. На дворе стоял ветреный ноябрь, и старик недоуменно остановил ее руку с гребнем: «Мамынька? …»
У мамыньки оказался тиф. Сестра милосердия быстро выпроводила старика и детей приводить не велела. Старшая, однако, прибежала и долго плакала, обняв истаявшие ноги матери, после чего и случилось самое страшное: свалилась в тифу. Старик отвез младших к деду с бабкой и отныне каждый день, помолившись Богу и торопливо выпив стакан кипятку, спешил в больницу. Ни к старухе, ни к дочери было нельзя, но заставить себя уйти он просто не мог, и сестры милосердно не гнали его. Сам заболеть не боялся, даже не думал об этом ни секунды. Дома, перед сном, горячо и гневно молился, обещая все имение свое, лишь бы…
Перестал замечать, как меняется Ростов; ему казалось только, что родной город обесцветился, несмотря на обилие ярких плакатов, все так же призывающих жертвовать, жертвовать, жертвовать… А может, обилие выгоревших солдатских шинелей сделало город бесцветным. Если столько солдат в Ростове, то сколько ж их на фронте? И не додумывал эту мысль до конца: боялся только, что потребуют от него главной жертвы.
Засыпал с радостью – еще один день прожит! В Ростове начал видеть сны; просыпаясь, изумлялся, насколько сны эти походили на горячечный бред жены. Снился Город, но не праздный, нарядный центр, где они гуляли до войны, а их Московский форштадт, домик на Болынегорной, и как он ладит новое крыльцо, чтобы брюхатая мамынька, упаси Господь, не оступилась. В мастерскую шел мимо кладбища, пылил сапогами по песку; сразу за высокими кирпичными воротами начинался спуск на Двинскую, ведущую в просторный подвал, заваленный свежими стружками. Во сне нужно было чего‑ то ждать: то ли материал вот‑ вот привезут, то ли рабочие задерживаются. С Большой Московской доносятся стук лошадиных копыт и скрип колес. Старик мечтал туда переехать, даже и дом присмотрел: высокий, каменный, на углу с Католической.
Сон таял на рассвете, непременно что‑ то оставив и перенеся в Ростов: вот за окном проехал парный экипаж со скрипящими колесами, а в памяти затухали чьи‑ то слова, непонятные, как и полагается во сне, но на знакомом протяжном языке…
Когда его допустили к выздоравливающей жене, он поражен был не глубиной запавших глаз и не татарскими скулами, а – воспоминанием, как она расчесывала волосы в последний раз: больше расчесывать было нечего.
Ирина болела долго; уже не чаяли. Из больницы вышла сразу после Крещения, с такими же, как у матери, невесть откуда взявшимися скулами, и обритой головы своей очень стеснялась.
Из‑ за этих постоянно дежурящих смертей (у Иры был и возвратный тиф) старик потерял способность понимать, что происходит вокруг, хотя происходило столько, что с лихвой хватило бы на десятилетия безвременья. Солдат на улицах становилось все больше, а милосердные сестры уже не собирали пожертвования, а выхаживали раненых. Жизнь, как и война, стала для него одним нескончаемым тифом с пугающим бредом из новых странных слов: жмых, мешочник, заем, дезертир, пшенка, спекулянты, теплушка… и вдруг, особенно звонко: родзянка! Что такое этародзянка, Мать Честная?! Бывало, что этот ужас просачивался и в спасительный ночной сон, и тогда не было покоя. Нет, сначала шло, как всегда: Город, будто бы пятница, и мамынька собрала ему белье в баню. Отчего‑ то сильнее, чем всегда, вязли сапоги в уличном песке; да баня‑ то рядом, надо только на Витебскую свернуть. Он и свернул, но бани не увидел, а вместо бани не то конюшня, не то амбар необъятный какой‑ то; главное, однако, что внутри темно, а куда уходит эта темнота, Бог весть, и сердце тоскливо сжалось. Уйти бы совсем, но чтобы уйти, надо к этому спиной повернуться, а сапоги как приклеились и все глубже в песок уходят. Главное, он помнил, чтоб ворота не закрыли; тогда конец. И руки заняты – узелок с бельем, да тяжелый какой! Что ж там такого тяжелого, Мать Честная? Развязать бы, да некогда, вот‑ вот ворота закроют, бежать надо, да куда бежать‑ то?! Вдруг словно подтолкнул кто‑ то: а в мастерскую, мастерская ведь рядом! Весь в поту, задыхаясь от неимоверных усилий и страха, он выдернул – не сапоги, нет: ноги, – на едином вдохе повернулся и бросился в еще открытые ворота, боясь оглянуться. Босиком побежал по совсем чужой Витебской, один квартал только до мастерской, и влетел в подвал, все еще сжимая в руке узелок. Стружки ласково щекотали босые ноги, вещи целы – мамынька не будет ругаться, и старик как‑ то сразу успокоился. Надо работать, раз уж в баню не попал; а сапоги – дело наживное. Подойдя к верстаку, повел рубанком по доске: жмых‑ жмых‑ жмых! От этого звука и проснулся, содрогаясь от омерзения к вышедшему из повиновения рубанку.
Непонятно было все, куда ни оборотись. Царь, который клялся на иконе и на святом Евангелии воевать до последнего, был где‑ то безнадежно далеко, а кто поговаривал, что его уж и вовсе не было. Наверное, поэтому воевали теперь не только с немцами, а и с кем попадя, и даже друг с другом, отчего, должно быть, часто менялась власть. Она врывалась в город одинаково бесцветными шинелями, но была диковинным образом окрашена в цвет своих знамен, точно солдаты сговорились играть в неизвестную игру, где все воевали противу всех.
Так проходила неделя, потом другая. Изменилось время, а у нового времени появились свои, иные, приметы: вороха бумажных денег разного вида и цвета, но одинаково бессильные что‑ то купить; гармошка, удивленно ахающая на дворах и завалинках, на майдане, на вокзалах; поезда, идущие Бог знает куда… Людские судьбы, да и сами люди мчались, катились стремительно куда‑ то, словно яблоки из перевернутой корзины, – в пыль, в канаву, в бездну. Песен про ужасы войны уже не пели – такие песни для гармошки не годились; придумывали новые, да и не песни вовсе, а – так, припевки, которые даже не пели, а кричали, ухая, точно капусту рубили. Сколько их было, припевок этих, и все пели по‑ разному, а называли одинаково: «Яблочко». Случайно? …
Эх, яблочко,
Недозрелое –
Красна армия
Гнала Белую.
От станции
К полустаночку –
Полезай ко мне
На тачаночку.
Раз услышанный, примитивный и навязчивый мотив долго и беспокойно зудел в голове, да и не удивительно: пели везде, под гармошку или притоптывая, а чаще – вместе, и даже шелуху от семечек, казалось, сплевывали в такт.
Эх, яблочко,
Черны семечки –
Все рядком легли
Да у стеночки.
Впору было бы отредактировать Владимира Красное Солнышко, что отныне «веселие Руси есть пети», а может быть, как раз это и сделал новый правитель страны, тоже Владимир, и тоже – красный.
Эх, яблочко,
Да румяное –
Комиссары
От крови пьяные…
Матрена была совсем слаба, и он сам собрался на майдан – кое‑ какие деньжонки еще сохранились из тех, царских, которые только и оставались пока подлинными деньгами. Обошел толпу солдат в расстегнутых шинелях и любопытствующих баб: какой‑ то вольноопределяющийся с красным бантом на груди, поднявшись на постамент статуи Александру II, кричал непонятно про пушечное мясо и размахивал рукой, будто швыряя что‑ то в толпу. «Да какое мясо, – визгливо заорала одна из баб, – кто его видел, мясо‑ то?! » И то, молча согласился старик, мясо еще когда пропало; хорошо, если требухой разживешься.
Он давно не был на майдане и с трудом узнал этот некогда обильный южный базар, где можно было найти что угодно, от колесной мази до текинского жеребца. Впрочем, и сейчас глаза разбегались от обилия самых разнообразных вещей, которые люди пытались выменять на хлеб. Пара атласных туфелек с длинными лентами‑ завязками. Машинка для стрижки волос, какими работают в парикмахерских. Гигантский чернильный прибор на малахитовой подставке, изображающий бронзовых медведей, самый маленький из которых держит хрустальный бочонок с бронзовой же крышкой. Новый, неношеный мундир с неподшитыми рукавами и ровной наметкой белыми нитками вдоль борта; доброго сукна мундир, многие щупали. Пожилая дама и с ней молоденькая барышня – совсем как Ирочка – разложили на прилавке книжки; барышня открыла одну, да и зачиталась, быстро‑ быстро листает и прядку волос на палец накручивает. Старик краем глаза увидел на картинке гимназисток за партой и чью‑ то фигуру у доски. Решился и купил – порадовать выздоравливающую дочку; дальше шел с толстой бордовой книгой под мышкой и смутным чувством вины: мамынька не поймет.
Остановился внезапно, как в стенку уткнулся: какой‑ то малый держал в руках форменные казацкие штаны с широкими красными лампасами. Не веря своим глазам, приблизился:
– Ты что же, форму продаешь? Продается, спрашиваю? – Наверно, в голосе что‑ то странное прозвучало; парень даже отшатнулся.
– Купишь, так продам, – сказал, но неохотно, не как продавец.
– Как же ты, форму? … – Максимыч не договорил.
– Мне, батя, там форма не нада, – ответил малый, – в чем есть похоронят. Так покупаешь, что ли? … – И парень настороженно оглянулся.
Не чуя под собой ног, старик прибежал домой. Нет, ничего не принес – и, задыхаясь от бега, все рассказал жене. Матрена произнесла только одно слово: «Ступай».
Он понял – и припал благодарно влажным лбом к платку. Платок соскользнул, отрастающие волосы упали на лицо.
– Да ступай же, Ос‑ с‑ споди!
На бегу что‑ то мешало все время, но остановиться и понять, что именно, боялся: спешил. Ворота, двор – и вбежал в дом. Мать приподнялась со скамейки ему навстречу, простоволосая, платок зажат в смуглых руках, и с отчаянием встретила его вопросительный взгляд черными, как у сына, не выцветающими глазами: увели. Увели отца; братьев не было, их ищут.
– Ищут? Кто?
Да эти… новые. Не только их – всех казаков. То росказ, росказ, – плакала мать. Он не понимал. Какой приказ? Мать повторяла страшное слово:
– Выкончицъ, – «извести», мотая головой с рассыпавшимися волосами, и сын вдруг увидел сверкающую, как лунная дорожка, белую полосу справа. Совсем белую. Стоял и гладил ее по голове, как ребенка, а мать шептала пришепетывающей польской скороговоркой:
– Уходи! уезжайте, уезжайте обратно… – и совсем неслышно: – Мрук. – Мрак.
В тот зимний день, когда он увидел седину в волосах матери, ей было пятьдесят восемь лет. В Ростове должно было случиться еще многое, а тогда нужно было снова бежать – уже домой. На крыльце заколоченного лабаза сидели солдаты, и самый молодой, в свалявшейся шапке‑ манчжурке, нежно подбрасывал гармонику, словно ребенка тетешкал:
Коли был кулак –
Раскулачили,
А кто был казак –
Расказачили.
Другой, с кисетом в руке, одобрительно подхватил:
Раскулачили –
А взять‑ то нечего,
Расказачили –
Память вечная.
Старику стало жарко, он ускорил шаг, и снова что‑ то непривычное мешало; на пороге дома у него из подмышки выскользнула книга.
Максимыч страстно хотел освободиться от этого морока, забыть навсегда бред и ужас. Со дня на день ждали прихода каких‑ то анархистов; им с Матреной слышалось: антихристов. Проелись и отощали так, что разбитое корыто должно было вот‑ вот предстать во всей своей деревянной плоти; и неделя, и другая проходили, а выхода никакого не виделось. Да, они были в Ростове, и Ростов был – свой, но они ему своими уже не были. Все чаще вспоминали Город, но в Городе были немцы. Трезво взвесив все, что еще было весомо в этом чумном аду, решили, что немец лучше антихриста, а дом там, где родные могилы; и так, переговариваясь и раздумывая вслух, собрали незаметно и быстро скудные пожитки, которые прежде были вещами.
Поколебавшись, отец кивнул Моте: пойдем к деду с бабой. Пересекая шумную улицу, наткнулись на Иру с Андрюшей, торгующих самодельными папиросами. Пошли вчетвером. Старик загадал: лишь бы с улицы был виден дым из трубы, тогда… лишь бы дым, и вытягивал шею. Ирочка шла рядом, спрятав озябшие руки в старенькую материнскую муфту и стараясь попасть в такт с его большими шагами. На повороте мальчики вдруг пустились наперегонки, и он не успел заметить, идет ли дым; а может, мать с утра топила печку‑ то…
– Дома нету, – разочарованно выдохнул запыхавшийся Андрюша.
Печь почти остыла, но чугунок с ячневой кашей был еще теплым. Это вселяло надежду: разминулись, мать вышла ненадолго; где‑ то поблизости.
Дух перевести перевели, но ждать было недосуг: надо еще успеть попрощаться с Матрениной родней. Как мог медленно, направился он к двери, дети следом. На пороге светлел ровный клетчатый лоскуток: карта, рубашкой вверх. Он поднял и перевернул: шестерка треф. Бережно обтер черные капельки, связанные в скупые кресты, и сунул в карман.
Шестерка – дорога; матушка напомнила – торопила. Или обронила, уходя? Или – про свою дорогу знак подала, кто знает…
Дома, когда уходили проститься с братом Пётрой, столкнулись в дверях с дамами из дочкиного пансиона. Дамы пришли от попечительского совета: просили оставить Ирочку для серьезного обучения вокалу и музыке, «для ее же собственного блага». Та, что помоложе, уговаривала, волнуясь: «Подумайте, госпожа Иванова, ваша дочь очень музыкальна. У нее прекрасное меццо‑ сопрано, она должна петь, ей нужно хорошее образование». Вторая, пожилая, добавила: «Попечительский совет постановил принять вашу дочь на казенный кошт, – и сочла нужным пояснить: – Вам, госпожа Иванова, это ничего не будет стоить». До сих пор настороженно молчавшая, госпожа Иванова ответила с незабытой величественностью: «Она старшая, а всех у меня пятеро. Не петь она должна, а ремеслу учиться». Даже не переглянувшись, попечительницы откланялись; и то – Петра заждался.
Быстрых дорог, как и дорог безопасных, в то антихристово время не было. На всех пересадках и переправах, во время изнурительного ожидания поезда, везущего неважно куда, лишь бы – оттуда, старик больше всего боялся нового тифа и молился горячо, страстно, под удалой припев:
Пароход идет –
Волны кольцами;
Будем рыбу кормить
Добровольцами…
Уберегла Пречистая. В Город прибыли на Рождество Богородицы. Праздничную службу отстояли на своих привычных местах, в родном златоглавом храме. Старик незаметно попробовал крепкой рукой лесенку: хороша, не расшаталась. Знать бы ему, что и через 88 (прописью: восемьдесят восемь) лет стоит она здесь, на своем привычном месте, такая же крепкая, хоть ступеньки посередине уже немного подтаяли под сапогами свечника, поднимающегося на эти четыре шага, чтобы поставить длинные, медового цвета, тусклые свечи, зажечь их, перекрестясь, и на те же четыре шага спуститься. Совсем немного подтаяли…
В мастерской из довоенной жизни и ростовских снов разместилась скобяная лавка. Первым делом старик снял квартиру, как и примеривался давно, на Большой Московской, в третьем этаже высоченного каменного дома. Первый этаж пустовал, и хозяин охотно сдал половину под мастерскую. Почти все вещи, оставленные второпях в доме на Больше‑ горной, где старик в ростовских снах любовно чинил крыльцо, сохранились, и старуха умело и с увлечением начала обустраивать новое жилье. Старик приладил на дверь изящную латунную табличку с гравировкой «Г. М. Ивановъ» и понял, что он – дома. Дом № 44, хоть и собственный, по сравнению с новой квартирой выглядел домиком; до приезда своих решено было сдать его внаем. Места в мастерской хватало, мастера Иванова помнили; не сразу и не очень скоро, но начали прибывать заказы. Вначале было трудно, но тяготы не шли ни в какое сравнение с ростовским мороком и страхом. Оба сына, Мотя и Андрюша, не отходили от верстаков, но настоящего помощника старик обрел только в ноябре.
На базаре, договариваясь с пильщиками о дровах, он приметил странную кургузую фигуру, похожую на пингвина. Пленный немец, зябко дующий в воротник жалкой шинельки, топтался вперевалку, пытаясь согреться. У его ног на аккуратно расстеленной газетине лежали мелкие деревянные поделки. Пильщики, посмеиваясь, рассказали, что продают «фрицу» ненужные обрезки, из которых тот ладит всякие финтифанты; тем и живет. Старик быстро оценил, что без какой‑ никакой стамески и доброго навыка тут не обошлось, и решительно пригласил немца в трактир погреться, откуда они вместе направились прямо на Большую Московскую. Самое смешное, что фриц и впрямь оказался Фридрихом!..
Дело пошло на лад с самого начала: ремесло Фридрих знал отлично, был аккуратен и исполнителен, как и следует быть немцу; особенно же искусен оказался в инкрустации.
Старшая дочка между тем пошла учиться к портнихе мадам Берг, тоже немке; младшая ходила в школу. Самый маленький, Сенька, увезенный в бредовый Ростов полугодовалым, понятно, нежился дома, при матери, которая баловала его как могла.
Все мальчики, кроме Андрюши, так и не научились выговаривать букву «р». Не помогли ни мамынькины подтрунивания, ни беззлобные насмешки сестер:
– Сеньк, а Сенька! Скажи: «кружка», сахару дам! Мальчик глядел исподлобья, потом с торжеством кричал:
– Стакан!..
Только одно событие омрачило их жизнь: умер старухин отец, почти до последнего дня работавший бакенщиком на реке; умер незаметно и быстро, не успев соскучиться в больнице, никого не обременив долгой болезнью. Схоронили, опустив гроб в рыхлый желтый песок рядом с могилой Сиклитикеи, и Максимыч крепко и бережно поддерживал жену, зная, что обнимает сразу двоих.
Вскоре после похорон родилась девочка, Лизочка. Восхитительно красивой родилась, только плакала все, будто жаловалась. Мать не спускала ее с рук; прибежав от портнихи, Ира брала сестричку и носила, носила до утра. Ребенок не успокаивался. Пригласили доктора; он долго слушал сердечко, осмотрел миниатюрные ушки, но ничего внятного не сказал. У Иры на руках девочка, наконец, затихла; та обрадовалась и долго еще носила красавицу, боясь потревожить перекладываньем, и напрасно боялась.
Отпевая младенца Елизавету, двенадцати дней от роду, батюшка так и сказал: «Бог дал, Бог и взял». Кладбище печально расширилось из‑ за маленькой, словно ненастоящей, могилки, а в коротком еще поминальном списке старухи стало одним именем больше. Старик не успел полюбить Лизочку, но ее долгий плач будил его вдруг по ночам, оставляя в груди ноющую жалость и боль.
Больше старику со старухой Бог детей не дал.
За своими хлопотами, то радостными, то печальными едва заметили, как и здесь наступила советская власть, – догнала, что ли? Правду сказать, выглядела она совсем не так, как на Дону, да и не прижилась. То ли почва оказалась неподходящей, то ли выдохлась по пути, неизвестно. Одна за другой возникали партии разного покроя и фасона, точно туалеты у легкомысленной модницы. Модница оказалась капризной. Перемерив все обновки, придирчиво огляделась по сторонам и скроила наряд по собственному вкусу, после чего стала называться независимой республикой, и о скоротечной советской власти стало неприлично даже упоминать. Впрочем, старик здраво рассудил, что мебель нужна и при советской, и при буржуазной власти, и оказался прав. Старуха сердилась, узнавая в очередной раз, что прежние деньги уже не годны и надо привыкать к новым; долго не могла взять в толк, что денег, лежавших у них в банке до войны, уже нет, как нет и самого банка, и сердилась почему‑ то на мужа, в особенности когда находила в старом ридикюле царскую ассигнацию серьезного достоинства, не стоящую теперь ничего.
У жизни появился иной, нежели раньше, временной отсчет: все, что было до войны, называлось нынче «мирное время» и покрывалось, как молоко загустевающими сливками, теплым эпическим словом «бывало». Бредовые годы эвакуации обозначались неохотным и неопределенным «тогда, в Ростове», причем для обоих давний, безмятежный Ростов их юности и Ростов тифозный были точно разными городами. Да и только ли для них? …
И опять: вот неделя, другая проходит, и составляются из этих недель месяцы, а там, глядишь, и снова Великий пост, потом Пасха. Старик почти не менялся, разве что усы и небольшая бородка не то чтоб даже поседели, а как‑ то слегка выцвели. Шевелюра его, в молодости пышная и кудрявая, словно взбунтовавшись против неизбежного картуза, отбросила последние условности и предстала откровенной лысиной с достойной, все еще волнистой каймой. Жена хоть и твердо знала, что бабий век – сорок лет, с тайным сожалением распускала то пояс, то вытачки. Волосы у нее давно отросли, но коса уже не оттягивала голову, да и мерить ее стало неинтересно.
Летом снимали дачу и выезжали к самому синему морю, где наслаждались скуповатым солнцем, чистым белым песком и снисходительно рассматривали приезжих курортников, упакованных в полосатые триковые купальные костюмы до колен. По выходным, как прежде, ездили гулять: то в Лесной Парк, который только начинал застраиваться фешенебельными особняками и куда съезжались многие, чтобы погулять и устроить пикник на траве; то, как в мирное время, в центр города. Главные улицы, казалось, поспешно вышли замуж за новую власть и стали зваться по‑ другому: Александровская стала улицей Свободы, бульвар Наследника обрел имя самого талантливого поэта республики. В Старом Городе таких изменений не было, зато появилось много новых вывесок. Проходя пустой пьедестал, вспоминали о памятнике Великому, который убрали в начале войны. Впрочем, все вместе, как в мирное время, гуляли уже не так часто: Иру наперебой приглашали кавалеры. Никого не желая обидеть, она установила твердый график ухаживаний. Одному дозволялось встретить ее после работы и преподнести букет, другой ждал на площади, чтобы проводить до угла, но обидеться за краткость встречи не успевал, поскольку третий соперник уже бежал навстречу – пройти рядышком целый квартал, которых до дому насчитывалось шесть. Самое удивительное, что никто не обижался: чаровница была со всеми кавалерами улыбчива и приветливо ровна, как с братьями. Родители ломали голову, пытаясь понять, кому же она отдает предпочтение, но додуматься не могли. Двое уже приходили сватать дочку, чем рассмешили ее до слез, после чего обоим было разрешено проводить «невесту» до кинематографа, где с билетами на Макса Линдера ждал третий.
Двое старших парней продолжали осваивать отцовское ремесло. Оба работали старательно, учась не только у него, но и у Фридриха. Немец неожиданно для всех преподнес Ирочке на день Ангела шкатулку для рукоделия, изящную и одновременно вместительную, отделанную элегантно‑ строгой инкрустацией из трех пород дерева. Отчего‑ то накануне волновался Фридрих и даже уронил себе на ногу рубанок, что уж совсем было для него не характерно. На празднование явился во всем новом и, вручая подарок, чопорно поцеловал у фройляйн ручку, сильно при этом порозовев. Пока именинница приседала в книксене, Матрена зорко пробуравила взглядом перламутровые запонки, узел галстука, бугрящийся под адамовым яблоком, решительно набриолиненные волосы, обыкновенно цвета пыли, и уже подняла было брови, да передумала; и правильно. А шкатулка хороша… такие вещи служат долго, где‑ то она и сейчас, небось, стоит, только инкрустация могла облупиться местами, как скорлупка…
Тоне, второй дочке, уже шестнадцатый год шел. Она так же сильно походила лицом на отца, сколь на мать – характером и нравом. В ней совершенно не было улыбчивой легкости старшей сестры, и так же, как мать, Тоня очень любила золотые украшения. Младшенький, Сеня, или, как мать предпочитала звать его, Симочка, рос изрядным шалопаем: то ли от материнской залюбленности, то ли от беззаботности самого младшего в семье.
* * *
Незаметно бежало это безмятежное время. Молодежь взрослела, кавалеры у Иры не переводились, но поскучнели: вот уже несколько лет она предпочитала общество молчаливого и чуть высокомерного от собственной застенчивости типографского наборщика, с таким же отчеством, как у нее, и с патриархально‑ староверским именем Конон, а в быту – Коля. Мало‑ помалу другие ухажеры завяли, как их букеты, а потом вновь расцвели, женившись и перестав быть кавалерами. Старуха с легкой грустью повесила в шкаф платье из панбархата, в котором отпраздновала серебряную свадьбу – двадцать пять лет, как одна копеечка, сложившиеся из седмиц: «вот неделя, другая проходит». Все еще царственную шею приятно оттягивал золотой медальон. Старик в тайниках души лелеял планы грандиозной свадьбы и несказанно обрадовался, когда дочь сказала ему:
– Папа, мы с Колей решили…
Однако планы его сгорели, как сухие стружки в плите. Мягко улыбаясь, но очень решительно дочь отказалась не только от грандиозной, но и от свадьбы вообще. Наотрез. Сбитый с толку совершенно, а как же с венчанием, получил короткий ответ: завтра. Улыбнулась и попросила об одном только – благословить «Нечаянной Радостью».
Еще пуще старуха бранится… Бранилась и скандалила старуха наедине с иконами да время от времени с собственным отражением в большом овальном зеркале: муж со старшими был в мастерской, виновница материнского гнева на работе, младшие учились. Без сватовства! Без приданого!.. Когда ж хлопотать о нем?! Без свадьбы, Осс‑ споди! Прокляну, подумала грозно, и тут же, испугавшись страшной мысли, сотворила молитву. Досталось, однако, и кузнецовского фарфора рыбному блюду – чуть не расколотила, и вилкам, обиженно загремевшим под горячей рукой, и, конечно же, старику, виновному примерно в такой же степени, как блюдо.
Что ж? Через год старуха держала на руках внучку и горда была и счастлива безмерно, но не скрыть этого не могла и потому нашла порок: черна, мол, слишком – цыганская кровь.
Старик привычно не услышал ехидства – давно знал, что жена не любила его покойницу‑ мать, которая действительно была взята из польского табора и крещена Еленой вместо прежнего басурманского имени Лана.
В памяти Матрены маленькая, черная как головешка «иноземка» навсегда осталась неумелым своим крестным знамением, быстрой и легкой походкой, неуместной у матери двенадцати детей, да смешным шершавым языком, над которым невестка посмеивалась; так охотно и часто смеялась, что сама не заметила – и удивилась бы, если б ей сказали об этом, – как много метких и выразительных польских словечек вкрались в ее речь и уютно устроились навсегда. Свекра, худощавого лихого казака с такими же блестящими, как у мужа, усами, чтила, хоть и ревниво недолюбливала за «иноземку».
К ее собственной родне придраться было невозможно. Матушка, тихая хлопотунья с суетливым именем Сиклитикея (та, что первой легла в неростовскую землю), во всем слушалась мужа, который носил библейское имя Иона и, должно быть, поэтому всю жизнь был связан с водой: то нанимался плотогоном, то плавал бакенщиком по ночному Дону, зажигая огни. Вернувшись домой, Иона ужинал излюбленной своей тюрей, то есть крошил в миску черный хлеб, крупно резал лук, наливал постного масла и, перемешав и посолив, добавлял воды. Вопреки робким протестам жены, любил готовить это яство сам. Несмотря на привычку к такой аскетической еде, сложения был богатырского и силы поистине былинной. Так ведь других и не брали гонять плоты.
В очередной раз Матрена усмехнулась, вспомнив историю собственного отчества. Дети Ионы должны были, по логике вещей, зваться Ионовичами, однако у вещей одна логика, а у чиновников – другая. Первым вспылил брат Мефодий, так решительно отказавшийся стать Иоанновичем, что едва не разлил казенные чернила; обошлось, слава Богу. Старшие, Фома и Петра, не сразу поняли, как испуганный лысоватый человечек сделал их Ивановичами; а известно: что написано пером, того не вырубишь топором.
Странно, что этот неторопливый серпантин воспоминаний вьется незатейливой лентой, как раз когда старуха пеленает первую свою внучку. Крестной матерью захотела стать Тоня, очень гордая тем, что она теперь тетка. Девочку окрестили Таисией, но иначе, как Таечкой, или Тайкой, никто ее, конечно, не называл.
Снова и неделя, и другая проходит, и девочка Таечка уже косолапо топает в крохотных патентованных ботиночках на кнопках до щиколотки, слегка оглушенная оркестром на Мотиной свадьбе. Свадьба гремела – старик взял реванш – в модном кафе «Би‑ Ба‑ Бо», как раз напротив Елизаветинского парка, куда так мечтала попасть мамынька из голодного тифозного Ростова. Впрочем, парк тоже сменил название, породнившись с новой властью, которая, кстати, давно уже не новая.
Новый внук – Мотин сын – появляется на свет как раз на архангела Михаила. Мишка чернобров и смугловат, но до Тайки ему далеко. У старика прибавилось работы: помочь Моте, который уже начал строить дом – там же, на Песках, совсем неподалеку; где ж еще. Прибавилось забот и у старухи: коса незаметно редела, а тело тучнело, но заметно, уж и распарывать да выпускать нечего. Слава Богу, дочь портниха: и отрез выберет, и скроит, и сошьет. Спасибо пускай скажет, что пенью учить не оставили с антихристами, прости, Господи, мою душу грешную.
Ирина спасибо не говорила, да и вообще говорила мало, зато много и напряженно работала, а дом вела не хуже матери – иначе не могла. Таечке было уже четыре, когда родился братик Левочка, такой белокурый и голубоглазый, что потрясенная родня долго озадаченно всматривалась в карие глаза счастливых родителей‑ брюнетов. Всматривались так долго, что чуть было не пропустили, как Тоня, крестившая и этого племянника, стала невестой молодого задумчивого фармацевта, как раз поступившего в ученики к известному дантисту. У жениха было огромное достоинство, которое Тоня оценила сразу: он был сиротой, а тетка, воспитавшая его, была такой древней, что в расчет не принималась.
Уж как ревниво, как требовательно старуха вертела дочь‑ любимицу, то поминутно поправляя корсаж, то призывая к порядку локон, якобы случайно выскользнувший из‑ под флердоранжевого веночка, да и сам этот фран… фрол… тьфу! – померанец. Максимыча, уже во всем праздничном, допустили поглядеть, а также выслушать жалобы старухи на капризный померанец, что он и сделал, а потому был отпущен с наглухо застегнутой жениной рукой жилеткой. Дался им этот померанец, думал старик; и что это все невесты, как сказивши: подай да подай, а что в нем? – невидные такие цветки, и все. В памяти тут же всплыл гомон базара, лотки и прилавки с фруктами, горки померанцев и апельсинов, чья‑ то тянущаяся к ним рука, когда старик вдруг явственно ощутил свою собственную ладонь, гладящую не апельсин, нет: тугой беременный живот молодой жены, с торчащим, аккурат как у апельсина, пупком. Ах, ты, Мать Честная!.. Должно быть, от этого откровения у Максимыча на свадебной фотографии несколько плутоватый вид; старуха же строга и величественна, как и следует быть Матроне. Жених горд необыкновенно и красив, каким никогда раньше не казался; а вот и ветхая, иссохшая тетка – она сидит рядом с уверенной и счастливой невестой, одетая от головного платка до ног в черном, и так же уместна, как пьедестал почти забытого памятника на бульваре Свободы.
Ан нет: пьедестал этот, на вид совершенно бесполезный, обозначил место нового монумента – памятника Свободы. Строили его целиком на народные пожертвования – кто сколько мог, столько и давал, и на диво скоро – через два года– он был торжественно открыт. Теперь бульвар Свободы обтекал его с двух сторон, как некогда, в мирное время, таким же манером расходился и смыкался вокруг гарцующего на коне Великого Государя.
Монумент был прекрасен. Высокий столб с устремленной ввысь женской фигурой подпирали – и преданно охраняли – воины в латах и с мечами, с глазами, полуприкрытыми от усталости и боли. Взгляд Свободы был направлен вниз, на них, а на сером мраморе высечено посвящение: «РОДИНЕ И СВОБОДЕ», причем пластина эта вмонтирована в красно‑ розовое мраморное подножие, и плиты уложены так, что казались истекающими кровью. Линии и формы поражали гениальной и строгой простотой. Во время торжественного открытия памятника двое офицеров в толпе негромко поговорили о том, что свободу нужно время от времени мыть в крови, и оба полыценно удивились, когда та же мысль патетически зазвучала в речи одного из выступавших патриотов.
Полюбовавшись новым монументом, отправились гулять по городу всей разросшейся семьей. Обошли сквер напротив Национальной Оперы и двинулись вдоль городского канала. Тайка с Мишкой скормили лебедям свои лакомства и все сокрушались, что птицам холодно: стоял ноябрь. Ира волновалась, что дети простудятся, но все же направились в Старый Город, к Ратушной площади. Там, напротив ратуши, находился знаменитый чайный магазин, куда тотчас же озабоченно устремились дамы. Мужчины остались ждать, а дети вертелись вокруг, разглядывая памятники и затейливые старинные фронтоны. Старик с уважительным восхищением прислушивался, как оба зятя рассказывают о Старом Городе: сами старики мало что могли рассказать внукам, ибо ничего, кроме своего Московского форштадта, не знали. Зятья‑ то учились и, как видно, не зря: говорили, будто из книжки читали, дети только успевали головами вертеть.
Старуха с самого начала зорко присматривалась к зятьям, пытаясь отыскать слабые места. Старший, Коля, ей очень импонировал внешне. В то же время своей элегантной стройностью, сдержанностью и негромкой книжной речью он казался на форштадте нездешним, хотя сам был из простой семьи. Недостаток в нем выискался скоро: зарабатывал намного меньше жены, которой дарил, к слову сказать, книжки, а чтоб стоящее что‑ нибудь, так нет; а та и рада, простофиля.
Тонечкин Федя был сутуловат, ростом ненамного выше жены, зато держал ее, как куколку, и квартиру нанял из четырех комнат, в центре. Мало что в каменном доме, так и в баню ходить не приходилось: прямо в квартире ванная была. Старухе было немного досадно, что ее любимица будет жить так далеко, но Тоня объяснила, что Федор Федорович начинает делать зубные протезы на дому, для чего в квартире и комнатку маленькую, пятую, оборудовали, а кто ж порекомендует солидного пациента врачу с форштадта? Это мать поняла и «Федор Федоровича» оценила. Попыталась было занести в графу с недостатками то, что младший зять был православным, но не получилось: ни одного праздника в моленной не пропускал, хоть и крестился по привычке тремя перстами. Тоже покупал книги (даже шкафы особые завел со стеклами), так ведь тут и деньги другие. Федя получил диплом зубного техника, но и жене, и теще нравилось называть его среди знакомых доктором, отчего он сначала конфузился, а потом как‑ то перестал замечать, что ли. Человек он был добрый и, как большинство добрых, тихим. Знаниями своими в медицинской науке гордился, и когда сказал теще, чтобы она не заворачивала младенца в свивальники – дескать, вредно для ребенка – она только губы поджала, но спорить не стала, забрала домой отбеленное полотно: пригодится для других внуков. А Тонечка уже нянчила сына, который родился копией отца, только что не сутулился.
Оба зятя курили папиросы, и тут старуха оказалась в затруднении, потому что средний сын, Андря, тоже начал курить, а за ним и Симочка, возомнивший себя кавалером: того и гляди женится.
Женился, напротив, Андрюша, внезапно и безрадостно: не от большой любви, а потому что иначе нельзя было. Всегда задумчивый, он был в последнее время смутен и мрачен. Как все мужчины его возраста, он уже несколько лет носил форму Республиканского защитного батальона и не всегда ночевал дома, что понятно. Оказалось – вон оно что.
Если бы не вмешательство старухи, то через несколько месяцев одним внебрачным ребенком (тоже мальчиком) стало бы больше. Сын все рассказал сам, да и не много было рассказывать. Мамынька не была в восторге от невестки, уже «с начинкой», но твердо сказала:
– Женись, твой грех.
Обычно тихий и покладистый, Андрюша вспылил и наговорил старикам, как потом вспоминала мать, «сорок бочек арестантов» и даже пригрозил сделать над собой что‑ нибудь, на что получил еще более суровое:
– Грех, Андря!
Старик маялся и ничего не говорил, но думать, что Андрюшин сын не будет Ивановым…
Почему‑ то мамынька твердо знала, что мечтательный Андрюша свою угрозу в жизнь (точнее, в смерть) не претворит, и не ошиблась. В ту ночь родители не спали. Мать истово молилась, отбрасывая нетяжелую косу и опускаясь грузным телом в земных поклонах: за сына, за будущую сноху и за невинного младенца, который должен стать уже седьмым по счету внуком.
После торопливого венчания последовало негромкое домашнее застолье вместо свадьбы. Новая невестка не нравилась мамыньке, только невозможно было сказать чем. Надежда была аккуратная, ладная, яркая и ловкая, но всего в ней было как‑ то через край: и ловкости, и яркости, и говорливости. Где‑ то в глубине души и слова нашлись подходящие: окрутила сына. Так ведь нет – сама заставила жениться! Подумав, мамынька привычно поджала губы: тем и не хороша, что не девкой под венец пошла. Да еще тем, что хоть и старалась угодить старухе, было видно, что на самом‑ то деле ни в грош ее не ставит. Не‑ е‑ ет, с Павой, Мотиной женой, не сравнить: та – степенная, солидная, а уж хозяйка! И пироги, и в огороде не разгибается, и троих уже родила, а главное, мужа твердой рукой держит: Мотяшка‑ то не курит, не пьет, разве что на праздник, а дом построил – загляденье!
Старик видел, как лицо жены то мрачнеет, то разглаживается, но о чем она думает, не знал, потому что сам думал только о сыне. Ах, Андря, Андря… и на кой все это веселье, когда собственная свадьба парню не в радость?! Жена повторяла: стерпится – слюбится. Но настойчивое это «на кой», несмотря на несколько выпитых рюмок, вертелось в голове, как маринованный гриб под вилкой: он‑ то знал, что должно быть только наоборот: слюбится – стерпится, а все остальное – от лукавого.
В его смятенные думы ворвался какой‑ то сложный разговор между зятьями, и старик невольно прислушался, хотя понял немного. Федя все говорил, что время теперь хорошее. Коля чуть усмехнулся и спросил:
– Для кого?
– А для всех! Памятник видел? Ведь свобода!
– Кому ж при жизни памятник ставят, – усмехнулся старший. – Раз памятник, пиши пропала твоя свобода. Да и какая свобода при диктатуре?
Дальше пошло совсем непонятно, и старик налил новую рюмку. Вставая и вынимая портсигар (из‑ за икон курили на лестнице), Федя поучительно сказал, что диктатура диктатуре люпус эст, и спорщики вышли в коридор.
Время и впрямь было хорошее. Дети жили своими семьями, и пока старуха купала, брызгала от сглазу святой водой и закручивала младшего внука в беспощадный свивальник, чтоб эта лайдачка знала, как надо, Симочка привел в дом жену. Не спросивши благословения!.. Отец как раз поднялся из мастерской обедать; разгоряченная мамынька, с закатанными по локоть рукавами, вынимала противень из духовки, а Настя стояла, прижавшись к мундиру жениха, красивая, как Вера Холодная, и вписывалась в эту картину примерно так же, как вписалась бы та. Невозможно было представить себе, что эта синематографическая дива будет рожать детей; да она и не собиралась. Естественно, что такая невестка потрафить мамыньке не могла, однако старуха тайком любовалась Настей, гордясь выбором любимца, и даже на невесткину бесполезность смотрела сквозь пальцы.
Это ж только подумать – через год сорок лет будет, как венчались! Так‑ то уж пышно праздновать навряд ли будут (старуха невольно покосилась на шкаф, где висело панбархатное платье с серебряной свадьбы), но семья соберется, все семнадцать, да кто из родни, да сами… это сколько ж выходит‑ то? В таких приятных подсчетах старуха начала жить новый день, и не хотелось даже придираться к этому дню – таким он был славным и добротным.
Неделя да другая, которые потянутся за ним, Бог даст, не хуже будут, уютно додумывает она, деловито, но не теряя величавости, выбирая на базаре все необходимое для обеда. В корзинке уже свежая зелень, кусок молодой баранины и нарубленные воловьи хвосты для бульона, чуть сочащиеся нежной розовой сукровицей, но мамынька требовательно указывает железным крюком на дебелую курицу и получает ее, чтобы властно, с акушерской ловкостью, развести бессловесной птице ноги и понюхать, а как же без этого. Хозяйка курицы старуху знает давно и уважительно наблюдает, как та выполняет все пункты неписаного покупательского кодекса, после чего четвертую по счету курицу, которой посчастливилось пройти этот страшный суд, велено завернуть, и корзина становится тяжелей. Пока мамынька, перейдя в молочные ряды, строго минует одну крестьянку за другой, окидывая нарочито равнодушным орлиным взглядом сочные глыбы творога, непроницаемые бидоны со сметаной, масло, похожее на густой мед, игнорируя призывы вкусить, дабы убедиться… а дальше не слышно, она уже далеко, уже пробует мед, подобный подтаявшему маслу, но нет, недовольна; пока она ищет совершенства в этом мире, текущем молоком и медом, старик думает синхронно с нею, как это уже не раз бывало за сорок минус один лет. Его долото осторожно продвигается по раме будущего трюмо, деликатно, но уверенно взрезая плоть когда‑ то живого клена, чтобы через неделю‑ другую, отражая в зеркале чужую жизнь, этот кусок дерева мог вспоминать свою кленовую юность и зрелость, птичий переполох, взгляд сверху на оседающие пламенные листья, и этих воспоминаний хватит на весь его мебельный век, ибо разве не кленовый лист выходит барельефом из‑ под резца? Старик думает, что все дети, слава Богу, благополучны: суп у всех густ, а жемчуг, если у кого и мелок, так ведь – жемчуг. Стало быть, прав зубной доктор: хорошее время, что и Бога гневить.
В воскресенье после заутрени собрались за столом. Мамынька не хлопотала – для этого есть дочери и невестки, – а только дирижировала, чтобы трапеза шла плавно и не прерывалась. Андрюша с Симочкой явились с опозданием, и оба почему‑ то в форме, несмотря на воскресный день. Мамынька не успела решить, на какую высоту поднять все еще черные брови, как Андря, глядя на старика, произнес:
– Война, папаша.
Тот самый день, который был таким славным и удачным для старика и старухи, оказался черным днем для Польши, хотя светило одно и то же сентябрьское солнце, отражаясь в одном и том же синем море. Началась война, но не почернело синее море и не вздулись сердитые волны, а ведь Польша – вот она, совсем рядом.
Брови все‑ таки поднялись: «Так то Польша? Где Польша и где мы», когда старик вдруг сгреб в горсть скатерть так, что нож звякнул о тарелку, и стукнул кулаком по столу: «Не смеешь! Я польской крови!! », и так неожиданно зазвенел этот крик, что все замерли в изумлении. Сама‑ то фраза была мамыньке знакома: муж пускал ее в ход, когда она, бывало, слишком уж пиявила его после сдачи большого заказа и такого же кутежа в ознаменование. Никогда, однако, слова эти не выкрикивались с таким гневом. Старухе сделалось коломытно; так ведь не ругаться сейчас, баранина‑ то стынет быстро.
О чем в эти неопределенные недели думала старуха, то пробуя на базаре сливу для варенья, то развешивая накрахмаленные простыни на октябрьском ветру, а потом уверенно ведя по этим простыням тяжелым чугунным утюгом, сказать трудно. Тремя этажами ниже, ведя рубанком по березовой заготовке, которой суждено было стать чьей‑ то столешницей, старик думал, если это можно считать мыслью: на кой?! На кой немцам (опять – немцам…) Польша? И сам себе отвечал, если это можно считать ответом: а на кой им тогда была Сербия?
Разговор с учеными зятьями помог немного, а правду сказать, так и совсем не помог, только прибавил путаницы. Говорили, что порты закрыты, а тут – извольте радоваться! – в этих закрытых портах русские, только уже советские, конечно, военные корабли. На кой? Ждать немцев? Зятья помалкивали уклончиво, вынимали папироски, и потрясенный старик понял: не знают, даром что ученые.
А немцы не ждали – уезжали из города целыми семьями, распродавали имущество. Два заказчика прислали сообщить, чтобы мастер не трудился, так как в заказанном более не нуждаются. А материал закуплен!.. Аванс, впрочем, назад не вытребовали, но это было только справедливо. Засобирался и Фридрих.
А‑ ах, Мать Честная! Тот самый, что, дуя себе в воротник, торговал на зимнем базаре деревянными безделушками, тот, кого старик двадцать лет назад согрел в трактире и приветил у себя в мастерской, ну тот, который еще потом шкатулку Ирочке… Собирался Фридрих долго, хотя что там собирать‑ то? Сундучок смастерил на славу и, конечно, отделал крышку инкрустацией. Максимыч самолично насадил на сундук латунные уголки – точно как при въезде в квартиру, когда крепил на дверь, словно визитную карточку, табличку со своим именем. Странно было подумать, что Фридриха в мастерской больше не будет, и не из‑ за инкрустации, Господь с ней. Немец был для старика единственным «своим», кроме родных (а в лихую минуту и более своим, чем они), и связаны они были, хозяин и работник, тесными узами любви к своему мастерству и знанием его тайн. И как знать? Попади старик тогда на фронт (иными словами, не имей он зуба с пломбой), а потом в плен, ибо попасть он мог только в могилу или в плен, потому что не мог поднять руку на ближнего, хоть и немца, – может, и ему пришлось бы жить из милости немецких пильщиков, бросающих ненужные обрезки дров, и ему пришлось бы продавать где‑ то на немецком базаре матрешек да щелкунчиков. А коли так, то – как знать? – может, и ему Бог послал бы благополучного Фридриха, прогуливающегося с тросточкой, а вовсе не дующего то в воротник, то на замерзшие пальцы. На вопрос, куда едет, Фридрих приостанавливал работу и отвечал односложно: «Фатерлянд». Так и подмывало спросить у немца, на кой его фатерлянду понадобилась Польша, но не спрашивал – догадывался, что ответа тот не знает. Старик видел, что немец не торопится, и со свойственной ему прямотой уже хотел сказать: ты ж тут больше двадцати лет живешь, на кой ляд тебе фатерлянд этот, оставайся! Не сказал. Вспомнил далекий 14‑ й год, странный толчок где‑ то под ключицей и вдруг овладевшее им тогда чувство сиротства, от которого и бежали всей семьей в Ростов, свой фатерлянд.
Попрощались с немцем полюдски, как и познакомились: в трактире.
За верстак Фридриха перешел работать Мотя, и вначале было непривычно, а потом и это стало неважно, потому что республика, двадцать лет пробыв в этом качестве, вдруг потеряла независимость. Казалось бы, не привыкать – вон сколько лет входила в Российскую империю! Теперь вошла опять – вернее, ввели – в империю советскую. И этот опыт Остзейская земля имела раньше, с той лишь разницей, что теперь советская власть водворилась с неестественной скоропостижностью – и осталась.
И далее по тексту: старуха бунтует, на чем свет стоит мужа ругает, хоть муж тут явно ни при чем. Для старухи новая власть – хоть советская, хоть турецкая – означала появление новых денег, что она всегда переносила болезненно. В этот раз, однако, никто о новых деньгах не говорил, говорили о национализации; но ни старуха, ни старик не знали, что это означает. Вскоре начало проясняться: пропал куда‑ то хозяин дома, в котором они жили, и дом стал принадлежать государству. Для старухи, впрочем, это большого значения не имело: она так привыкла к этой просторной ветхой землянке из пяти комнат, что не задавалась вопросом, где теперь хозяин, да к тому же была приятно озабочена грядущей 40‑ й годовщиной их свадьбы. Годовщину отпраздновали, но не так, как это сделали бы прежде, в мирное время. Она поправила себя: время‑ то и сейчас мирное, только неспокойное, тревожное какое‑ то. Даже за юбилейным столом у всех на языке была эта национализация, чтоб ее. Поговаривали, что мастерскую тоже национализируют, но остались ведь жить они в национализированном доме? По‑ прежнему звонили у крыльца заказчики, вот только с материалом стало труднее, но старика выручали старые связи.
Даже накануне Благовещения мамынька не могла избавиться от суетных дум и пыталась – в который раз! – узнать у мужа, это ж сколько будет наших денег, если в новых рублях (в обращении был и рубль, и «наши»), но старик не знал. Ответ мамынька получила на следующий день, под праздничный апрельский благовест, когда объявили о национализации банков. На счетукаждого вкладчика могло оставаться не более тысячи, и не «наших», а – рублей. Одной тысячи. Вернувшись из моленной домой и боясь поверить, расспрашивали зубного зятя, который и подтвердил.
– А остальные?! – недоверчиво вопрошала мамынька.
С уважением узнав, что теща говорит об «остальном» от миллиона с чем‑ то «наших», а не рублей (плюс проценты), Федя бросился за валерьянкой, убедившись, что дверь плотно закрыта: то, что мамынька выкрикивала высоким, накаленным от гнева голосом, посторонним ушам слышать было бы неполезно, а иконы привыкли ко многому и, услышав, что все остальные деньги конфискованы государством, ликов не изменили. Муж и зять пытались старуху урезонить, говоря, что были б руки, так и деньги будут, что они, слава Богу, не нищие, и прочий банальный вздор, который никогда еще никого не утешил; мамынька, натурально, заголосила, и валерьянка, как сказано, ни черта не помогла. Старик прибег даже к более радикальному средству и стукнул кулаком по столу изо всей силы, сопроводив этим совершенно здравую мысль о том, что мебель‑ то нужна и при буржуазной власти, и при советской. Знай он о явлении dejavu, то вспомнил бы, что такое было уже думано и пережито двадцать лет назад, и жизнь подтвердила бесхитростную его правоту.
Прав оказался старик: большевикам мебель понадобилась скоро и вся сразу, поэтому они и не замедлили явиться, трое в советской военной форме. Торговаться не стали; удовлетворенно пересчитав все готовые и полуготовые заказы, составили мебель в грузовики, подергали, пытаясь сдвинуть с места, верстаки, оставшиеся неподвижными, и повесили на дверь мастерской большую печать. Сунув в руки ошеломленному старику бумажку с бледными буквами – расписаться, уехали.
Только миновав первый лестничный пролет, он начал понимать – если он понимал правильно – что произошло сейчас, и так паскудно сделалось ему от этого, что домой он не пошел, а заторопился к Ирине, живущей в нескольких минутах неторопливой ходьбы. Старик шел, зная, что дочери дома нет, но он сейчас хотел видеть не ее, а зятя, отсыпавшегося после ночной смены. Глянув на полуобморочно сиреневые буквы, зять подтвердил: конфискация. Мамаша знает? Старик неопределенно мотнул головой и расстегнул верхнюю пуговицу косоворотки. Как заказчикам‑ то скажешь?! Коля убежденно говорил, что власть‑ то правильная, только люди, мол, которые у власти, они ж не всегда, папаша, разбирают, и когда лес рубят, то щепки летят.
На слове «щепки» старик поднялся, нахлобучил картуз и заторопился, словно куда‑ то опаздывал. Зять было двинулся следом, но тот мотнул головой: не надо.
В мастерскую он торопился, вот что. Вошел со двора, благо, заднюю дверь опечатать не догадались. В углу лежала груда щепок, которые, слава Богу, никуда не летели и береглись для растопки плиты. Под верстаками клубились, завиваясь, свежие стружки разных оттенков, словно локоны, срезанные ножницами парикмахера. Он постоял у верстака Фридриха (теперь Мотиного), подошел к своему. Постоял, водя по нему рукой, пытаясь кожей навсегда запомнить рисунок дерева, знакомый лучше, чем собственная ладонь. Взяв мешок, туго набил его щепками и стружками, жадно вдыхая непередаваемый смолистый запах, постоял еще немного, потом легко вскинул мешок на спину и вышел вон, тщательно заперев дверь. Рука хранила прикосновение к верстаку, а в памяти ладони ожило такое же прикосновение, много лет назад, к маленькому гробу Лизочки, так никогда и не поигравшей с веселыми стружками. За дверью мастерской навсегда остался мастер Г. М. Ивановъ и, может быть, смотрел, как по лестнице подымается крепкий еще старик Максимыч.
Дома он аккуратно поставил мешок у плиты и, снимая картуз, сказал мамыньке, что щепок больше не будет, после чего произнес непривычное слово, а вслед ему – неприличное.
Время шло к лету, но о выезде на дачу и речи не было. И не потому даже, что старуха хлопотала вокруг двух новорожденных внучек, чего могла бы и не делать: и Тонечка, и Андрюшина нелюбимая жена сами справлялись с младенцами, – а потому что Бог знает что творилось в некогда благополучном городе. Конфискация затронула не только старика. Много кто на форштадте (теперь называемом «район») остался дома, без дела и без денег, да и хорошо, если вообще остался дома: не все вели себя так безропотно, как Максимыч.
Новая власть заявила о себе военной формой, в которую с поразительной быстротой оказались одеты сыновья и старший зять; зубной же техник изо всех сил старался не выглядеть счастливым – близоруких не брали.
Красноармейская форма сидела на сыновьях не то чтобы мешковато, но не так щегольски, как прежняя, а о прежней лучше было и совсем не упоминать. Странные, а для многих страшные, шли недели, и дни были смазаны неопределенностью слухов и событий и невозможностью отделить одни от других, как и сами дни переходили в белые ненастоящие июньские ночи. Говорили о немцах и ждали немцев; это казалось одновременно и невозможным, и неизбежным, а для кого‑ то желанным. Этих последних легко было узнать по выражению удовлетворения и скрытого торжества на лицах в то воскресенье, когда в дверь позвонил Коля и сказал Андрюшины слова двухгодичной давности: «Война, папаша», а потом показал тонкую бумажку: «Всех призывают».
Вскинулась старуха – то ли голосить, то ли молиться. Старик молчал. Он понял, что отныне его жизнь зависит не от Божьей воли и не от его собственных рук, а от зловещих листков с бледно‑ сиреневыми буквами, напечатанными небрежным стаккато какой‑ нибудь барышней, с мазком от жирной лиловой копирки на уголке и круглым поцелуем невнятной печати внизу. Это и было теперь Божьей волей.
Следующая бумажка приказывала старику идти на войну. Такие же листки получили все сыновья, так что оба поколения, четверо Ивановых, стояли в очереди на освидетельствование, и все четверо получили один и тот же приговор: годен.
Где тот фельдшер, который велел ему, тогда 36‑ летнему, отправляться домой из‑ за пломбы в зубе? Его нынешний возраст, ловко поменявший местами те цифры, комиссию не смутил, и, возвращаясь к каноническому тексту, старичок к старухе воротился – проститься. Неведомо, было ли сказано сакраментальное: «дурачина ты, простофиля», но если и не было, то подразумевалось безусловно.
– Не смеют! – бушевала старуха, переводившая взгляд с мужа на иконы. – Не смеют, холера ясная!
Посмели.
Стремительно скрылся из глаз военный эшелон с тремя сыновьями, оставив потенциальных вдов и сирот, а пока еще жен и детей, которым плакать и стенать было некогда – надо было срочно эвакуироваться. Старику велено было ждать вызова и никуда не отлучаться, да и отлучаться было некуда – немецкая артиллерия уже бомбила Старый Город. Вместе со старухой они собирали невесток и внуков, и мамынька больше не говорила свое «не смеют», а молилась вполголоса, не снимая лестовку с запястья.
Бумажка с малокровным текстом, присланная Коле, содержала приказ оставаться в городе «на посту». Постом называлась типография, в которой он работал, но оставаться надлежало отнюдь не для работы, а для охраны важного стратегического объекта. Зачем бы немцам понадобилась типография, где и шрифта‑ то немецкого не было, Коля не знал, а Максимыч не терзал зятя праздными вопросами. Ира совершенно потеряла голову, и муж разговаривал с ней, как с ребенком, в то время как дети обводили глазами квартиру и складывали в наволочку школьные учебники и игру «Рич‑ Рач». Как бы то ни было, на исходе второго дня войны – вот так отчетливы и подробны были эти дни, и страшно было подумать, что из них составятся недели, – на исходе второго дня войны в одном вагоне для эвакуируемых оказались три жены: Ира, Пава и Надя, с полным, говоря по‑ военному, комплектом детей каждая.
Старуха эвакуироваться отказалась. Нет, и кончен бал. Старик начал было уговаривать, но вспомнил, что все это уже было: эвакуация, Ростов, морок – и замолчал. Да и не одна она оставалась – Тоня, любимица, тоже никуда не ехала: Федя практику не прекращал, здраво рассудив, что зубной техник одинаково потребен как большевикам, так и немцам – рты у всех устроены одинаково. Советские аппаратчики, кстати, охотно пользовались услугами явно буржуазного доктора, не предпринимая ни малейшей попытки конфисковать кабинет: ну конфискуешь в пользу советского государства элегантное кожаное кресло с бормашиной, а зубы‑ то кто вставит? Другое дело – лавка с бакалеей или мастерская, хоть мебельная, хоть скорняжная… Зятевы рассуждения Максимычу были понятны, как свои собственные, ибо его собственными какое‑ то время назад и были. Старик был уверен, что Тоня с Федей поддержат мамыньку. Оставалась и младшая невестка, Симочкина красавица, и тоже обещала «мамаше помогать», да что с нее, с неумехи, взять, хотя за доброе слово спасибо.
В один эшелон с сыновьями старик не попал: паскудная бумажка предписывала ему явиться в порт. Содержание листка, впрочем, гораздо лучше передавалось классическим текстом:
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдешь, поведут поневоле,
В результате чего старичок отправился к морю, то есть в порт.
В порту, обычно оживленном и грохочущем, было непривычно тихо. Красноармейцев – отныне старик тоже принадлежал к этому племени – быстро погрузили на пароход. Женщин в порт, ставший военным объектом, не пустили, поэтому каждый мертвел душой в одиночку. Было много таких же, мягко говоря, пожилых, как Максимыч, но никого из знакомцев он не встретил, да и не искал. Винтовка оттягивала плечо, и делать с ней дозволялось только одно, чего он делать не умел и не хотел, а главное – не мог. Вся надежда была на Царицу Небесную – ведь уберегла ж тогда!.. Он не заметил, как пароход вышел из порта и осторожно, без гудка, словно крадучись, неуверенно двинулся по реке.
То ли немецкий бомбардировщик заметил эту неуверенность, то ли просто делал свое дело, но суматоха на пароходе поднялась совершенно не военная. Щелкали затворы винтовок, звучал неизбежный мат, долженствующий повысить боевой дух военнослужащих запаса, а бомбы падали в воду вокруг пароходика, и казалось, что кто‑ то большой неумело пускает «блинчики». Солдаты бегали по палубе, втягивая головы в плечи, словно это могло помочь, и старик тоже бегал, не понимая команд, а больше ориентируясь на мат и беспомощно тяготясь винтовкой, которую, по примеру других, держал в руке. От нескольких упавших подряд бомб пароход заволокло густым дымом, и послышался отчаянный крик: «Огонь! » Кто‑ то сильно толкнул Максимыча в бедро, и он увидел, что палуба трещит и расползается, а тот, в фуражке, все кричит что‑ то и кашляет от дыма. Старик не бросился, а перевалился через борт, явственно расслышав слова покойного отца: «Бог не без милости, казак не без счастья». С облегчением выпустил ненужную винтовку и поплыл к берегу. Ему, выросшему на Дону, плыть было легко и нестрашно: разбомбив пароход, немец развернулся и дисциплинированно полетел докладывать об успехе. Максимыч плыл и плыл, а у берега встал на ноги, чтобы тут же отчего‑ то упасть вновь, да так и остался лежать щекой на песке – то ли песок был шершав, то ли щека.
* * *
Было уже поздно, но старуха медлила ложиться спать, чтобы не стереть со щеки прикосновение мужниной бороды. За сорок один год разлучались они нечасто, а правду сказать, так и не разлучались совсем: старик всегда был с нею, даже в тифозном бреду. Старуха подкрутила фитили в лампадках, проверила замки и осталась жить, дожидаясь, когда он отопрет дверь своим ключом.
Вот неделя, другая проходит… Нет, другая успела только‑ только начаться, как немцы заняли Город. Еще неделя‑ другая вполне понятной неразберихи, и – извольте радоваться! – новая власть. Местное население в массе своей действительно радовалось, страстно надеясь, что будет возвращено все отобранное большевиками, что вновь забурлит свободная жизнь… в режиме оккупации. Немцы сразу ввели трудовую повинность, напомнив, что бесплатных пирожных не бывает, и плохо пришлось бы 57‑ летней старухе, если б не зять Феденька. Кроме своего зубного ремесла, он хорошо знал новый государственный язык и уже оказал первую услугу одному некрупному чиновнику из гебитскомиссариата, который остался не то что доволен, а – счастлив. Старая истина о том, что все решается в нижних эшелонах власти, подтвердилась и здесь: Матрена осталась дома, моля Бога за Феденьку, которого все чаще и чаще мысленно величала Федор Федорычем. Но и работал же Федор Федорович не покладая рук и был рад‑ радешенек, ибо принадлежал к категории людей, любящих свое дело. Пациенты звонили, чужие мундиры отражались в зеркале, и нарядная Тоня гордо встречала очередного страдальца. Естественно, что жена герра доктора никакой трудовой повинности не несла, если не считать, что так же ревностно вела дом, растила детей и часто проведывала мать, принося деньги и продукты.
Не коснулась пока трудовая повинность и Коли, которому советская власть, уходя, поручила охранять типографию и даже выдала форму и винтовку. Тщетно ждал он обещанных «дальнейших указаний»; старуха же, не привыкшая есть в одиночку, дожидалась его, подогревая обед. Первого июля, увидев входящих в город немцев и отчаявшись, зять сделал то, что делали все вот так оставленные: переоделся в свою привычную одежду, а форму и винтовку закопал на пустыре.
Пришли за ним через два дня, хотя могли бы прийти через два года, не говоря уже о том, что и вовсе могли не прийти, потому что пустырь тот ни при чем. Однако страна должна знать своих героев: нашлись на форштадте патриоты, нашлись. Собственно, оказалось достаточно одной патриотки, которая и донесла на члена ячейки. Какой ячейки?
Да какой же еще. Нет, не жид и не цыган, брехать не буду, а что коммунист, так все знают.
Что уж говорить про всех – семья не знала. Примчавшийся Федор Федорович был в недоумении.
– Да какой он коммунист, мамаша, какая ячейка? Он же в моленную ходил! А форму на всех надели!..
Аргументы эти обнадеживали женщин, но не самого Феденьку. Хорошо, что не было Иры: уж ей‑ то ничего не нужно было знать до поры до времени.
До какой поры, до какого времени, сколько дней и недель пройдет, прежде чем… прежде чем что? Город жил под другими флагами, вывески заговорили на чужом языке, – так ведь это и раньше менялось. Люди приспосабливались – и приспособились, тем более что край этот издавна питал к немцам глубокий пиетет, думал Федор Федорович, доставая стерильную салфетку. Рот пациента выглядел таким жалким и беспомощным, что невозможно было соотнести эту немощность с регалиями на мундире. Сегодня последний визит. А значит, и последний шанс, быстро думал доктор, здесь нижние эшелоны не помогут: одно дело – трудовая повинность, другое – арестованный коммунист; понадобится этот зубр. Зубы «зубра» сидели, вернее, висели в бледных деснах, как зернышки в неспелом гранате, а глаз со страдальческим вожделением косился на пальцы дантиста, сжимавшие протез неотразимой красоты, который и был водружен в измученный рот. После традиционного этикета вопросов и ответов, а затем предъявленного зеркала – всю процедуру может описать любой портной или парикмахер – было достигнуто взаимно однозначное соответствие лица и мундира. Широко улыбаясь и любуясь в зеркале собственной улыбкой, пациент достал портмоне и снова улыбнулся доктору, но уже вопросительно. Федя, вытерев последний палец, корректно, но решительно отвел деньги. Если герр Фюссмайер почувствует хоть какой‑ то дискомфорт, прошу покорно. Немец признательно кивнул и, не убирая портмоне, спросил, как он может отблагодарить герра доктора. Герр доктор удовлетворенно отметил про себя, что дикция пациента не пострадала и, словно колеблясь, промолчал. Дверцы стеклянного шкафчика, никель бормашины и приоткрытое окно соблазняли немца улыбнуться еще раз. Улыбнулся: так как же? … Аккуратно повесив полотенце, Федор Федорович пригласил пациента в кабинет.
Расчет был верен. Солидные немецкие издания по медицине в стеклянном шкафу (улыбка), старинный чернильный прибор, окно, защищенное от дневной суеты плотными шторами, должны были создать и закрепить образ ученого‑ медика, который еще и практикует ради хлеба насущного, однако от гонорара отказывается.
Федино объяснение немец выслушал без улыбки, но когда заговорил, тон его был почти сочувственным. Был ли он потрясен метаморфозой собственного рта или безоговорочным ручательством герра доктора за своего обреченного родственника, неизвестно; потребовал бумаги. Вручая записку, хмуро сказал, что ничего, разумеется, не обещает.
Наутро Федор Федорович отправился узнавать, где был его… шурин? деверь? … Махнув рукой, остановился на привычном «швагер», а следующая мысль: лишь бы был.
Был!.. Концентрационный лагерь находился километрах в ста, и зубной доктор (хотя и только техник, но уже никого не переубедить), окрыленный успехом могучей за писки, сразу же туда заторопился, пожалев, что отказался сгоряча от передачи, которую собрала Тоня. Тот же листок открыл ворота лагеря. Дежурный офицер прочитал записку с почтительным удивлением и, перелистав несколько бумаг на столе, подтвердил, что интересующий доктора субъект действительно был во вверенном ему лагере. Свидание исключается. В продолжение Фединой беспомощной паузы офицер сказал что‑ то лейтенанту. Тот вышел и скоро воротился, передав начальнику конверт из грубой плотной бумаги. Конверт, врученный затем герру доктору, содержал профсоюзный билет с Колиной фотографией и обручальное кольцо.
«Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Конона», – прошептала старуха, выслушав недлинный рассказ зятя. Напоив его чаем и неохотно проводив, она долго сидела за столом, водя ребром ладони по скатерти и выравнивая крошки в тощие грядки. Жизнь ее, с новой войной и с новой властью, при всей ее напряженности, стала пустой и длинной. Всякий раз, оставшись одна, она не начинала, нет: продолжала упрекать старика за то, что он так легко ушел воевать. Разогнавшись, старуха с азартом корила за отданную, как ей теперь казалось, большевикам мастерскую и пропавшие – а в сущности украденные теми же большевиками – деньги из банка. Сегодня прибавилась Колина смерть, в которой она тоже непостижимым образом винила старика. А зачем дочку отдал? – Вон сколько парней было, а теперь в сорок лет – вдовой!.. Доплетя тонкую седую косу и перекрестясь, она легла и долго прислушивалась к ночным звукам за окном. Потом заснула и увидела мужа, который говорил: «Бог не без милости, казак не без счастья», а вокруг стояли сыновья – все трое – такие красивые в мундирах, только не разобрать, каких – не то в республиканских, не то в красноармейских, но красивые!..
Так еще одно имя было вписано в поминальный список старухи – имя первого отнятого войной. Имя же Феденьки должно быть занесено в какой‑ то особый список тех, кто не побоялся по своей воле пойти на свиданье со смертью. Такого списка, однако, у старухи не было, хоть и молится она за здравие раба Божия Феодора, который уснул сейчас тяжелым сном, и снится ему Коля. Он склоняется над списком и говорит негромко, что он – был, был и ждал его, а потом был экстерминирован, но прежде‑ то был!.. Глаз швагер не поднимает и продолжает чужим уже голосом, что выдать одежду экстерминированного не представляется возможным. От этого чужого голоса сон прерывается, и тихонько, стараясь не разбудить жену, доктор пьет сельтерскую, чтобы не думать про одежду, а значит, думая.
Может быть, рассказчику не следовало бы описывать все так подробно, а предыдущие несколько страниц и вовсе вычеркнуть? Дескать, если жили‑ были старик со старухой, то и сосредоточиться нужно именно на их жизни, и незачем так пристально концентрироваться на зятьях. Но, во‑ первых, имеет смысл доверять интуиции автора, ибо он – лицо ведомое, он не сочиняет, он просто идет за ниткой разматывающегося клубка; во‑ вторых… Впрочем, всегда хватает «во‑ первых»: проверено, и не раз. Невозможно зятя Феденьку, старухиного доброго ангела, упомянуть походя – только потому, что зять. Особенно сейчас, когда мамынька, проводив всех сыновей на войну, обратила на зятя любовь и тепло, предназначавшиеся им. Было еще что‑ то, что она не могла даже в молитве высказать, какое‑ то суеверное чувство: пока жив и здоров Федя, то и с ними ничего худого не случится. Он, в свою очередь, слово «мамаша» произносил с особой теплотой, потому что сиротство – оно ведь никогда не забывается, даром что своих уже двое. Вот и получилось, что тихий сутулый младший зять стал главой семьи, еще полгода назад такой внушительной, а теперь развеянной по фронтам и эвакуациям; и не тяготился этим.
б
Октябрь уж наступил, когда овдовела, сама еще об этом не ведая, старшая дочь старика. А еще раньше, летом, сам он, уронив винтовку на дно, упал на берег и врос щекой в жесткий сухой песок. Старуха же молилась за здравие его, не за упокой; и была права.
Не песок оказался жестким, а его собственная отросшая щетина. Песок же, напротив, был гладким и таким белым, что больше походил на подушку. Так это и есть подушка, удивился старик. Недоверчиво ощупал обеими – целыми – руками узкую подрагивающую койку и хотел сесть, но пронзительная боль швырнула его обратно. «Отвоевался, отец, – говорил врач, заканчивая перевязку, – болеть будет долго. Смотри, не вставай, а то кость неправильно срастется. Ты чего в воду‑ то полез? …»
Максимыч рассказал, как начали обстреливать пароход, как занялась палуба и как он поплыл, а винтовка утопла.
Н‑ да. Шестьдесят три года, на год старше папы, прикинул врач. Как, с осколком в бедре, старик мог добраться до берега? Это ж какое сердце надо иметь! На дезертира не похож: тот бы документы утопил прежде винтовки, не говоря о форме… Вода его и спасла – ни песка, ни грязи в ране практически не было. Сколько он пролежал? О том, что больше никого на берегу не нашли, врач не сказал, да и мысли его приняли совсем другое направление: от родителей, торопливо отправленных в эвакуацию, вести не приходили, а своей семьи у доктора не было. Он сдернул грязный халат и с ненужным раздражением велел сестре принести новый.
От‑ т работа, Мать Честная, уважительно изумлялся старик, следя за манипуляциями доктора. Чисто за верстаком стоит. Молодой, совсем как наш Андрюша. Тоже ведь семья, небось, дома… или где‑ то, как у наших.
Санитарный эшелон двигался быстро, с короткими и нечастыми остановками. Лежать прямо, как велел доктор, было неудобно, но всякая попытка переменить положение прошибала резкой болью, и Максимыч смирился. Раз сказано, что отвоевался, значит, отпустят домой; скорей бы. Раненые называли его «дед» и удивлялись, когда он отказывался от махорки. Получая от усталой конопатенькой худышки свою миску с пшенкой, он спросил, когда ж поезд‑ то приедет? Скоро, дедуль: до Омска и остановок не будет.
И вправду не было. В самом же Омске остановка была неожиданно короткой из‑ за какого‑ то карантина, и поезд дернулся, словно рыгнув, когда отходил от перрона, к великой обиде юного, на вид младше Симочки, долговязого солдата с разрывной раной плеча: у него в Омске жили родители. Парню почему‑ то выйти не разрешили, и снова у Максимыча в голове начало клубиться это безнадежное «на кой». Вытащить мальца из Сибири, чтобы загнать под Смоленск, где он и окоп‑ то по своему росту выкопать не успел, хорошо, жив остался… О том, где и в каких окопах вжимаются с молитвой в холодный песок его сыновья, он мучительно старался не думать. На кой…
В следующий раз эшелон затормозил ночью и стоял долго. То ли от тягостных дум, то ли от постоянной тряски боль в бедре и ноге не утихала. Из темноты чужой, хоть и русской, ночи доносились отдельные слова: карантин – Челябинск – предписание – транспорт – сульфидин – Чита – трибунал, щедро разбавленные матом. Закрывая глаза, старик пробовал вспомнить, где такое уже было, но припомнить не мог и раздражался. Дожить бы до утра, Господи! – хоть белый день увидеть.
И опять где‑ то там, в небесной канцелярии, услышали его молитву, потому что белый день он увидел из окна госпиталя со сказочно удобными, после санитарного эшелона, кроватями и даже тумбочками между ними, а в окно светило солнце, пол не дрожал, и сюда перенесли старика, чтобы залечить его первое и последнее боевое ранение; все это называлось – Кемерово.
Мысль материальна, если она послана от одного человека к другому, и чтобы убедиться в этом, не надо читать сочинения философов. Живущий на Аляске и напряженно думающий о своем родном и близком, который в это время пересекает пустыню Гоби, посылает ему свою любовь и тревогу: так соприкасаются души. Эта связь чиста и надежна, ибо невозможно родному человеку послать таким способом ложную мысль. Другое дело – в письмах: легче солгать в первый раз, а потом поддерживать единожды написанную неправду.
От Иры пришла открытка с Поволжья: живы, мол; как вы, родные? Где Коля? Рыжеватая плотная бумажка дошла, по военным меркам, неправдоподобно скоро. Да что там, просто – неправдоподобно; какая вообще могла быть почта в военное время… Однако запыхавшаяся открытка с адресом на двух языках достигла‑ таки Остзейской земли и осела, в немногочисленной компании ей подобных, на почте маленького провинциального городка, где еще не висели флаги со свастикой, а люди не знали, что их родина отныне будет зваться чужим словом Ostland. Скоро так и случится, а пока письма уже аккуратно пришлепнуты штемпелем и ждут своей участи, то есть доставки.
Вот неделя, другая проходит, и почта, слава Богу, попадает в Город, где вызывает легкое недоумение у немецкого чиновника: конверты и карточки так истоптаны штампами, что он отстраняет легкую рассыпчатую горку и забывает о ней начисто. Пожилой исполнительный почтальон привычно загружает сумку и, взгромоздившись на ободранный велосипед, катит по булыжной мостовой, чтобы опустить невесомую бумажку в знакомый почтовый ящик. В Тонином парадном он медлит, наслаждаясь прохладным полумраком, но спустя минуту вновь напяливает фуражку и выходит в августовский зной. Что ж, служба такая.
Тоня несказанно обрадовалась весточке и написала в ответ, что Коля ушел с красноармейцами, а больше ни от кого известий не было; береги себя. Неизвестно, последовала сестра ее совету или нет, потому что ответа не было, да и не могло быть. Тонины письма, не достигнув пункта назначения, тоже зависли где‑ то в пространстве. Это и хорошо – значит, канула в небытие ложь, если считать ложью… А разве Тоня могла писать иначе? Да и ходил же он, говорила она сама себе, словно репетируя встречу с сестрой, ходил он в этой форме с другими, а что получилось так, как получилось, Ире сейчас знать было нельзя. Только вряд ли Тоня знала, что сестра ее редкую минуту не думала о муже, и Колины мысли были обращены к жене, хоть он и не знал, куда была заброшена его семья. Но для мысли это не имеет значения – линии такой связи никогда не бывают заняты.
В ожидании ответа Тоня собралась было послать сестре денег, что было только справедливо со стороны человека, не знающего о липком пайковом хлебе и щах из крапивы, но это осталось добрым намерением, и только. Стратегия привлечь ростовскую родню провалилась, ибо с Ростовом не было связи по той же причине, что и с Поволжьем, а потом и он оказался под немцами, и пестрые рейхсмарки с колючими готическими буквами никак сестре помочь не могли.
Время шло, в отличие от писем. Достаточно сказать, что минуло три с половиной года с того полдня, когда измученный жарой почтальон опустил в ящик Ирину открытку. Он и не изменился совсем, только сейчас шея была закутана шарфом, и прежде чем вытащить из сумки почту, он стянул перчатки и теперь стоял, прижимая их подбородком к груди, в левой руке держа веером письма, и с ловкостью, присущей всем картежникам и почтальонам, выдергивал их правой. Проверив фамилию на шершавом конверте, метнул его в ящик квартиры № 3. Поправляя сумку, уронил перчатку, нагнулся, чертыхнувшись, а надевал уже на улице, где его ждал все тот же ободранный послушный велосипед.
Война еще не кончилась, но была предрешена. Вместо немецких флагов в городе развевались советские, и сумка почтаря с каждым днем становилась тяжелее.
Начали приходить, хоть и редко, письма с Поволжья, и не всегда их нужно было читать при мамыньке: «…я вижу землю и кровь, Тоня, кровь, вижу и Андрюшу, и Колю, а Колю я вижу в ужасном виде: глаза у него выжжены, уши и язык отрезаны, руки выломаны, мне страшно, почему я еще не ослепла…»
Забегая вперед: Андрюша с войны не вернулся, числился пропавшим без вести. Не о своей ли смерти подал он весть старшей сестре? – Ибо никаких других известий ни от него, ни о нем не поступало. Как именно погиб Коля, иными словами, что кроется за словом «экстерминация», никто не знает, и далек в пространстве и времени немецкий город Нюрнберг, но может быть, и Коля подал знак жене? Да почему «может быть»? Конечно, подал, и принял нечеловеческие муки, и смерть его была ужасна. Феденька это почувствовал, когда вернулся из концлагеря: ведь Коля и к нему воззвал, сказав, что он – был…
Во время войны жизнь принято было делить на две части: фронт и тыл. Но ведь была и третья – оккупация. Так получилось, что клан старика и старухи был разделен и хлебнул от каждого из трех котлов. Те, что остались в оккупации – ядро семьи во главе с Федором Федоровичем, то бишь зятем Феденькой – как они жили? Он работал, жена занималась детьми, дети подрастали. Мамынька любила, когда все они приходили в гости: это было почти как в мирное время. Забегала к старухе и Настя, младшая невестка, что было совсем уж удивительно, но приятно. Трудовой повинности она как‑ то избежала, но ухитрялась баловать мамыньку гостинцем, с пустыми руками не являлась никогда. Приходила, как и прежде, нарядная и подолгу смотрелась в большое зеркало: «Семену понравится, мамаша, да? » Старухе было странно, что ее Симочку она называет так важно и непривычно: Семеном, но больше всего нравилась невест – кина уверенность, что Симочка вернется, а значит, вернутся и остальные. Как и прежде, старуха ходила на кладбище и выстаивала службы в моленной. Она жила, если можно назвать жизнью ожидание; но ведь ожидание – это подготовка к чему‑ то, в том числе к жизни; значит, это и была жизнь.
Старшая дочь и обе невестки, все с детьми, оказались в эвакуации. Ира и Надя, Андрюшина жена, поселились недалеко друг от друга, в соседних деревнях на Поволжье; Мотину семью судьба забросила в далекое село на Урал.
Ирина в деревне была впервые. Если бы не швейная машина да прихваченный второпях сверток с отрезами (и то и другое диковина в этом медвежьем углу, который и назывался, как нарочно, Михайловкой), то померли бы от голода все трое… что, впрочем, на Поволжье никого бы не удивило. Отрезов оказалось меньше, чем деревенских щеголих, да и тем не перед кем было красоваться. Дети ходили в школу, а Иру председатель колхоза определил на охрану конторы «Заготзерно» – за трудодни, естественно. На трудодни еще никому прожить не удавалось, а уж когда она заболела, стало совсем лихо. Малярия трясла беспощадно, а по ночам приходил Коля, и это было намного страшнее. Кое‑ как, шатаясь от жара и слабости и постеснявшись просить подводу, доплелась до Нади:
– Помоги, детям есть нечего.
Надежда, прожившая всю жизнь до замужества на отцовском хуторе, от коллективного хозяйства пришла в ужас, но ничем этого ужаса не обнаружила, хватило ума. При детях, даром что несмышленыши, никогда вслух не говорила про местных «голота колхозная»: с волками‑ то жить. Ловкая, сильная, привычная к деревенскому труду и готовая работать за двоих, она такой шанс и получила – работала за двоих. Утро начинала в коровнике, а днем уходила в сельпо, где вначале с готовностью помогала выгружать, а потом и взвешивать пайковый хлеб. Ну а при хлебе‑ то… Золовка могла и не говорить ничего: ясно, зачем пришла.
– Так у меня своих двое и паек такой же, где ж я лишнее возьму? …
– Надя, мой брат вернется, он тебе в ноги поклонится; спаси моих ребят!
– А моих кто спасет?! Ты в «Заготзерне» работаешь, а я под коровами чищу.
– Так что, что в «Заготзерне»? …
– Вот ты и думай. А только мы сами голодные.
Нет, Андрюшина семья голода не знала. Война – это тоже вид власти, со своей валютой – хлебом; за хлеб можно было получить все. Пава с детьми не голодала тоже, хотя им полагались те же 800 граммов хлеба в сутки – норма на одного взрослого и двоих детей. В уральской деревне их приняли очень доброжелательно: староверов там было много. Сама Пава с рассвета трудилась на колхозных грядках, а потом колдовала над своими – ей выделили кусочек земли, поделились семенами и картошкой, и стало можно жить.
Всех приехавших связывало, помимо семейных уз, только одно: они, русские, приехали в Россию из такого региона, который для местных – тоже русских людей – был заграницей. Скрыть, откуда они приехали, было трудно, да и нехорошо, а объяснять, почему они живут там, и того сложней. Они говорили на одном языке, но иностранность этих пришлых бросалась в глаза одеждой, вещами да еще тем, что слова «колхоз», «сельсовет», «Заготзерно» вызывали поначалу недоуменное помаргивание, будто им не по‑ русски говорили. И все же две семьи наладились жить, в то время как третья отчаянно билась, чтобы выжить; а это не одно и то же.
А теперь самое трудное в этой маленькой саге – фронт. Можно было бы сказать, что старик довоевался до города Кемерово, если бы не попал он в санитарный эшелон, образно говоря, чуть ли не в двух шагах от дома: в том‑ то и заключалась горькая ирония судьбы, увезшей его на максимальной скорости в этакую тьмутаракань. Бедро долго не заживало; уже начались морозы, когда ему разрешили ходить с палочкой, и то потихоньку. О том, чтобы добраться домой, не было и речи: все поезда шли только в одну сторону– противоположную дому. Несколько месяцев он харчился в госпитале, сколачивая нары (кроватей уже не хватало), а спал в коридоре, стараясь не встречаться с кастеляншей. Она подошла сама:
– Что ж ты все по углам, у меня хватит места. Да и в хозяйстве поможешь, одним словом сказать.
Мужа кастелянша схоронила перед войной, детей у них не было, и она изживала время, стараясь как можно дольше задерживаться на работе. Худая, сероглазая, с русо‑ седоватыми волосами, затянутыми в сеточку, когда сорока, когда пятидесяти лет на вид, женщина была неразговорчивой и спокойной. Одну ногу она с детства немножко приволакивала, и когда они медленно шли по заснеженной улице, симметрично хромая, со стороны казалось: пожилая пара, всю жизнь прожили в любви и согласии. Разговаривали мало – Калерия была не любопытна, а Максимыч не болтлив. По вечерам, присев с очередной штопкой к огню, она изредка отрывалась посмотреть, как старик что‑ то чинит из бесхитростной соседской утвари, и оба с тревожной выжидательностью поглядывали на черную тарелку репродуктора. Почти каждую из своих немногословных фраз она заканчивала странным рефреном: «одним словом сказать», причем рефрен иногда был длиннее самого высказывания.
Наблюдая их со стороны, кто‑ нибудь, не лишенный художественной фантазии, мог бы взять да написать что‑ то вроде «Старосветских помещиков», а назвать иначе, с кивком на эпичность, например: «Жили‑ были старик со старухой». Чем не сюжет в сюжете? Однако те, кто обладал художественной фантазией, остужали ее сейчас на фронте; те же, у кого ее не было, то есть официальные писатели, тоже осторожно ринулись на фронт в поисках этой самой фантазии, так что наблюдать эту пару было некому.
Максимыч, отдыхая от казенной бесприютности госпиталя, в то же время мучился тем, что сидит на шее у женщины, а потому нескоро заметил, что Калерия приходит домой пораньше и уже не занимается часами починкой больничного белья. Когда же заметил, стало ему так коломытно, что даже попросил у нее папиросу. Курить старику неожиданно понравилось: во‑ первых, притупляет голод (если Калерии не было, он сам никогда к еде не прикасался), а во‑ вторых, занимает глаза и руки, что временами было ой как полезно. Оставаясь один, старик долго оправдывался перед мамынькой. Ты пойми, на мне даже рубаха нательная, и то чужая, я ж был голый и босый, и идти мне было некуда. А так живой остался. Да я у этой бабы по гроб в долгу – кто ж мне ногу долечивал, когда с госпиталя погнали? … Много что говорил он старухе, и не иначе, как слышала она голос мужа (даже если не слышала слов), потому и молилась за здравие.
Следующий – Мотя, старший сын. Он, умчавшийся с братьями в пыльном фронтовом эшелоне, ни разу Ире не снился. Братья держались вместе, но на одной из остановок выяснилось, что их имена теперь в трех разных списках, и когда они снова встретятся – Бог весть. Часть вагонов отцепили, и Мотя поехал дальше, а младшие – по отдельности – остались ждать своей очереди воевать.
Мотя уже начал дремать, как из нагретого и прокуренного вагона их высадили в глухом лесу – рыть окопы. Дело нехитрое, только темень – глаз выколи, а потом вдруг стало очень светло, громко и страшно, и хорошо было тому, кто успел замереть в готовом окопе; впрочем, никакого значения это не имело. Все произошло так быстро, что колонну из пленных немцы построили еще до рассвета и так, оглушенных и потерянных, погнали сквозь лес, покрикивая и посмеиваясь.
Он оказался позади, и немецкий солдат без злобы, а для порядка подпихивал его в спину. Немецкого Мотя не знал, ну да чтобы понять про концлагерь, много и не надо. Слоно кто‑ то невидимый подтолкнул: согнулся и показывает на живот беспомощно: прихватило, мол. Солдат брезгливо кивнул на кусты и выразительно потряс винтовкой. Мотя нырнул в заросли. Господи, спаси и сохрани! Он бежал сломя голову, не зная, куда; главное – оттуда, и боялся погони или выстрела в спину.
Не то чтобы немец попался исключительной доброты: скорее, просто разумный. Прочесывать лес из‑ за одного за…ца? Себе дороже, да и куда он денется? Цурюкнул в нерешительную спину предпоследнего, и всего делов.
Лес казался бесконечным, и войны слышно не было. Сколько дней прошло? Голодный, обросший, он перепугал – и восхитил своей пилоткой – босого мальчугана, уронившего от неожиданности лукошко с грибами. Когда стемнело, он прибежал снова и, дождавшись, пока Мотя проглотит краюшку хлеба, повел в дом: «Мамка велела». От «мамки» Мотя узнал, что деревня белорусская, мужа угнали на фронт, а в деревне немцы. Женщина спрятала его в подвале, а через неделю, переодетый в деревенскую одежду и накинув старый ватник, делающий его не похожим на себя, но похожим на всех, ибо как хлеб – валюта войны, так ватник – ее униформа, – он шел по лесу, неся котомку с «бульбой» и ломтем крестьянского хлеба. Шел он домой, вернее, в ту сторону, где находился дом. Ночевал когда на хуторе, когда в глухом овраге; если попадал в деревню, находил приют то в сарае, то в погребе, и муж хозяйки был на фронте, а детей или было много, или не было совсем. Всякий раз был похож чем‑ то на предыдущий, словно капризный режиссер требовал все новых и новых дублей для одного‑ единственного кадра, хоть актер выбился из сил, да и массовка устала. Он проходил сожженные, почерневшие города, где никого не было – или не было видно, – и отыскивал для ночлега подвалы в разбитых домах. Он почти привык так спать, и ему даже снилось, что жена с детьми здоровы, да иначе и быть не могло: они ведь вместе с Ирой уезжали. В Мотиной памяти очень хорошо сохранилась их первая эвакуация, Ростов, «Яблочко» под вихляющуюся гармошку, а главное, старшая сестра, успевавшая учиться и подкармливать всю семью. Он верил, что скоро будет дома, но странствие его уже напоминало Одиссеево, да и прятала его то одна, то другая Калипсо в сапогах и таком же, как у него, ватнике, совала в карман скудную еду и крестила, провожая, но Мотя об этом не задумывался, ибо об Одиссее не ведал. В отличие от мифического героя расстояние, которое он одолел, было намного больше, а срок – впятеро меньше, а уж чье странствие было опасней, так это еще вопрос. Соперник Лаэртида вернулся домой почти за год до окончания войны, рассказал все, что знал об отце и братьях, то есть менее чем немного, и остался жить, ожидая возвращения семьи, ежась от предчувствия кары, что всегда страшнее ее самой.
Об Андрюше не было известно ничего. Любая мысль о нем, тоска по нем не встречали никакого отклика, словно не доходили до адресата. Словно не было человека. Оставалось только самое иррациональное – сны старшей сестры, да потом, в самом конце войны, казенная открытка, присланная почему‑ то на имя матери, а не жены: «пропал без вести».
Другое дело – Симочка, младшенький, старухин баловень. Он оказался в списке танкового батальона, был обучен, как обращаться с этим чудовищем, и чудовище Симочке понравилось. Молодых парней, обученных с лихорадочной торопливостью, бросили защищать столицу. Надо отдать ему должное: Симочка нашел с танком общий язык – это, наверное, вполне возможно, если находишься внутри. Но то, что парень находился внутри, его чуть не погубило: после нескольких атак немцы подорвали танк, и он загорелся. Чудом – или старухиными молитвами, что, в сущности, одно и то же, – Симочке удалось не выскочить даже, а – вылететь, как пробка из шампанского, через башенный люк, крышка которого едва не приварилась намертво, но нет, не успела. Молодой танкист не был ранен и не обгорел, что было совсем уж чудом – механик, выбросившийся вслед за ним, вспыхнул как фитиль в своем промасленном комбинезоне, – а Симочка уцелел, но долго лежал в шоке, да и не мудрено. После шока был госпиталь, а после госпиталя – новый танк.
Младшенький отличался от всех мужчин в семье, а на войне отличился более всего. Симочке нравилась война, как нравится она любому мальчишке, – а он и был мальчишкой, хоть и женатым. Отличало его от мальчишки то, что он легко, не мучаясь и не задумываясь, научился убивать, первый – и единственный – в семье. Более того: ему понравилось убивать, и он яростно атаковал фашистов с криками: «За родину! », «За Сталина! », то ли не зная, то ли забыв, что его родина и Сталин – понятия взаимоисключающие.
Под Сталинград он, слава Богу, не попал, зато доблестно воевал на других фронтах, многажды нарушая заповедь «Не убий», что и требуется от солдата на войне, будь она проклята, и хорошо, что эта проклятая, хоть и самая справедливая, война уже идет к концу. Вот под Симочкиным танком падают на пыльную землю, как вафли, ворота польского концлагеря, а из бараков, не веря, что дожили, бегут бледные люди. Расстегнув шлем и выпрыгнув из танка, он ловко хватает и кружит самую первую из выбежавших, которая оказывается и самой красивой, так что отпускать ее нет никакого желания, да и разве он не освободитель, не победитель? То, что Семену нравится, то – его, о чем очень хорошо знает красавица Настя, та, что ждет его с войны и потому требовательно рассматривает в зеркале свое отражение. Так что? Была – Настя, а теперь – Ванда! Разве для того он преступил «Не убий», чтобы запнуться о «Не прелюбодействуй»? …
…Он вернулся в мае сорок пятого, и мамынька с трудом узнала своего любимца в этом жестком заматеревшем дядьке, насквозь пропахшем кожей и соляркой. Даже улыбка стала у него другой, а улыбался он широко и гордо: победитель. Победителя же, как известно, не судят, о чем он и заявил плачущей Насте с громкой и веселой решительностью, хоть и другими словами: не мог Симочка цитировать великую императрицу, – заявил с решительностью прямо‑ таки угрожающей, чтобы не сказать циничной. Ванда же, военный трофей героя, разжалованная им на месте в Вальку, боязливо наблюдала за супругами, в то время как мамынька присматривалась к новой – как ни крути – невестке.
Это на какое‑ то время отвлекло ее от необходимости привыкать к новой власти. Советские войска прогнали немцев, и население разделилось на две группы: одни говорили, что республика освобождена, другие – что она оккупирована. Старуха твердо держалась второго мнения.
Должно быть, рельсы не успевали остыть, перенося эшелоны, везущие эвакуированных, – теперь уже домой. Ждать становилось все трудней.
Вернулась Пава с повзрослевшими сыновьями и дочкой, нетерпеливо толкнула дверь. Дети бросились к отцу, а он только успел подхватить зачем‑ то узел, выпавший из ослабевших от радости рук жены. Ее радость длилась недолго. Мотя рассказал ей свою одиссею, и вот она уже плачет злыми слезами, проклинает его, не стесняясь сконфуженных, все понимающих детей. Бросилась к свекрови, которая – Пава знала – благоволила к ней больше, чем к другим невесткам. Бежала по улице, подвывая, в слезах, и прохожие отводили взгляды: еще одна «похоронку» получила.
Мамынька выслушала дуреху не перебивая, а потом знакомо так бровь подняла:
– Так что? Мужик дома; целый; руки‑ ноги на месте. Спасибо скажи.
Невестка в горестном отчаянии уронила разлохмаченную голову на стол и туда, прямо в скатерть, прорыдала что‑ то, однако старуха поняла.
– Как – «кому»?! Да бабам, что его по погребам прятали, не дали с голоду помереть!
– Так ведь кобель какой!..
– Он твоим детям отец! – строго прикрикнула мамынька. – И что тебе за дело, если он к тебе вернулся? Живите себе, и к месту!
«К месту» в семье всегда было итогом, финалом, вроде опущенного занавеса в театре. После этого можно было плюнуть и уйти – или остаться пить чай. И то правда: пришла невестка к свекрови правды искать. С другой стороны, приди она к родной матери, Царствие ей Небесное, с такой бедой, это была б кислота на рану, да еще с припевом: «я‑ тебя‑ предупреждала», что было бы совсем уж невыносимо, да и неактуально; а чай у мамыньки был отменный, в эвакуации‑ то и запах его забыли.
…Старик появился именно так, как старуха не раз себе представляла: уверенный поворот ключа в замке, вороватый сквознячок, тут же выставленный в коридор хозяйской рукой, и вот он стоит на половике, в ватнике и с палкой, а вместо картуза на голове выгоревшая фуражка. Живой, Господи!..
Так истосковался Максимыч по родному голосу, милому круглому лицу, и так трогательно‑ беззащитно смотрело это плачущее лицо – обезоружила старуху встреча, – что совершил он непростительную ошибку. Сам того не ведая, весь распахнулся навстречу жене и повторил, повторил зачем‑ то оплошность старшего сына. Все рассказал он Матрене, как на духу, ничего не утаил, и был уверен, что поймет. Поймет, как хотел он уцелеть, не убивая, и не потонуть; а потом не застыть на сибирском морозе, не сдохнуть с голоду вдали от дома; как жил, считая дни, чтобы вернуться к ней, а дни так неохотно выстраивались в недели, и пропал бы он, конечно, кабы не Калерия, добрая душа, дай ей Бог здоровья.
Вот этого говорить не следовало. То есть совершенно нельзя было такое мамыньке говорить, и если бы хоть что‑ то подобное стряслось с Максимычем в довоенном прошлом, ему и в голову не пришло бы исповедоваться.
От ярости старуха молодела на глазах, не уставая повторять одно и то же слово, которое здесь, однако, несмотря на священный гнев ее, приведено не будет. Хотя само слово‑ то не виновато, слово древнее, зародилось еще в праязыке и означает «заблуждение», вернее, «заблудший», чего Максимыч не отрицал, а ждал и надеялся только, что жена поймет. Вскинулся он, когда услышал, как старуха говорит о Калерии, и оцепенел от черного дегтя ее слов. Ведь все было не так! Не было в той женщине жадности к его мужской плоти, нет; ей просто очень нужно было немного уверовать в то, что она – женщина, несмотря на хромоту, на вдовство и на бездетность. Но этого старик объяснить не умел, а если б и умел? … Какое там оправдание, какое понимание: еще пуще старуха бранится. Негодование ее было таким громким, что полностью заглушило собственные разумные слова, которые она недавно говорила Паве, икающей от слез, зато так удачно подвернулось самое вегетарианское слово из невесткиного арсенала: кобель!.. В сползающем с плеча ватнике, отбросив палку, Максимыч тяжело рухнул на колени. Как там у классика?
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Да было бы кому велеть: сама и прогнала, хотя что‑ то дрогнуло в душе, когда с досадой оттолкнула покаянную голову.
Самовар был готов. Они сидели за столом, каждый вершок которого старик знал наизусть, сидели, как раньше: друг напротив друга, и было так, словно находились они на разных полюсах – Северном и Южном.
Ирина с детьми приехала только в сорок шестом. Тоня случайно встретила их, выходящих с вокзала; домой, скорей домой.
Много раз мамынька с Тоней репетировали, как Ирке‑ то сказать. Увидев старшую дочь и незнакомо взрослых внуков, старуха в смятении кинулась навстречу, а Тоня замерла, но Ира их опередила:
– Мама, я все знаю. Про Колю.
И стало можно заплакать.
Вот неделя, другая проходит какого‑ то по счету мирного времени. Новая власть оказалась прочной, цепкой, жесткой: государству принадлежало все. На первом этаже, где раньше у старика была мастерская, открылся обувной магазин с латунной рукояткой двери в виде буквы «S». Дверь назойливо взвизгивала, и однажды ночью Максимыч, не выдержав, спустился с масленкой и смазал петли, старательно не глядя в витрину. И к месту.
Между тем Мотя пошел работать на мебельную фабрику. Федор Федорович устроился – без труда и хлопот – в государственный стоматологический институт. Маленькая комнатка, где стояло кресло для пациентов и бормашина, была заперта на ключ, но хозяин подозревал, что ненадолго; время показало, что он оказался прав, а пока Тоня заходила только смахнуть пыль.
Московский форштадт, то есть район, незаметно менялся. Вернее, это как посмотреть – незаметно; там, где Ира жила до войны, открылся кинотеатр с бодрым названием «Ударник», так что она, вернувшись из эвакуации, пришла к старикам и осталась жить у них вместе с дочкой, Тайкой, которая пошла в восьмой класс. Сына, Левочку, определили в шестой и отправили, по настоянию крестных, жить к ним: и места больше (что правда), и условия лучше (с этим тоже не поспоришь). Это соломоново решение Федя принял, когда понял, что денег Ира не возьмет, и, стало быть, никак иначе помочь ей невозможно. Вопреки опасениям старика и старухи относительно прописки (оба не могли взять в толк, на кой такое нужно), у дочки здесь никаких сложностей не возникло, даже наоборот: квартиру почему‑ то оформили на ее имя. Впрочем, Ира не вдумывалась в эти формальности; прописавшись, пошла работать на швейный комбинат, для чего вставать надо было затемно и ехать на другой конец города.
* * *
Странно жили старик со старухой. Они жили под одной крышей, но их отношения изменились; странность же состояла в нарастающей их отстраненности друг от друга. Строго говоря, отстранилась – как отшатнулась – старуха, так и не простив мужу… чего? Измены? Едва ли; скорее, своего истового, терпеливого ожидания. Она отстранилась, и старик остался жить, словно на обочине. Несмотря на горькое и страстное его покаяние, старуха не простила мужа. Вернее – не прощала: реальная его вина – да еще такая! – словно оправдывала ее упреки в продолжение всей их жизни. Не прощала и казнила регулярно.
Старик жил, как подсудимый, переминаясь с ноги на ногу, в то время как судьи (точнее, судья) не могли решить, какой приговор вынести. Совсем как в той коварной фразе «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ», где положение капризной «плавающей» запятой либо дарует жизнь обвиняемому, либо приговаривает к смерти. А на скамье подсудимых не живут – только ждут приговора.
Бурных внешних проявлений, однако, не было; так, по мелочам, всегда непредсказуемо и внезапно. Они молились утром по отдельности и даже перед разными иконами, потом пили чай за одним столом. Встречались снова за обедом, почти не переговариваясь; запятая безнадежно застревала слева. Начинала разговор всегда мамынька, гневно сетуя на пустоту в магазинах и унизительное безденежье. Вздыхала. Подогретая ее вздохами, запятая отклонялась вправо и пыталась привыкнуть к новому положению. Новая власть швырнула каждому из них – видимо, от щедрот – нищенскую пенсию «по старости», уравняв, таким образом, в правах старика, отстоявшего у верстака больше пятидесяти лет, и старуху, властную матрону своего дома. В чем в чем, а в еде они себе отказывать не привыкли; пришлось привыкать. Федор Федорович, прочно стоявший на ногах, помогал старикам чем мог, но он же поддерживал на первых порах и Ирину, да и сколько он один мог?
Регулярная казнь начиналась с попреков, и запятая с готовностью снималась с места, привычно отступая влево. Старуха попрекала мужа грошовой пенсией, разбавленной магазинной сметаной, советской властью, Федиными подачками, «этой сибирской паскудой», оттяпанным куском квартиры и даже Андрюшиной гибелью, нимало не заботясь о причинно‑ следственной связи и личной ответственности Максимыча. Виноват – и кончен бал! Запятая слева. Старик привычно фильтровал поток слов, ожидая, когда мамынь‑ ка доберется до слова «Кемерово», чтобы уйти в коридор курить. Он соблюдал весь ритуал: вытаскивал из кармана гладкий серебряный портсигар с крошечным зубчиком‑ педалькой сбоку, надавливал на зубчик, потом ловко выдергивал дешевую папироску из‑ под резинки; и, нет, пальцы его не дрожали. Откуда, кстати, у него этот портсигар, так никто и не удосужился спросить; теперь, естественно, уже не спросишь, а портсигар был славный.
Время от времени, так же непредсказуемо, дрейфующая запятая отклонялась вправо, старуха вставала не с левой ноги и бывала даже великодушна. Сама предлагала Максимычу еще супу, подкладывая кусочек мяса пожирней, иногда единственный; охотно делилась принесенными с базара слухами или просто подолгу сидела напротив него за самоваром, и ни напряженности, ни ожесточения в воздухе не висело. Простила? Нет; просто отдыхала.
Никаких событий в их жизни не происходило, а о том, что случалось вне этого крохотного мира, они узнавали то от детей, то от внуков, но не всегда понимали, что происходит и почему. Пуще прежнего старуха ярилась от убогости и бестолкового деспотизма нового мироустройства; старик молчал. Так же, как и раньше, они жили по старому календарю, хотя на стенке в кухне висел взъерошенный численник; самую достойную одежду надевали по праздникам в храм, только теперь, опуская в кружку пожертвования, мучительно стыдились ничтожности даяний. После моленной, как и раньше, навещали кладбище, где деревья выросли ввысь и в ширину, а кусты сплелись в плотную изгородь.
На кладбище старуха никогда не чванилась и не костопыжилась, а как‑ то обмякала и молчала подолгу. Думала ли она, глядя на две маленькие могилки, о светлом мальчике Илларионе, чье имя было выбито на крохотной табличке, и казалось, что таким вот звонким переливчатым ручейком оно течет и бьется где‑ то глубоко под землей, или видела мысленно, какой красавицей так и не стала младенец Елизавета, а ведь уже и внучата были бы, что ж – Лизочке сейчас уж двадцать семь было бы. Разравнивали песок, весной поливали ландыши, а осенью сгребали сухие листья, и эта легкая, бесхитростная работа обоим была приятна. Потом прощались: подходя по очереди к каждой могилке и касаясь рукой надгробия, произносили вполголоса: «Прощай, мама», «Прощай, Ларя», «Прощай, Лизочка, спи спокойно», истово желая красавице‑ дочке того, чего так и недополучила она в своей короткой младенческой жизни. Крестились и шли к выходу. Вот это был самый трудный момент: повернуться спиной и уйти, оставив их лежать под дождем, снегом, ветром или даже солнцем, но – оставив. И на пути к воротам кладбища, раскланиваясь со встречными, говорили один другому такие необходимые банальности, что, дескать, им – тем, лежащим – уже хорошо, да и спокой вокруг; и что Андрюше надо поставить надгробие, хотя бы самое простое, да все равно не на что. Здесь разговор неизбежно иссякал, тем более что каменные ворота кладбища были уже позади, а сакраментальное «не на что» ввергало старуху в привычное раздражение, которое тем больше набирало силу, чем дальше удалялись они от кладбища, так что когда старики оказывались дома, то почти ничего от пережитого катарсиса не оставалось, а ведь был он, был, хоть слова такого ни он, ни она не ведали.
Так неделя, другая проходили, и жизнь старика и старухи текла, как хорошо выученный урок: посты да праздники, которые теперь, при их скудном достатке, так походили друг на друга, что немудрено было и ошибиться.
* * *
Событие случилось – или пришло? – словом, тренькнуло воскресным декабрьским утром второго послевоенного года в дверь. Изумленная старуха оказалась лицом к лицу с Надей, нежеланной и нелюбимой своей невесткой, которая держала за руки двух ребятишек‑ погодков.
В квартире, освобожденные от пальтишек и шапок, они предстали здоровыми и крепкими, как желуди, и хоть смотрели буками, охотно взяли по пирогу. Мамынька умилилась: «Ах, молодцы! » и пригласила «эту» к столу. Из комнаты, прихрамывая, вышел Максимыч и тоже поразился раннему визиту, потом восхитился ребятами, так что на шум выбежала Ира, но появлению Нади не удивилась, только лицом как‑ то напряглась.
За чаем Надежда бойко трещала, как раньше, непрерывно что‑ то говоря, но не рассказывая, как жила после эвакуации и почему так внезапно, не написав ни строчки письма, ни хотя бы открытки, возникла спозаранку за столом в доме, где и очутилась когда‑ то не по любви, а по мужской слабости парня, сгинувшего потом на войне. Гладко‑ гладко, быстро‑ быстро говорила: как же можно, чтоб внукам столько лет деда с бабой не видеть, все война проклятая. И ведь правильно говорила, но то ли неожиданность визита, то ли сторожкий, цепкий взгляд ее темных, блестящих глаз напрягали старика, и он с тоской думал о папироске, и только какое‑ то тревожное ожидание не давало уйти. Ира сидела прямо, сцепив на скатерти руки и задумчиво глядя на подросших племянников.
Отставив свою давно пустую чашку и придвинув внукам блюдо с пирогами, мамынька скучным голосом произнесла:
– Ну, хватит сектать, ты дело говори. В город‑ то надолго?
Сбитая будничностью тона и вопросом в лоб, Надя замолкла, но свекровь смотрела ей прямо в глаза, и одна ее бровь уже чуть приподнялась, что всегда означало медленное, но неотвратимое накаливание.
– Да как сказать, надолго или ненадолго…
– Так и скажи, нечего разводить финтифанты, немецкие куранты.
– А и скажу, – без улыбки и почти зло отозвалась невестка, игнорируя мамынькину бровь. – И скажу, что детям моим жить негде, вот и все тут.
– Как же негде, – тем же скучным голосом – если б не бровка – продолжала старуха, – где ты сама живешь, там и дети? …
– Так и мне негде!
– А где ж ты все это время жила и на глаза не показывалась?
Надя чуть скосила глаза на воротник кофты и поправила толстую английскую булавку. Подняла голову:
– У своих жила, в деревне.
Мамынька и не думала возвращать бровь на место:
– Так на кой было ребят в город тащить, в деревне‑ то сытней жить? – И кивнула, как на свидетеля, в сторону невесткиного гостинца, солидного куска сала.
Ох, как кстати была бы Максимычу папироска, но сейчас выйти и подавно было нельзя. Сам не заметив, как это получилось, он сидел, сцепив руки так же, как Ирина, и с восхищением слушал жену. Никогда не сумел бы он так просто и буднично спросить Надьку: «на кой», как это сделала старуха, даже не возмутившись голосом.
И невестка заговорила – уже не бойко, а горько:
– Вы‑ то в деревне не жили, для вас там будто медом намазано, а что в колхозы загоняют, вы знать не знаете: хочешь – иди и не хочешь – иди. Чем хозяйство паршивей, тем громче глотку дерут, а кто настоящий хозяин, как мой папаша, так ходят тихонько, как по сырым яйцам: дома скажешь «А», а «Б» договоришь в Сибири! Конечно, откуда вам знать, – она яростно уставилась в недоверчиво шевельнувшуюся бровь свекрови, – вы небось и про «лесных братьев» не слышали?
Выяснилось, что и отец невестки, и кто‑ то еще из мужской родни были прочно связаны с «братьями», а как же. Теперь, однако, стало лучше об этом забыть, а дочке велел и вовсе держаться подальше, тем более что за погибшего мужа и пенсия полагается семье.
– Карточка‑ то, что про Андрюшку прислали, сохранилась? Старуха бережно вытащила из шкафа шершавую бумажку, которую невестка прочитала и молча перекрестилась.
– Завтра и пойду, в воскресенье‑ то военкомат закрыт. – Она поднялась и стала проворно убирать со стола посуду.
Осоловевшие дети вяло приоткрыли глаза.
– Мамаша, я уложу их в нашей комнате, а то мы полночи в телеге тряслись, вон как намаялись?
Наша комната вызвала у Матрены еще один вздерг брови, но детей отнесли на широкую старухину кровать, которая давно стояла в комнате, где раньше жил Андря.
Внешне Надя совсем не изменилась, словно не было ни войны, ни этих пяти с лишним лет: такая же румяная, гладкая, как налитая.
– Ты дай спокой с посудой, не сепети, – остановила ее мамынька, не переставая при этом придирчиво рассматривать. – Сядь, отдохни. Ты отсюда‑ то куда дальше?
Ай да баба! Максимыч восхитился от добротно слепленного вопроса и напрягся в ожидании ответа, краем глаза увидев, как сцепленные дочкины пальцы дрогнули чуть заметно и сжались еще сильнее.
– А мне отсюда идти некуда. У меня в городе и нет никого. Кроме вас. И места нету никакого.
Это было сказано голосом почти безразличным, стылым каким‑ то голосом. Старуха и тут не выразила никакого удивления, только паузу подержала – то ли ждала продолжения, то ли готовила новый вопрос. Не дождавшись и вернув на место бровь, продолжила сама:
– К нам, говоришь. Не гуляла, не жаловала ни на Рожество, ни на масленицу, а привел Бог в Великий пост. Куда к нам‑ то?
А и вправду – куда? После войны квартиру, ставшую, понятно, тоже государственной, разделили на две, в результате чего старикам остались две комнаты, в одной из которых теперь жили Ира с Тайкой, и большая кухня, куда с лестничной площадки открывалась дверь с латунной табличкой «Г. М. Ивановъ». Разделить‑ то разделили, да кабы с умом, а то такая несуразность вышла, что и смех и грех: уборная теперь находилась в соседней квартире, и это было непривычно и дико, так что в первое время жильцы отсеченной половины, переселенцы то ли из Верхнего, то ли из Вышнего какого‑ то Волочка, долго не могли взять в толк, почему старуха властно отпирает их дверь и прямиком, ничего не объясняя, следует по одному и тому же маршруту… Привыкли, что ж.
Ничего об этом не знавшая невестка опять затараторила:
– Конечно, вы тут вдвоем в пяти комнатах теснитесь, где ж найти место для внуков?! – О себе она не упомянула, а Иру старательно обтекала взглядом, обращаясь только к свекрам.
Объяснили. Вернее, объяснил Максимыч, а старуха, уже на полтона выше, прибавила и колеру, и яду в его краткий рассказ. Поправив воротник косоворотки, он кивнул на дочь:
– Нас‑ то четверо, а Левочка у крестных живет.
В первый раз, пожалуй, Надю видели растерянной. Она опять зачастила своей скороговоркой, забрасывая стариков очень прицельными, но, увы, бесполезными вопросами и жадно – всем существом, всем именем своим – надеясь ухватиться за что‑ то, уцепиться и уже не выпускать.
То уставившись в узел своих сплетенных рук, то медленно переводя взгляд с одного предмета на другой, Ира тоже не встречалась с Надей глазами, и никакого усилия, казалось, ей это не стоило.
Старик маялся. Еще в мирное время, когда семья жила куда как просторно, Надьку не любил никто. Вспомнилось отчаянное, дерзкое упорство сына перед надвигающейся свадьбой, мамынькина молитва ночью и потом, как приговор, ее же неотвратимые слова: «стерпится – слюбится». Стерпелось, куда ж деться, да только не слюбилось. Молодой муж, Андрюша последним складывал инструмент (да как медленно и старательно складывал! ), оставаясь в мастерской даже позже Фридриха, и домой приходил последним. Лицо у него было усталое и спокойное, только прежней мечтательности во взгляде не было, как не было и света в глазах. Жили они вроде и неплохо, а там кто их разберет, за закрытой‑ то дверью. И ведь баба как баба: и ладная, и зграбная, но уж и языкатая! И сам же отмахнулся: не то, не то. Тогда – что? Ведь вот породнились же, вошла в семью…
Поправляя круглую гребенку в стриженых – только‑ только закрывали уши – волосах, Ира перехватила недоуменный взгляд отца из‑ под нависших бровей и едва заметно кивнула ему, словно в ответ на услышанную мысль. По этому беглому взгляду и почти невидимому согласному кивку старик понял, что дочь думает о том же. Надя просто другая и всегда будет другой. Да, они породнились, но от этого она не стала им родной – да и не хотела этого никогда. И не вошла она в семью, как думал он в простоте души, а – вышла: вышла замуж за их сына, вот и все.
А теперь‑ то что, снова затосковал он. Куда ж ей назад в деревню тащиться с ребятами. Что малец, что девка, усмехнулся про себя: как два ежика.
– Да если б и место было, кто ж тебя пропишет, – спокойно и трезво проговорила старуха. Как опытный игрок, она долго придерживала козырную карту. – Мы теперь тут никто, – продолжала она тоном равнодушного смирения, и даже бровь оставалась на месте, – квартира на ее имя. – И она так величаво кивнула в сторону дочери, словно сама вынесла решение о том, на чье имя должна быть квартира.
Стенку буфета пересек по диагонали солнечный луч и остановился, переводя короткое декабрьское дыхание. То ли солнце на знакомом буфете, то ли тепло огромной, светлой кухни с горящей плитой, то ли просто злость от того, что не на ту лошадь поставила – и проиграла, вырвалось из Нади яростными рыданиями. По ярким, как зимние яблоки, щекам катились мелкие, частые слезы. Она пыталась даже не выговорить, а – выбросить какие‑ то слова из перекошенного рта, но захлебывалась отчаянными, воющими рыданиями. Через скрипнувшую дверь неслышно, в полуспущенных чулках, выбежали оба «ежика», испуганные и сонные, и кинулись к ней: «Мамка‑ а?! » Так, держась за полы ее кофты, они и стояли терпеливо, пока Надя умыла под краном лицо, вытерлась тут же висевшим полотенцем и теперь, наконец, посмотрела прямо на Иру:
– Они твоего брата дети! Пусти нас! Я никогда это не забуду, слышишь? …
Ни одного лишнего слова, как будто ее говорливость пропустили через самый частый фильтр. В голосе было отчаяние, досада, настойчивость, но не мольба. Может, и ей тогда, в Михайловке, надо было не умолять, а требовать? Но если у Иры и мелькнула эта дикая мысль, то где‑ то очень глубоко, и до взгляда не пробилась. Так хотелось бы написать, что она была спокойна! Но нет, не было спокойствия ни в голосе, ни в глазах: была беспомощная растерянность – и никакого выбора. Уходя на смерть, Андрюша просил: «Ты ведь знаешь, какая она. Помоги им, сестра! »
«Она пришла долг требовать, а я – тогда – только милостыню просила». Слова выговорились – единственные:
– Живите, Христос с тобой.
А руки пришлось расцепить: Надя обнимать бросилась, и вся мамынькина стратегия оказалась коту под хвост.
Весь этот эпизод был короче того декабрьского солнечного луча, и не стоило бы, наверное, так подробно его описывать, если б не стал он событием в самом буквальном смысле, совпав с бытием старика и старухи.
Еще не веря услышанному, мамынька вскинула отдохнувшую бровь и, не глядя на невестку, гневно повернулась к дочери:
– Ты что это?! Жену отдай дяде, а сам иди к…?
– Мама, мама! Я с Тайкой в кухне устроюсь, а ты с папой в моей комнате. Они ж сироты, мама, им идти некуда!
– Некуда нам, некуда, – тревожно вторила невестка, а Максимыч с улыбкой совал ребятишкам рафинад, но это уже не так важно, как не важны и беспомощные мебельные рокировки, ибо, как хитро ни переставляй кровати и шкаф, пространства от этого не прибавляется.
Так, под штормовые взмахи старухиных бровей и Надин признательный речитатив мамынькину черного дерева кровать водрузили в углу кухни, а диван, на котором спал старик, укоризненно покачиваясь, осел в дочкиной комнате, напротив печки. И к месту.
Средняя, Андрюшина, комната опять стала Андрюшиной, только уже без него.
Вечером напились чаю, помолились Богу и улеглись. Ребятишки, ошалев от суетного дня, да Тайка, вернувшаяся с какого‑ то долгого служебного дежурства и даже не очень удивившаяся: «Теть Надь? », словно виделись на прошлой неделе, уснули сразу, как будто их выключили.
Максимыч не спал, но не шевелился, чтобы не разбудить Иру с Тайкой. Что ж, може, и так: стерпится – слюбится; проживем. Ира лежала молча, боясь потревожить дочкин сон: они спали на одной кровати.
Старуха обладала существенным преимуществом: была одна, а потому ворочалась с боку на бок, вставала напиться воды, несколько раз проверяла, закрыта ли труба в плите, пока, сомлев от усталости, не угомонилась, лежа без сил на спине и дивясь на широкий отсвет окна прямо перед собой. Иллюзия была такой полной, что она даже обернулась, тут же выругав себя: за изголовьем находилось само окно, и уличный фонарь высвечивал неяркий, но четкий экран. От ветра фонарь раскачивается, и его пересекают голые ветки лип. Свет проезжавших машин творит мелкие чудеса, и рамы тянутся за ним вслед, то послушно превращаясь в бегущие рельсы, то вновь становясь на дыбы. По этим‑ то рельсам мамынька и умчалась незаметно и плавно в сон.
Поезд привез ее в Ростов, в родительский дом, а навстречу выходит брат Петра, держа в руках что‑ то маленькое, детское: то ли платьице, то ли крестильную сорочку. Почему Петра, а не Мефодий, дивится старуха; Пётра‑ то умерши? … А брат, радостный, бежит, распахивает дверь, и Матрена оказывается в большой кухне, где на печке видит мать. Та лежит, как тогда, в домике на Калужской: слабая, точно прозрачная вся, и скудные волосы сбились. Тонко‑ тонко мать спрашивает: «Ребенку дали поисть, Матреша? Ребенку исть надо». С криком: «Надо, надо! » выбежала Надька, подталкивая вперед двух насупленных ребятишек. А эта здесь откуда? – изумилась старуха, но Петра, тронув ее за плечо, все совал в руки детскую тряпицу: «Возьми, сестра». На кой она мне, сердилась та (ох, как не хотелось брать! ), но брат не отставал: «Возьми, тебе надо…»
За стенкой неслышно и крепко спали дети, причудами Морфея вклинившиеся в бабкин сон. Наде предстоял трудный день: домоуправление, военкомат… а не спалось.
Лукавила Надежда. Ей было куда пойти: в Старом Городе жила старшая сестра, тоже по настоянию отца уехавшая из деревни. Жила, твердо надеясь выйти замуж, чего и Надьке желала, куда ж без мужчины. Сестра была более смышленой – быстро разобралась во всем, что необходимо для выживания, и научила младшую трем главным формулам: прописка, жилплощадь, не имеют права.
В тот год, когда старик встречал свой восьмой десяток, ноябрь выдался взбалмошным, как старая дева, долго удачно маскировался под спокойно золотеющий октябрь и даже солнечный сентябрь, любой ценой стараясь выглядеть моложе. Он усыплял бдительность прохожих, заставляя их стаскивать шарфы и менять пальто на легкие пыльники, чтобы через неделю‑ другую завыть уже по‑ декабрьски, закрутиться штопором по тротуару и швырнуть кому‑ нибудь в лицо горсть затоптанных листьев, припечатав для надежности липким ледяным дождем.
Тоня с матерью хлопотали изо всех сил, чтобы достойно отметить день ангела старика. Ну, о молочном поросенке в середине поста и речи не было, но многократные обходы базара не остались бесплодными: стол получился не хуже, чем у людей, то есть определенно лучше.
Собралась вся семья, уже начавшая разрастаться. Рядом с пустым Андрюшиным стулом сидел грешный, но прощеный старший брат с годовалым сыном на коленях. Напротив него Валька, в девичестве Ванда, кормила грудью первенца. Она была прекрасна классической красотой Мадонны, и даже когда кто‑ то, потянувшись за миногами, заслонял младенца, словно в фототрюке, сходство не исчезало. Симочка явился с медалями на груди, сияющими, как ризы на иконах. Он очень много и громко говорил; правда, и пил непотребно много, так что густые старухины брови держались на такой же высоте, как и Валькины, выщипанные модными изумленными арками.
Рядом с малышами странно выглядели повзрослевшие за время войны внуки. И то: красавице‑ цыганке Тайке уже двадцать стукнуло! Совсем невеста, думал Максимыч, незаметно любуясь старшей внучкой. И какие все разные, подумать только. Левка, брат родной, так и остался голубоглазым блондином, только что волосы чуть порусели. Вот Федины: малец – вылитый папаша, а дочка – та в Тонечку. Мотины больше в Паву пошли: смуглые все, а глаза узкие, как у матери; среднего в школе Мамаем прозвали. Глядя на Андрюшиных, дивовался: батьки совсем не видать, будто он и ни при чем. Оба плотные, как две репки, щекастые, в каждой руке по пирогу, смотрят буками.
Покойные эти мысли прервал Симочка. Он тянул рюмку через стол, картаво и надсадно крича:
– Фронтовые сто грамм, папаша! За то, что мы кровь проливали, а не отсиживались по тылам, как крысы! Выпьем!
Что Симочка всегда был пустомелей, знали все и как младшему и мамашиному баловню прощали многое; вернее, не обращали внимания. Однако ж тост баловень провозгласил ядовитый и отцу смотрел прямо в глаза.
Не сто, конечно, но свой маленький келишек старик наполнил. Взгляд сына встретил без улыбки и ответил негромко:
– Ты чужую кровь проливал, что ж ты фордыбачишь? А кто свою пролил, тот не вернулся.
Чокаться ни с кем не стал, а просто кивнул, как бы всем сразу, и выпил. Лица застыли на мгновение, словно показав, какой могла бы получиться фотография. Мотя втянул голову в плечи и смотрит на руку брата, сжимающую стакан, не рюмку; Пава разглаживает невесть откуда взявшуюся складку на скатерти; на лице Феденьки недоумение, в руке рюмка кагору (водка не полезна для сердца), а Тоня возмущенно что‑ то шепчет ему краем губ; Ира стиснула в руке платок и так замерла; дети смотрят во все глаза на звякающие дядькины медали; Надя, все еще жуя, с любопытством ерзает блестящими глазами, чтоб ничего не упустить, мамынька… Мамынька так яростно выпрямилась на стуле, что вся композиция распалась, и фотографии, если бы кто и вознамерился ее снять, не получилось.
– Совсем окозеливши?! – яростно и отчетливо выкрикнула она. Бровям ее просто некуда было больше подыматься, но паузу держать мамынька умела. Потом, среди ошеломленной тишины, добавила так же властно, но уже на октаву ниже: – Язык, что помело. Хватит выкамаривать.
Повернула гневное лицо, кивнула Моте: Симочке, мол, больше не наливать, что и было понято однозначно.
Фронтовик все стоял. Потом хрястнул пустым стаканом по столу. Освободившейся рукой рванул у ворота рубашку. Пуговица катапультировала и завязла непрошеной инкрустацией в рыбном заливном. Громко закричал, выгибаясь, младенец на руках у Ванды‑ Вальки, и еще громче, давясь пьяными слезами, опять кричал Симочка о пролитой крови, да я в танке горел и вовсе уж непотребное. Миротворца Феденьку двинул локтем и назвал тыловой крысой, чего тот вовсе не понял, поэтому не обиделся.
– Упился, упился в шток, – безнадежно качала головой молодая мать, тыча тяжелую, как резиновая грелка, сиреневую грудь в растянутый криком рот ребенка.
Непринужденность, с которой она кормила на виду у всех, сковала гостей и хозяев такой неловкостью, что они старались не смотреть друг на друга. В этом доме видели много младенцев, но ни одной женщине не пришло бы в голову вот так, на виду у всех, обнажать грудь, хотя бы и кормящую. Симочка был, конечно, изрядно пьян, но все же не «в шток». От его внимания не ушло внезапное короткое молчание и недоуменные переглядывания. Он обернулся – и на мадонну обрушилась затрещина, которая сделала бы честь как танковому батальону, так и пехоте.
Это уже был перебор. Никто из Ивановых никогда не поднимал руку на жен. «Вон» – был приговор мамыньки, и приговор этот, судя по рисунку бровей – одна длинная, как тире, линия – абсолютно не подлежал никакому обжалованию, так что любимец, поддерживаемый Мотей, был препровожден в ноябрьскую тьму. Волна холода и чужие запахи с лестницы, звук захлопнутой двери и пустой стул.
– Дай сюда мальца и иди помой лицо. Что ж ты вымя за столом вывалила, не могла в комнату пойти?! Тоня, подай ей полотенце чистое. Ох, Хо‑ о‑ ссподи, никак голову разбивши?!
Симочкина истерика, водка стаканом, недотепа эта – и сама поплатилась, и ребенка перепугала; мамынькин любимец, ею же изгнанный из дома, – словом, шел настоящий скандал, когда всем не до именинника. Он сам неторопливо наполнил свою рюмку, выпил и задумался, глядя прямо перед собой, в приоткрытый зев капустного пирога, которого не видел вовсе, а видел загнанно‑ виноватое лицо старшего сына и пустой Андрюшин стул рядом. Пустой? – Нет, он не был пуст: так явственно только что показалось лицо Андри, тоже задумчивое. «Не мог я убивать, папаша, – тихо, словно не хотел, чтобы его слышали, говорил сын. – Ведь крест на мне». И я не мог, тоже тихо ответил отец. И брат не смог.
Второй – смог. Тот самый младший, который в соответствии со всеми классическими канонами сказок ловко обштопывал своих неоригинальных старших братьев. Но странное дело: Максимыч не стыдился старшего сына и не гордился младшим. Скандал кипел в полную силу, а старик продолжал тихонько разговор с Андрей, который то появлялся, то снова пропадал, притворялся пустым стулом. И отец торопился рассказать ему, что, слава Богу, его ранило, а то ведь и в окопы могли погнать. А как бы я стрелял‑ то? Ведь Фридриху тоже, небось, винтовку в руки дали. Да, може, и Фридрих‑ то далеко был, так другой кто: ладно, если старик, мы‑ то свое отжили, а то молодых сколько! Сними с него гимнастерку эту– такой же малец, как тот раненый, что со мной в санитарном поезде ехал, не отличишь, и тоже крещеный, и матка с батькой за него дома Богу молятся. Вот и Мотяшка не смог.
Очень хорошо все понимал Андрюша, не улыбался уже, как сначала, а только иногда кивал тихонько. Между бровями, старик заметил, у сына появилась маленькая строгая вертикальная складочка, и от этого молодое лицо его казалось мудрым и скорбным. У кого‑ то на лице Максимыч уже видел точно такую складку, и досадовал, что не может сейчас вспомнить. Знаешь, Колю убили тоже. На последнем слове он запнулся, но сын, не разжимая губ, снова тихонько кивнул: «Знаю». Все еще держа пальцами за ножку рюмку, словно маленький бутон тюльпана, старик предложил: выпьем, Андря? Строго и медленно сын покачал головой: «Нам нельзя». Нуда… Тогда я сам выпью, и потянулся к графину. Очень хотелось расспросить Андрюшу, как там, но не осмеливался и уже знал, что не спросит. Да и зачем, подсказала трезвая мысль, сам узнаешь скоро. Сынок, не выдержал он, ты… ты долго мучился? «Сестра знает», – ответил Андря. Не меняя выражения лица, он прикрыл глаза и слегка распрямился, как очень усталый человек. Максимыч жадно вглядывался в сына, не боясь теперь, когда тот опустил веки, оскорбить пристальностью взгляда, и только сейчас заметил, что гимнастерка его покрыта ровным рисунком из перекрещивающихся под прямым углом линий, образуя маленькие одинаковые клеточки, а в центре каждой клеточки – ровное круглое отверстие. Всю грудь прострочили, понял старик и невольно взглянул на Иру, все так же сжимавшую в пальцах платок: «сестра знает». Когда перевел взгляд обратно, сына уже не было, а напротив Максимыча стоял пустой стул, и сквозь его соломенную прямоугольную спинку просвечивала стена, на которую падала волнистая тень от абажура. Вспомнил неожиданно и не вовремя, пристально и тоскливо уставясь в спинку стула, как ездил заказывать эту соломку «в мирное время», до той, первой войны… Это ж сколько Андре тогда было? Если Моте лет пять, то ему четыре.
…Сначала ему понравилась было выпуклая, простого, крест‑ накрест, плетения; были и позатейливей, с двойной основой, которые отверг сразу: смотреть, так без рюмки в глазах двоится; точно так же отверг и двухцветные, с переплетающимися светлыми и темными волокнами: броско, быстро надоест. Та, которая сразу приглянулась, оказалась самой дорогой, но чем больше молодой старик ходил и придирчиво рассматривал другие образцы, тем больше хотелось ему вернуться и ударить с хозяином по рукам. Упругая, легкая и прочная, соломка эта была очень строгого и завораживающе простого рисунка: вертикальные и горизонтальные волокна образовывали прозрачную сетку‑ основу, а диагональные переплетения ложились так, что вырисовывали в каждой клеточке сетки маленький изящный шестиугольник, казавшийся кружком, если прищуриться. Ажурное это плетение было оправлено в прямоугольные ясеневые рамки с двумя точеными колонками по бокам и увенчано полуарками, превратившись в спинки стульев, на которых почти сорок лет уже сидела вся семья так, как сидела мать: прямо, не откидываясь и не касаясь спинки, но не испытывая ни малейшей неловкости позы.
Так много не успел спросить, ругал себя старик. Как это он сказал? «Сестра знает». Дети так и обращались друг к другу: «брат», «сестра». Вон Сенька все еще колготится на лестнице, а Тоня пытается его урезонить: «Брат, брат…» Хорошо, что Андрюша не спрашивал ни о чем. На самом деле старик боялся только одного вопроса: о верстаке; долго и трудно было бы рассказывать, да и на кой? … Там – не нужно, как не нужны ни рюмка, ни папироса. Еще раз взглянув на пустующий стул, Максимыч поднялся, набросил пиджак, в кармане которого лежал портсигар, и вышел в коридор, где уже было тихо, пусто и промозгло.
Появлению сгинувшего на войне сына старик не удивился – было некогда: он старался не растерять, не расплескать все мелочи этой диковинной встречи. Слова, которые говорил Андря, выцветшая гимнастерка, эта новая строгая и печальная морщинка между бровями… Вспомнил! Там, у подножия памятника Свободы, мраморный воин, что на меч опирается! И лицо похожее, и морщинка точь‑ в‑ точь. Завтра – первым долгом сходить, а то что ж я, как глумой какой, и вспомнить не мог. Папироса оказалась – или показалась? – тяжелой и невкусной. Должно быть, табак отсырел. Стало очень зябко, и старик заторопился внутрь.
На столе уже гудел, разгоняясь, самовар, уютно позвякивали блюдца. Мамынька внимательно резала пирог с яблоками. Старик тихонько прошел к своему стулу. Есть ничего не хотелось, а вот чай был кстати. Он грел руки о стакан, прихлебывал курящийся ароматным паром чай, но озноб не проходил, как не проходила и ровная, тянущая боль в животе. Хотелось лечь, подогнув коленки, чтобы утишить ее, и не шевелиться. Болело не в первый раз; что ж – не мальчик. Иногда ныло подолгу, отравляя весь день неприязнью к еде и к куреву и странным вкусом, точно держал во рту оловянную ложку. Сегодня болело с самого утра и сильнее; отпускало – словно замораживало – только после водки. Но сейчас и водки не хотелось, Бог с ней совсем; только спать.
Назавтра он к памятнику не выбрался, а сделал то, о чем мечтал целый день накануне: остался лежать на своем диване, подтянув колени к ноющему животу, но не спал, а только задремывал время от времени и плавал в ненадежном, поверхностном забытьи, пытаясь одурачить боль. «С осени закормленный», – недовольно бухтела старуха, убирая нетронутую еду. Придя из лавки и развязывая холодный платок, пахнущий ноябрьским ветром, она увидела, что муж все еще спит, свесивши голову на откинутый валик дивана. Мамынька тихонько подошла поправить подушку. Лысина спящего блестела, точно смазанная маслом, и только по совершенно мокрым, сбившимся волосам на висках старуха поняла и перепугалась: захворал.
Вечером Федор Федорович – всегдашняя старухина «скорая помощь» – привел доктора. Пока тот, переговариваясь о чем‑ то докторском с Феденькой, мыл руки, намыливая их, споласкивая и снова намыливая, будто забыв, что делал это только что, старуха торопливо листала жесткую стопку полотенец, выбирая поновее. Максимыч лежал на высокой подушке. От этого было непривычно, как и от переполоха; вот уже доктор в дверях и направляется прямо к нему – но, видно, так уж полагалось, чтобы все было сегодня неловко и неудобно, не как всегда, и сама досада на это «неудобно», как ни удивительно, отвлекала от боли. Вот как сейчас, когда он уже не думал о боли, а только ждал прикосновения чужих холодных пальцев к своему телу.
Пальцы оказались теплыми. Руки доктора так осторожно и умело трогали и мяли живот, бережно, но настойчиво проникали под ребра, что, казалось, вот‑ вот отыщут, где таится боль, и просто вынут ее вон. Все, к чему доктор прикасался, он тут же и называл очень ласково: животик, язычок, а теперь вот на бочок повернемся, отчего Максимычу стало почти весело и он неожиданно произнес: «Захворал, одним словом сказать», но, к счастью, никто ничего не понял, тем более что доктор как раз достраивал пирамидку из игрушечных слов, где три последние были: желудочек, язвочка, больничка.
Еврейская больница находилась в получасе ходьбы. Строго говоря, еврейской она была до войны, сейчас об этом почти забыли, но зять Феденька помнил хорошо, знал, что это надежно, а потому настоял, чтоб именно туда.
Старичок к старухе воротился дней через десять. Выглядел он и в самом деле старее. Из больницы принес грязную нательную рубаху, завернутую в газету на местном языке, бутылку в белом чепчике с оборками и длинной фатой, исчирканной неряшливой врачебной надписью, и слово «язва». Называть притаившуюся в брюхе гадину язвочкой, как ласковый доктор с теплыми руками, он не хотел.
Зять внедрил еще одно слово: «диета» и решительно отвел тестево «на кой». Старик упрямо не хотел понять, зачем гадину подкармливать, да еще чем‑ то особым. Затея, впрочем, быстро увяла: ублажать язву следовало сметаной да сливками, нежным куриным бульоном и прочими яствами, давно не доступными ни здоровой старухе, ни больному старику; дай Бог, чтоб от этих деликатесов детям хоть изредка перепадало. Однако за эмалированной миской, в которой старуха толкла овес или разминала творог, закрепилось с той зимы название «диета» – да так и осталось, как белые крапинки на зеленой эмали, похожие на прилипший, плохо отмытый рис.
Никому не рассказывал Максимыч о больнице, да и кому можно было о таком рассказать? Каждую ночь, измученный дневными процедурами, он привычно подтягивал колени к животу и закрывал глаза, чтобы через несколько минут оказаться в Сибири – в первый раз после войны, но зато почти каждую ночь.
То ему снилось, что раненое бедро никак не заживает, а боль уже доползла до живота. То как будто привезли доски да прямо ему на койку и свалили, чтоб он гробы сколачивал. А то ждет он, что сейчас кастелянша появится. Она и появляется, стоит в двери, где свет, а в палате хоть глаз выколи. «Ты что не приходишь, одним словом сказать, я жду тебя». Он кричит ей в яркий проем: как же я приду, я теперь дома живу?! «Нет, – качает головой, – ты в больнице. Ты приходи, никто и знать не будет, одним словом сказать». А ведь правда, как раз успею обернуться, и к месту. Быстро‑ быстро идет он между высоченными сугробами прямо к дому Калерии, а она ждет на пороге. Дивится Максимыч: пальто на ней почему‑ то Тонино, довоенное; вместо валенок – фасонные ботинки на пуговках, а голова так закутана белым платком, что лица совсем не видно. Он чувствует, как рада ему Калерия: принарядилась, кивает издалека и кланяется легонько; заждалась. По такому снегу легко ли без палки? Запыхавшись, приблизился и тронул за плечо: на кой ты лицо‑ то закрыла? Она все молчит, кивает; и вдруг видно, что женщина не стоит, а – висит. Старик отшатывается с криком и падает прямо в бездонный сугроб. Сам он своего крика не слышит, зато видит, как из больничного коридора (когда ж он вернуться успел? ) ложится на пол трапеция синего света, и люди в белом тихонько увозят соседа, а его лицо высоко затянуто простыней.
Нужно сказать, что к снам в семье относились очень серьезно, чтоб не сказать благоговейно. Сны подробно обсуждались и подвергались тщательному анализу. Их держали в памяти со всеми мельчайшими подробностями и хранили строго, как документы в архиве. События любого масштаба объяснялись в соответствии с видениями и никогда – наоборот. Хворь, обрушившаяся на мужа, старуху не удивила: позапрошлой весной ей снилось, будто старик в баню пошел, а там веселье да танцы!.. Вот и доплясались. А что сну тому полтора года, так ведь и язва не насморк. Доброжелательный голос из репродуктора в расчет не принимался: сегодня одно, завтра другое; шнур из стенки вытяни – и ничего не услышишь, хоть разбейся. А во сне – или, как уважительно говорила старуха, «во снях» – все правда, все как есть; придет время… Ждал своей очереди и неразгаданный мамынькин сон, где умерший брат так настойчиво совал ей в руки детскую рубашонку. Непонятное это, тревожное видение тоже заняло свою ячейку в бдительной памяти старухи.
Максимыч же остался наедине со своими больничными кошмарами. Он мог бы, наверное, поделиться со старшей дочерью, которая не закипала ни гневом, ни стыдом от слова «Кемерово», но не стал: это был его груз, напоминание о грехе, а такое не перекладывают не только что на родного – на чужого.
Ворочаясь ночами на своем диване и перебирая одно за другим больничные видения, решил, что Калерии нет в живых. Видел ее мысленно, но уже только такую – нарядную и висящую, винился, просил: отзовись! – но не было ответа, не было. И молиться стал – за упокой.
Зима тянулась бесснежная, сиротская какая‑ то, но озлобленная. Ветер задувал не просто сильный – лютый, неся по тротуарам песок, смешанный с грязным и скудным крупитчатым снегом. Только к середине масленицы земля побелела и за несколько ночей появились даже настоящие сугробы. Не зря, не зря старик ладил санки для внуков – вот и пригодились. Хотя Андрюшины ребята так и оставались дичками, но санкам обрадовались и дотемна торчали во дворе на горке.
Вот неделя, другая проходит, приближая Пасху, которую все ждут с особенным нетерпением: в этом году она совпадает с Первомаем. Значит, легче будет раздобыть «всего чего», надеется старуха, и это даже временно примиряет ее с советской властью, холера ее побери, добавляет она вполголоса. Извлекает на свет чуть потемневшую базарную корзинку и с обиженным, строгим лицом пересчитывает деньги.
Встретились все, как обычно, в моленной; отстояв праздничную службу, похристосовались и торжественные, нарядные, пошли на кладбище, где и разговелись, а оттуда – домой, к старикам.
За праздничным столом не было только Ириных детей. Левочка, поступивший в летное училище, жил в другом городе, а Тайка ушла на дежурство. Хоть и старалась мамынь‑ ка не гневаться, а не удержалась: сердито выговорила Ире, это где ж может быть дежурство в праздничный день, хоть и знала, что служит внучка в райотделе милиции, куда не пойдешь уточнять график работы. То‑ то и плохо, что в милиции, разгонялась, несмотря на Светлое Христово Воскресенье, старуха, разве больше нигде работы не найти? … Тоня, тоже никогда в жизни не работавшая, переключила внимание матери на куличи: как лучше резать, а Феденька, наклонившись к Ирине, в который раз заговорил, что надо, надо девочке школу окончить, а то ведь, с неполными девятью классами, так и просидит за пишущей машинкой. Ира кивала благодарно и беспомощно: учиться дочка отказывалась, и никакие уговоры воздействия не имели.
Говоря о куличах: это слово в семье почти не употребляли. То есть куличи пекли, святили, ставили на стол, а слова такого не было. Вернее, было другое: по ростовской традиции кулич называли пасхой, или ласково – пасочкой. Так вот, у мамыньки взошли отменные пасхи и пасочки, и жалко было посягать ножом на такую красоту. Каждая была похожа на крепость, а в толстые, сдобные стены вросли изюмины, словно пушечные ядра. Аппетитные глянцевые зубцы крепостной стены окружали румяные, блестящие буквы «ХВ» на вершине, и эту «крепостную стену» дети съедали в первую очередь: хоть и разговелись на кладбище, невозможно было устоять перед бабушкиной пасхой, да и зачем? Блестящими биллиардными горками высились яркие, разноцветные яйца; дети азартно спорили, чье яичко разобьется первым, и праздничная старухина скатерть уже была усеяна разноцветной мозаикой скорлупы.
Старуха снисходительно посматривала на мужа, непривычно нарядного. Сегодня он был не в излюбленной своей косоворотке, а в старой, с Бог знает какого мирного времени хранимой рубашке с отложным воротничком, возраста столь почтенного, что на ощупь он был как замшевый и шею не тяготил. Сыскался и галстук, ровесник воротничка, и старая, но совсем как новая жилетка, почти всю свою жилеточную жизнь проходившая – вернее, провисевшая – в шкафу, под титулом «выходная».
Сама же мамынька была одета в свое любимое платье светло‑ бежевого шелка. Платье это помнило лучшие времена: свою хозяйку в ее пятьдесят, воротничок Максимыча в пору ослепительной белизны и упругости, юный его галстук, в то время неразлучный с булавкой… Где она, та булавка, неведомо, а в вырезе платья тускло поблескивает крохотное золотое яичко на цепочке, с миниатюрными буквами «ХВ» и темно‑ синим сапфировым глазком, давний подарок старика. Он, конечно, платья нипочем не помнил, но яичко заметил и узнал, да и то случайно: вспомнил, что ему сапфир понравился, и немец‑ приказчик уложил безделку в атласный зев синего бархатного футляра. Это ж еще до Первой войны было, Мать Честная!..
Безотчетно и легко старик встал, подошел к жене и обнял за плечи: «Христос Воскресе! » Старуха отшатнулась было в изумлении, но стол вдруг затих, и она позволила себя поцеловать, ответив прямо в табачные усы: «Воистину Воскрес! » – но без особой уверенности. Старик протянул руку и взял ломтик пасхи: очень не хотелось уходить. Ему достался просвечивающий закатным шафраном завиток от «В». Так, стоя, под взглядами детей и внуков, он прожевал кусок и пошел на свое место, а мамынька, с горящим румянцем, сидела особенно прямо и смотрела перед собой – должно быть, на иконы.
А посуда, ни о чем не подозревая, как‑ то особо, по‑ праздничному звенела, на дворе стояла теплынь, и младших отправили гулять, сунув в карманы по глянцевому яичку.
Вокруг детей и завязался – или, скорее, продолжился – начатый Феденькой разговор о пользе учения.
К учебе детей и вообще к образованию в семье относились по‑ разному. Мамынька была твердо уверена, что главное – обучить ребят ремеслу, и не без ехидства вспоминала, как старшая дочь была готова остаться в голодном Ростове, чтобы учиться петь, бздуры какие! Може, и бздуры, соглашался мысленно старик, и тут же всплывало воспоминание, как сам спешил в растерянности с поганой казенной бумажонкой к зятю, чтоб разъяснил. И не Федина ли ученость бабу в войну спасла?!
Мотя с женой слушали внимательно: четверых растили, старший в институте учился. Ремесла, понятно, не знал и не знал даже, с какой стороны подходить к верстаку. Последнее обстоятельство более огорчало деда с бабкой, чем родителей: Мотя‑ то ежедневно подходил к чужому, то есть государственному, верстаку и с облегчением отходил от него в конце рабочего дня. И сам верстак, и все инструменты были общими, а значит, тоже чужими, и не узнавали руку, встречаясь; всякий раз нужно было привыкать заново то к рубанку, то к стамеске. Выдавал работу мастер, но Мотя никогда не знал, что станет делать: каждый подолгу был занят одной и той же деталью, потом – тоже подолгу – другой, и ему казалось иногда, что стол выйдет похожим на сороконожку. Впрочем, готового стола он так ни разу на комбинате и не видел. Мишка же смышленый, за ученье платить не надо; так что ему в этом ремесле? …
Надя прислушивалась скептически. Сын, хоть и только первоклассник, в школу ходил неохотно, однако она уже сейчас была уверена, что семилетка – это «за много». И чего к Тайке прицепились – девятый же класс бросила, не второй?
Мало‑ помалу мамынькина бровь перестала парить над застывшим лицом, и она незаметно включилась в разговор.
– На что девке ученье, унеси ты мое горе? – требовательно вопрошала она Иру, – вот ты скажи, на что? Читать‑ писать умеет, работу чистую работает, так что еще надо?
В это время младший сын воспользовался ослабшей старухиной бдительностью и успел‑ таки напузырить себе водки в стакан, успел. Справедливо опасаясь мамынькиного гнева, он сразу и хлобыстнул этот полный стакан, под боязливым Валькиным и брезгливо‑ жалостным Фединым взглядами. Теперь он сидел, чуть наклонив голову, и чутко прислушивался к движению водки внутри себя, как будущая мать ловит каждое шевеление плода.
Плод созрел быстро.
– Вы тут, – медленно заговорил Симочка, – мамаша правильно говорит, а я, – продолжал он, с ненавистью почему‑ то глядя на Федю, – я…
Но не закончил, а схватив графин, быстро налил себе новый стакан и понес ко рту, расплескивая.
– Брат?! – высоким, предупреждающим голосом начала Тоня, и можно было еще остановиться, да поздно, после двух‑ то стаканов, а сколько «мелких пташечек» было уже пропущено?!
Всхлипы и рыдания, растерзанный воротник праздничной рубашки, знакомые крики про горение в танке, пролитую кровь и что‑ то несуразное дальше, из чего следовало однозначно, что шурин горел в танке и проливал кровь во имя того, чтобы его, Федина, дочка играла на пианино.
Вся эта дешевая опереточная атрибутика ничего у Федора Федоровича не вызвала, кроме гадливости; будучи медиком, он без труда ее в себе подавил. Но дети, дети же все слышат! Аргументов не запомнят, а что дядя человеческий облик потерял – запомнят. Знал Феденька и то, что завтра же Симочка придет к ним и будет просить опохмелиться. Ну так ведь это уже клиника.
Не мигая и не отводя взгляда, старик наблюдал – уже во второй раз – мужскую истерику. Это ж надо так оскотиниться, Мать Честная! Кабы не Светлое Христово Воскресенье, так бы и двинул в рыло, даром что родной сын; не сильно, а чтоб замолчал; несказанно удивился бы Максимыч, если б узнал, что именно так истерики и лечат. Что ж он так на Федю‑ то вызверился, за ученье, что ли? И сам уверенно себе ответил, даже кивнул: за ученье.
Младший был единственным из пятерых, не обученным никакому ремеслу. Старших парней и он сам, и Фридрих научили столярничать, Ира пошла шить, Тоня выучилась вышивке и художественной штопке – и не зря: после войны от заказов не было отбою, и уж, понятно, не на вышивание. Правда, Феденькина узкая спина оказалась надежней гранита, так что нужда не подгоняла, но все ж Тонька умела заработать копейку, которую и совала матери, и у обеих лица при этом были почему‑ то сердитые. А этот… Потому и оскотинился, горько думал отец, что никакого дела не знал, только языком молоть. Что ученье, что уменье; одним то, другим это. Как он жить‑ то будет, Царица Небесная?!
А Симочка жил как‑ то. Нигде не работал, но на водку хватало. Насупленный, решительно выпятив челюсть, атаковал, словно все еще сидя в танке, военкомат и добыл трофей поценнее, чем шляхетская красотка: ордер на квартиру. Отдельную. Танк, однако, не остановил, а с захватывающей быстротой и дерзостью прошел какие‑ то комиссии, получив немалые льготы, причитающиеся ветеранам, – те самые льготы, которые искалеченные фронтовики пытались выбить собственными костылями у самой гуманной власти, за которую они проливали свою кровь…
Следующий день, Светлый Понедельник, с утра был, словно небо тучами, затянут старухиной пасмурностью. Даже после утренней молитвы лицо ее не посветлело и смотреть на мужа она избегала. Старик это заметил, тоже молился сердито и невнимательно, а садясь за стол, пытался поймать взгляд жены; какое там. Если она не швырнула ему чашку с кипятком, то исключительно по той причине, что чашек этих осталось немного, но жест был именно такой: швыряющий. Максимыч еще с наслаждением жевал кулич, как вдруг хлопнула дверь – старуха ушла в моленную, не дождавшись его. Такого в их совместной жизни еще не было; правда, и жизнь их уже с трудом можно было назвать совместной. Душистая сдоба обволакивала небо, и он ошеломленно прихлебывал стынущий чай, заваренный по‑ праздничному крепко и оттого, должно быть, горчивший.
Службу отстояли рядом, как всегда, но слов батюшки ни он, ни она не слышали, думая об одном и том же: не дотронуться, не дай Бог; не задеть даже нечаянно. Во время глубокого поклона бахрома шелкового старухиного платка мазнула его по щеке, как ожгла. Ос‑ с‑ споди, Царица Небесная, как теперь жить‑ то?! Проходя к выходу мимо «Трех святителей», ревниво приостановился у лесенки, подергал: крепко.
Так прошла вся Светлая Неделя, а за ней – как у поэта – другая, столь же хмурая, ибо не была уже светлой, так чего и ждать? Язва тоже давала о себе знать, и обмануть ее можно было либо водкой, либо содой, так что по ночам старик, не зажигая света, ощупью пробирался на кухню, подставлял под кран холодного самовара стакан, а потом размешивал соду– медленно, чтоб не звякнуть ложкой и не разбудить жену.
Как будто она спала. Как будто так легко было уснуть! Лежа прислушивалась к осторожным, неровным шагам старика, а потом следила за его манипуляциями. Жалость, захлестывавшую сердце, старалась подавить негодованием: ишь, кобель. По Сибири шлендал, так не хромал небось. А как язву нажил, так домой вернулся, извольте радоваться! Негодование помогало, и мамынька уже катила дальше свой безмолвный монолог: что ж она тебе язву не вылечила, спрашивается? Не иначе как крашеная, привычно думала, наблюдая за осторожной возней старика; крашеная, стерва.
Как выглядит «эта паскуда», старуха, естественно, не знала и знать не могла, но была непоколебимо уверена, что крашеная, ибо страшнее греха для женщины не знала; более того, полагала, что именно в этом корень всех грехов. Цельный портрет как‑ то не складывался. Напрягаясь, пыталась представить себе, как «стерва» выглядит, но разгневанное воображение рисовало всегда одно и то же: ярко‑ желтый перманент, густо намазанные губы и платье такое бесстыжее, будто обтекает всю, а бока так и выпирают, так и выпирают. Да как он смел?!
Старик уже начинал дремать, устав прислушиваться к единоборству язвы и соды, а мамыньку на кухне продолжал мучить уродливый фантом. И не только это: ведь посмотреть, так все живут неправильно! Кроме Тони. Вот Ирку знакомили с солидными мужиками – нет, и кончен бал! Это в сорок семь‑ то?! А ведь ни кола ни двора, исть нечего, все Тайке пихает да Левочке посылки шлет. Надька тоже: воротит морду, что комната теперь проходная. Тебя не спросили, когда квартиру кромсали; так ведь никого не спросили, чего уж. Сама сюда хотела, без мыла лезла, а что теперь про Иру да Тайку клевещет, так у ней всегда был язык без костей. Правда, на работе пуп рвет, так двоих малых поднять надо без мужа.
Сразу мысли перескочили на среднего сына. Как он убивался перед свадьбой, как против родительской воли бунтовал! Старуха перекрестилась: не раз уже где‑ то шевелилось у нее чувство, которому она даже и названия дать не решалась. А больше всего болело то место в душе, где был Симочка. Что ж он выкамаривает, Господи Исусе? И с бабами, и с водкой. Ладно, с Настей развелся; так женись на этой, на кой сирот плодить?! Не женится. Из далеких прожитых лет пришло на память слово «иноземка»: тоже ведь свекор‑ батюшка из Польши вывез, однако все полюдски – и крестил, и женился, и вон сколько детей родили!.. Все, все неправильно живут. Тут цикл мыслей замыкался, и можно было уснуть.
Хоть бы во сне отдохнуть, так нет: надо складывать белье, чтоб снести на каток, целые вороха свежевыстиранного белья. Оно холодное, прямо с улицы, и топорщится в руках, но надо спешить, не то пересохнет. Вот Матрена с тяжелой корзиной на какой‑ то незнакомой улице; катка не видно. Спрашивает у встречных – в ответ только смеются. Наконец, ступеньки знакомые: здесь. Спустилась – верно, каток; народу никого, только одна баба стоит в углу спиной к ней, лица не видать, и сама не шевелится. Скоро управлюсь, радуется старуха; натягивает холст и начинает бережно вынимать и укладывать белье. А как сюда грязное попало? Матрена с отвращением отбрасывает замаранную рубашку. И вот еще! И вот!.. Она со страхом вынимает из корзины следующую, которая тоже оказывается поганой тряпкой, и тут же, словно ожегшись, отшвыривает с негодованием. Тут баба в углу поворачивается к ней лицом, и Матрена видит, что это никакая не баба, а покойный брат Петра. Брат держит что‑ то за спиной и приближается, улыбаясь, а Матрена отклоняется назад: она знает, что у брата в руках, и не хочет, не хочет, не надо ей это! Громко‑ громко стучит сердце, руки не слушаются: что же это, Гос‑ с‑ споди, ведь все чистое, все стиранное несла, сама складывала!.. Так, с колотящимся у горла сердцем и онемевшими руками, мамынька просыпается и с надеждой творит молитву.
Дома стало напряженно, и Максимыч пристрастился к рыбалке. Улов принимался старухой снисходительно, а если бывал обильным, то и благосклонно. Нет, напряженность не уходила, но уходил старик, становясь на какое‑ то время недосягаемым для нее. У него появилось излюбленное место на речке, в стороне от других рыбаков, и когда оно оказывалось занятым, он терпеливо шел, прихрамывая, вдоль берега, пока раздражение не исчезало; наконец присаживался, опять‑ таки на отшибе от остальных, и с привычным: «Ну, Царица Небесная!.. » забрасывал удочку. Чтобы не озябнуть, как он себя уговаривал, в карман заранее укладывал «маленькую»: аккурат для сугреву и поддержания духа в случае неудачи или, напротив, чтоб было чем отметить успех. Дело шло к Троице; глядя на поплавок, старик мечтал о настоящей – как в «мирное время» – щуке к праздничному столу.
На базаре перед Троицей было почти как в старое «мирное время», хотя сегодняшнее их бытие старуха никак не могла назвать этими эпическими словами. А сегодня… сегодня прямо глаз радовался: всего чего, да сколько… Назад возвращалась с достойно отяжелевшей корзинкой, так что, когда на полпути увидела Тайку, первая окликнула ее – донесет играючи. Несмотря на разгар июня, внучка была в теплой жакетке, которую еще и запахивала, точно мерзла.
– Ты не больная? – забеспокоилась мамынька, – смотри, спаришься?
Тайка не ответила, не улыбнулась, и только протянула руку за корзиной, как жакетка распахнулась. Во‑ о‑ н что.
Интересно, как они выглядели со стороны: статная, с румянцем гнева на щеках, старуха, крепко держащая за руку внучку – молодую, перепуганную и безнадежно беременную? Кто видел, как бабка тащила ее за руку, словно малое дитя, тащила, время от времени кидая на нее грозный взгляд и роняя одно и то же слово: «Яйца! », беспокоясь за содержимое корзины? …
Наверное, кто‑ то видел и как‑ то реагировал: удивлялся, смеялся, недоумевал. Однако ни старуха, ни Тайка никого не видели, пока мамынька не дотащила внучку до квартиры; даже на лестнице она не отпускала Тайкину руку. На пороге же Ириной комнаты отпустила, втолкнув девчонку внутрь:
– Иди, обрадуй матку, – но сама не ушла, а стояла на пороге, ожидая дочкиной реакции и обмахиваясь снятым платком.
Та застыла, переводя взгляд с матери на дочку, и стояла бы так, наверное, долго, если б старуха не спросила, подтолкнув Тайку:
– Ты знала?!
Можно верить или не верить, смеяться над ее наивностью или пожалеть – Ира не знала. И теплая жакетка летом, и одутловатое, уже в пятнах, дочкино лицо, и эти ее дежурства, которые и дежурствами‑ то не были, а чем были, уже видно, – для матери имели только свою номинальную ценность. Жакетка – от сквозняка, отечное лицо – от усталости и недосыпа, являвшиеся натуральным следствием тех самых дежурств, которых вовсе не было.
Прошныривая к раковине, Надя обиженно бросила:
– Я говорила, мамаша: за ней смотреть надо. Мамынька только глянула вполоборота:
– А твои матка с батькой за тобой много смотрели?
Невестка язык прикусила, но ненадолго. Хлопнула дверцей буфета раз, другой – и бросила через плечо, скрываясь к себе в комнату:
– Мне – что, я не девкой рожала, а мужней женой. Перестав, наконец, обмахиваться платком, старуха крикнула дочери:
– Слыхала? Ты добрая, ты ее пустила; теперь получила! – словно не кто иной как Надя наградила внучку пузом.
Уж как пофартило Максимычу, как пофартило, даже и не чаял: сом! Настоящий сом, какого сейчас и на базаре‑ то нечасто встретишь. Бывали, бывали и побольше… так это ж когда, а тут такой дядя попался: ишь, ворочается, в большом бидоне – и то ему тесно. По пути домой несколько раз останавливался: сняв картуз, вытирал взволнованный, потный лоб, переводил дыхание; потом опять подхватывал тяжелый бидон, в котором плескался «дядя», и торопливо хромал дальше.
В кухне были все, даже Тайка. Поставив удочки, старик нетерпеливо открыл крышку бидона и сразу же получил фонтанчик воды в лицо. Отряхивая капли с бороды, сунул руку в бидон, ловко подхватил рыбину под жабры и протянул жене:
– Ты глянь, как пофартило: прямо дядя!..
Мамынька выхватила трофей из мокрой руки и с размахом ударила мужа по лицу. Ошеломленный, старик отпрянул, а Матрена повторила с непонятной злостью:
– Пофартило тебе! вот как тебе с дядей пофартило! – в то время как виновник этой сцены уже прыгал, извиваясь, по полу.
Ночью Максимыча начало рвать кровью, и приехавшая «скорая» забрала его в больницу.
* * *
Большую часть ночи оба проводили без сна: старуха беспокойно ворочалась в своей кровати, следя за тенью колышущейся листвы, старик – на обшарпанной больничной койке, натягивая скудную, серо‑ гипсового цвета, казенную простыню. За окном тоже качались ветки, а под дверь подтекал синий слепой свет из коридора. Все остальные спали, но Максимыч им не завидовал: отоспаться можно будет и на кладбище, о коей перспективе думал он, кстати сказать, без паники, хотя и не спешил туда. От дочек узнал, что мамынь‑ ка лютует – грозится прогнать Тайку из дому; что жениться пакостник не собирается, и более того: сажают его. «За Тайку? » – с надеждой спросил старик. Нет, папаша, за растрату. Не свои тратил – казенные, а за это, мол, строго. Старик кивнул: растрата растратой, а в тюрьму – он был уверен – паскудник идет за внучку. И к месту.
В больнице время отсчитывалось не часами, а обходами докторов, процедурами да трапезами. Все, кроме Максимыча, с нетерпением ждали бренчания тележки, на которой развозили еду; для него еда интереса не представляла. Суп, незнамо из чего, был комковатый и больше напоминал жидкую подливку. Соседям давали какие‑ то плоские, точно на них спали, котлеты, мясом вовсе не пахнувшие, а ему приносили серенькие комочки, политые, должно быть, тем же супом; говорили – мясное. Сбоку от «мясного» тулилась полупрозрачная кашица пюре, так что всякая охота есть пропадала. Странным образом процедуры и харчи походили друг на друга: то нужно было глотать ложками бариевую кашу, похожую на жесткий творог, то на ужин приносили творог, такой же серый и твердый, – ни дать ни взять известка.
С докторами была полная неразбериха: то один брюхо мнет, то другой: чисто бабы тесто месят. В сложной больничной субординации старик не разбирался – все в белых халатах. Не сразу, но заметил, что у сестер халаты задом наперед надеты и сами они попроворней. Что ж, на работе барышни. Самая же главная, как определил про себя старик, докторша ходила медленно, тяжело и важно ступая и не глядя по сторонам, время от времени осторожно трогая рукой прическу: блондинистый ролик на темени, похожий на трубочку без крема, и висящие небогатые локоны. Однажды Максимыч слышал, как она смеется, разговаривая с кем‑ то: точно мотоциклетку заводили. При ее приближении сестры торопились вон со своими звякающими подносиками; санитарки – из баб попроще – убежать не успевали. Ни с кем из больных докторша не разговаривала, а подходила к подоконнику и проводила пальцем, затем грозно смотрела на санитарку, брезгливо скривив накрашенный рот, разворачивалась и шла в коридор, а санитарка плелась следом. Что она там с ними делала – распекала? Грозила? Наутро та же санитарка мыла чем‑ то едким и вонючим пол. Набросив байковый халат и осторожно пробираясь к двери, Максимыч сочувственно кивнул: сильно докторша‑ то злобствует? Та недоуменно затормозила швабру. Докторша? Какая докторша? А потом, прислонившись к пустой кровати, смеялась беззвучно и необидно. Никакая не докторша, Христос с тобой, сестра‑ хозяйка она тут! Вишь, такой павой ходит, что в докторши попала!..
В больничный сад этот едкий запах не проникал. Здесь росли солидные каштаны с густыми кронами. Парк окружал здание и уходил далеко вглубь, к реке. На скамейках играли в карты, читали, курили, принимали гостей и тут же жадно, не стесняясь, ели из промасленных свертков что‑ то свое, домашнее.
Как и на рыбалке, старик облюбовал далекую скамейку и пристроился под августовским солнцем, сбросив ненужный халат, некогда байковый, а теперь состиранный до жесткости фанеры. Сначала думать о рыбалке было коломытно, и он даже головой помотал, как часто делал, разговаривая мысленно сам с собой. Что же с нами делается, Мать Честная!.. Снова вспомнил – как увидел – блестящего прыгающего сома и пятна мокрые по полу. А и хорош‑ ш‑ ш был, настоящий дядя! Сколько ж сейчас там ходит таких в глубине, только встать пораньше – и всех делов. Припомнилась и свежая уха из подлещиков да окуней, непередаваемым ароматом окутывающая кухню; рот вскипел слюной, заныло брюхо. До зимы еще далеко; вон сколько наловить можно!
По дорожке пробежали две сестры, тащили какие‑ то склянки в ящике. Из раскрытых окон слышались звонки: телефон. Такой диковины даже у Феди нет, уважительно подумал старик. Хлопнула – с растяжкой – тяжелая дверь, и стало слышно, как чей‑ то голос требовательно и наставительно выговаривал: «…каждый день. И не эту рвань, а полотенца. В противном случае я ставлю вопрос перед главврачом», после чего на той же дорожке показалась «докторша». Она шла необычно быстро, а лицо, свирепое и очень красное, прятала за стопкой белья, которое несла перед собой. Вроде Калерии, вдруг догадался старик, и такая ревнивая неприязнь ужалила его, что захотелось только одного: скорей бы отсюда.
«Уже скоро, – пообещал доктор на обходе, – вот только профессору вас покажем». Это еще на кой, громко не сказал старик, а потом махнул рукой и попробовал себе вообразить встречу с профессором. Такой, наверно, гладкий, хорошо одетый, в золотых очках, и говорит длинно. Знал он только одного профессора‑ немца, для которого в мирное время делал гостиный гарнитур, тот, вишневый… С тем и задремал. Проснулся от плеска воды: в этот раз пол мыла другая санитарка, помоложе; она небрежно шлепала на пол мокрую мешковину, кое‑ как обертывала швабру и гнала воду по всему полу. Тоска, тоска. Домой.
После обеда небо скуксилось, закрапал дождик, и вместо того, чтобы сидеть под каштаном и грезить о рыбалке, пришлось остаться в кровати. Из окна сильно пахло зеленью, и жалко было его закрывать, хоть и дождь.
Вдруг все разговоры стихли, и в палату вошла группа докторов. Профессора среди них не было, и Максимыч опять прикрыл глаза. Его назвали по фамилии, сконфузив всеобщим вниманием, и столпились вокруг кровати. Всем заправлял утренний доктор: быстро говорил, сбиваясь с русского на непонятный, и закончил совсем уж странно: «Вот история, профессор».
Вперед вышел маленький и худой, словно школьник, но лысый человек, с очень любопытными выпуклыми глазами, в простых железных – не золотых – очках. Он ловко откинул полу халата, сел, протянул Максимычу руку и представился, будто разгрыз орешек. Потом ласково попросил: «Покажите язык» и проделал над стариком все, что делали другие доктора, только медленно и с удовольствием, подробно объясняя каждое движение. Все ответы Максимыча выслушивал, не сводя с него круглых живых глаз – ну чисто ребенок; остальные уважительно слушали. Он округло картавил, и старик сразу подумал о сыновьях, хотя они совсем не походили на профессора. Закончил, полуобернувшись: «У кого есть вопросы, прошу? …» Как раз, подумал старик, и попросил, вдохнув: «Мне домой‑ то скоро ли? », отчего сразу повисла неловкая пауза, прерванная веселым смехом профессора: «А как же, дома‑ то и стены лечат. Да хоть завтра! »
Попробуй усни, если завтра и впрямь позволили домой. Дождь перестал, в окно было видно звездное небо, совсем особенное в августе. Бог с ним, со сном, теперь уж – дома. Каштаны за окном шелестели, словно нашептывали что‑ то веселое. Не спали еще двое на соседних кроватях, тоже перешептывались. Уловив слово «профессор», Максимыч ревниво прислушался: никак, о его профессоре? Один – новенький, совсем молодой, о чем‑ то спрашивал, другой отвечал. По частому одышливому дыханию старик узнал молчаливого конопатого мужика с грудной жабой.
«…Он в этой больнице еще до войны работал. Да что работал! Он и жил тут: ему квартирку дали, прямо рядом с чердаком. Я почему знаю, что малярничал тут. Да. Ихние две каморки тоже красил. Семейный, а как же. Не‑ е, он всегда был такой: бывало, идешь со стремянкой, так отбежит и к стенке прижмется – пропустить. Сзади посмотреть – студент вроде, из практикантов. Он мне тогда еще говорил: тяжестей, говорил, вам нельзя, плохо, говорил, дышите, молодой человек. А я ж тогда здоровый был – во!.. Потом уж, на войне, надорвал жилу какую‑ то в груди. Жаба, говорят… Он тогда профессор не был, нет. А работал знаешь как? Уж на что я спозаранку приходил – я ж не только здесь работал, – а он тут как тут. Мы с ним здоровались уже; я как‑ то спрашиваю: когда ж вы пришли, доктор? А я, говорит, никуда и не уходил: у меня дежурство ночное. И так через день; как только он тянул? … Чего? … А ты считал его деньги? Я видел, как они жили: вся мебель больничная, вот на такой же кровати спал, как ты тут! Стол шатался; так я ему поправил чуть, подкрасил – больно уж обтерханный был. Деньги… На что ему деньги, ему время не было тратить эти деньги!.. Не‑ е, от больных сроду не брал, это не про него. Вот, помню, ему раз коробку шоколада поднесли, так он эту коробку открыл и велел сестричкам угощаться. Открыл, ну… а там конверт. С чем… С деньгами. Да нет, с теми еще, досоветскими, ясное дело. Ну что – что? Он как забегал: адрес, адрес скорее! На свои деньги извозчика взял и отвез назад и коробку, и деньги; вернулся в самый раз к дежурству… во как! »
Парня Максимыч не слышал, тот лежал дальше. Вдруг рассказчик заговорил громче и с закипающим раздражением: «Не знаю, меня на фронт сразу забрали. Я только жалованье получить забежал. Да не перебивай ты, а то забуду: я ж на войне контуженный был! Ну вот. Он на этом этаже тогда главный был. Так две ночи сидел, с больницы выписывал. Человек сто, наверно, выписал… Как зачем? Чтоб уехать успели! Ты молодой, ты не знаешь, что с ними немцы сделали. Ну, кого успел выписать – больной, здоровый – тот спасся. Или нет, не знаю. Я ж говорю, я на фронт ушел. Полная больница была… да евреев, мать твою! Больница‑ то еврейская была!.. »
Из больницы старика выписали с напутствием доктора придерживаться диеты и не нервничать, на что Максимыч только пожал плечами; а с диетой известно как. Прямо домой не пошел, а заглянул в хозяйственную лавку – или, как теперь говорили, магазин, откуда вышел с жестяным чайником, самым дешевым. Назывался он по‑ местному трумуль и был похож на обыкновенный рупор, к которому припаяли дно; вместо мундштука полезная вещь была увенчана плохо пригнанной крышкой, из‑ под которой выпячивался небольшой носик.
Дома никого не было. Старик сполоснул трумуль под краном, наполнил водой и поставил на плиту.
С этого дня он кипятил себе чай сам и за стол садился, не дожидаясь старухи.
Зачем ему понадобился свой чайник, трумуль этот, Бог знает, только для старухи это явилось открытым вызовом. Принять вызов сразу она не была готова и потому держалась насмешливо‑ выжидательно: какое еще коленце старый хрен выкинет; бровь была наготове. Максимычеву обновку она внимательно изучила и оценила в его отсутствие, прикинув, что для себя одной ставить самовар хлопотно, а главное – скучно; после чего купила в той же лавке трумуль для себя. Такой же. Это создавало известное неудобство, ибо теперь каждое утро она ревниво сравнивала двух жестяных близнецов, чтобы – упаси Бог! – не спутать.
Сказавши «а», говори «б»: стали покупать харчи отдельно друг от друга. Быстро выяснилось, что это не только неудобно, но и дорого: суп, кипящий в котелке для одного едока, стоит столько же, сколько суп для двоих, но как остановиться? Невестка с самого начала стряпала отдельно; Ира ничего, кроме пшенной или грубой овсяной каши, не варила – не было ни времени, ни сил, а Тайка или ела всухомятку, или делила с матерью кашу, хоть и надоевшую, да иногда с маслом.
Теперь, когда мамынька считала деньги, ее лицо становилось еще более строгим, да и хлопот у нее прибавилось – не только деньги считала. Приходя домой из лавки, выволакивала из‑ под кровати тяжелые весы, клала на чашку сверток в корявой бумаге и тщательно взвешивала, колдуя ярко‑ золотистыми латунными гирьками, похожими на хоровод матрешек. Брови, казалось, повторяли медленные качания утиных носиков, готовых вот‑ вот встретиться в платоническом железном поцелуе. Хоть ей было неудобно ждать, склонившись к полу тяжелым телом, а все ж какое‑ то непонятное мимолетное разочарование отражалось на лице, когда носики застывали в равновесии. Другое дело, если пакет оказывался легче. «Опять! – Матрена поворачивала к мужу разгоряченное от праведного гнева лицо, – эта русская, что недавно у них, уже в который раз обвешивает», – сообщала увлеченно, забыв о раздельном хозяйстве.
Забыв? Да, конечно; и забыв совершенно сознательно. Собеседник‑ то все равно был нужен, куда ж деться; можно и забыть. До следующего раза.
Строго говоря, хозяйство совсем уж раздельным не стало. Как‑ то само собой разумелось, что хлеб, крупа или картошка делению не подлежали – бери сколько надо. Зато в буфете стояли две бутылки с постным маслом, так же, как и для скоромных дней лежал уже не один шматок сала, а два маленьких, но независимых кусочка. Странным образом оба они таяли намного быстрее, чем некогда один, да и уровень масла в обеих бутылках падал с удручающей скоростью, хотя вроде и не жировали; зато в третьей, невесткиной, бутылке масло скучало долго, будто про него забыли.
Бывало и по‑ другому. То ли старуха замечала, как часто Максимыч варит картошку в мундире, отчаявшись овладеть искусством чистки, то ли вес мяса соответствовал норме – не врали весы, – а может, она вспоминала о больном его желудке, но только случалось, что мамынька вдруг наливала вторую тарелку и молча ставила на стол.
Старик опять стал рыбачить, всякий раз принося улов, который, слава Богу, на весы не клали. Рыбу чистить он не умел, но ему и не приходилось: по негласному уговору, или, как говорят в математике, по умолчанию этим занималась жена. Если бидон оказывался тяжелым, старик сопровождал добычу скромной фразой: «Вот, на ушицу, что ли», помня свои грезы в больничном парке и скучая по горячему. Мамынька неизменно отвечала: «Дай спокой, сама разберу», снимала твердой рукой крышку, критически вглядывалась в игрушечный водоворот и цедила: «Разве что», даже если уха предстояла знатная.
А на следующий день после ушицы старуха вдруг грубо и властно сволакивала с огня чайник мужа, чтобы водрузить свой, и водяные горошины испуганно разбегались в стороны по раскаленному чугуну, обиженно шипя. Старик топал здоровой ногой, вскрикивал горько: «Тьфу ты, Мать Честная!.. » и шел курить.
Так они теперь и жили, а до правнука – или правнучки – им оставалось всего ничего: несколько недель.
Вот неделя, другая проходит. Надя поглядывает на Тайкин живот, никакой жакеткой уже не скрываемый, все злорадней, словно там не ребенок дожидается своего таинственного срока, а Бог знает кто. Соседи тоже стали здороваться более оживленно, отчего мамынька свирепела, однако виду не подавала, что она умела делать мастерски, даже бровка не шевелилась. Зато дома, после того, как плотно закрывалась двойная дверь, вид подавала сразу: каленым румянцем вспыхивало лицо, глаза блестели гневно и молодо. Слава Богу, думал старик, что не докопались раньше, съели бы девку.
Не случайно старик думал во множественном числе – мамынька вступила в неожиданный альянс с невесткой, чем повергла его в немое остолбенение. Как‑ то сразу квартира распалась на два лагеря: один, представленный оскорбленной старухой и полыценно кудахтавшей Надеждой, и другой, куда входили старик, Ира в состоянии полной ошарашенности и обвиняемая Тайка, еле видная из‑ за круглого, тугого живота.
Впрочем, не совсем так: правильней было бы сказать, что лагеря было не два, а три. Виновница этой семейной гражданской войны ни к какой стороне не примыкала, а жила вроде как сама по себе. Старуху бесило то, что внучка делала все то же и так же, как всегда: ходила по квартире, пила воду, открывала или закрывала окно, причесывалась, держа в закушенных губах приколки, а то еще начинала вдруг напевать свое непонятное: «тач‑ тач‑ тач‑ та» на какой‑ то разудалый мотив, будто вот‑ вот пустится в пляс, подкидывая коленкой живот, как мальчишки во дворе мяч. Одним словом, внучка держалась так, будто ничего, ну ровно ничегошеньки не произошло, и виноватой себя не чувствовала ни на вот столечко. Казалось, что вместе с бесполезной жакеткой она отбросила и всякий стыд. В разговорах на кухне участия не принимала, становясь объектом кипящего бабкиного гнева и ехидного шипения Нади: «Ходит, будто три дня не евши», что вызывало одобрительный смешок старухи, причем ни одной из них не приходило в голову, насколько они бывали иногда близки к правде. Как и о чем Тайка говорила с матерью, если такое вообще случалось, ни мамынька, ни Надя не знали, и это мешало выработать правильную стратегию. У Иры ничего вызнать было невозможно, и это никого не удивляло: всегда была молчалива, а сейчас, придя с работы и наскоро поев, садилась за швейную машинку и строчила заполночь. Под это веселое «зингер‑ зингер‑ зингер» старик и засыпал.
Тоня с мужем были потрясены свалившейся новостью. Устроили семейный совет, на который виновница, впрочем, не явилась. Что‑ то ненужное говорилось, до такой степени несвоевременное, что даже если б и раньше было сказано… А что, если б раньше‑ то? Ведь аборты все равно запрещены? … Да, но можно было бы как‑ то… Поздно. Грех.
Любопытно, кстати, какое слово было произнесено первым: «поздно» или «грех», что доминировало: моральный, то есть вечный, аспект или временной, он же временный? Как для кого. Каждый, наверное, содрогнулся от одного и с облегчением вздохнул, оценив другой, ибо этот другой зачеркивал первый, стирал его, словно резинкой, даже из памяти совещавшихся. И то: разве можно жить в сослагательном наклонении? – да слава Богу, что нельзя.
– Ладно, но жениться‑ то он может? Посидит – и выйдет, а то как же ребенок сиротой расти будет, – беспокоился Федор Федорович, однако в глубине души немножко лукавил, беспокоясь не только о сироте. Как всякий отец, он был уверен, что его собственные дети‑ школьники понятия не имеют ни о зачатии, ни о деторождении, и плохо представлял себе, как же им сообщить о беременности двоюродной сестрички. Совершенно беспрецедентный случай, бессмысленно повторял он про себя, что, кстати, было чистой правдой: Бог миловал, такого в семье не случалось никогда.
– Отродясь такого не было, – громко подтвердила мамынька. – От людей стыда не оберешься. Должен жениться, пся крев, должен!..
Максимыч любовно разминал папироску – в кабинете у Феди икон не было и позволялось курить. Размял и, еще не прикуривая, спросил негромко:
– На кой?
Прозвучало это таким абсурдом и так неожиданно, при том что старухин «пся крев» еще плавал в табачном облачке, что все повернулись к старику. В левой руке держа мундштук, он правой ловко ввинтил в него папироску и повторил:
– На кой вам надо, чтоб этот паскудник женился? Свои деньги промотавши, казенные растративши, девку обрюхатил– и махни драла!.. На кой вам надо такого добра? Чтоб, не дай Бог, ваши растратил или… – не договорил: зятя пожалел.
– Так что ж, – прищурилась мамынька, – може, ты сам и нянчить будешь ублюдка?
– А придется, так и буду, – все так же негромко ответил старик, – он мне правнук.
Об этом вот‑ вот уже грядущем ребенке, нежеланном и ненужном, нечаянном и досадном – так сказать, ребенке некстати, – думали все, или вернее было бы сказать, что всем некстати же о нем думалось, и всем по‑ разному.
Старик уже видел его: мальца, разумеется. Славный такой улыбчивый парнишечка стоял перед глазами в ситцевой рубашонке, шкодливый, чумазый, как полагается. Можно будет и на рыбалку его брать, покуляется в песке, пока прадед удочку закинет. Какая рыбалка, Мать Честная, сам себя одергивал старик, не переставая улыбаться; дите дитем, ему только сиську у матки сосать, а рыбалка – это ж когда еще…
Думала и мамынька. Кто ж девку с ублюдком замуж возьмет, кому она такая надо? Так и будет у Ирки на шее сидеть. То, что «девка с ублюдком» ее первая и любимая внучка, залюбленная и всеми балованная красавица (впрочем, черновата немного), было особенно обидно, как было обидно и больно за стыд, который она, старуха, должна от людей терпеть.
И опять: какая обида у старухи была главной – за внучку или за себя? Она снова и снова вспоминала, как тащила покорную, оцепеневшую Тайку за руку, боясь почему‑ то хоть на мгновение ослабить властный захват. По щекам, по щекам сама бы отхлестала стервеца! Теперь, встречая знакомых, она держалась особенно надменно и величественно (чего, строго говоря, вполне хватало и раньше), чтобы только успеть откланяться, не дождавшись нового, усиленного интереса или – упаси Христос! – опасных вопросов. Срам‑ то какой, Ос‑ споди, за что ж такое?!
Никто не знал, что думала Ира, которой предстояло стать бабкой в сорок семь лет, но если бы кто видел ее лицо, склонившееся над машинкой, потерявшее за войну милую свою округлость, но светлое и только растерянное немного, увидел бы и улыбку, – и резвое «зингер‑ зингер‑ зингер» бежало навстречу этой улыбке. Несколько раз она даже начинала что‑ то петь, чего никто давно уж не слышал, а потом обрывала внезапно и вытирала лицо краем белой ткани: теплый был сентябрь.
Между этими двумя помещениями – Ириной комнатой и кухней, где старуха, сидя на кровати, заплетала на ночь жидкие белые косицы, – а вернее, между этими двумя полюсами, – думала и Надя, только не о ребенке, а о жилплощади, которую он будет скоро занимать, а значит, тоже о ребенке.
А что думала сама Таечка, выяснить не удалось: Ира отвела ее, тихо поскуливающую не столько от боли, сколько от неизвестности, в больницу, по привычке называемую еврейской, но официально числящуюся Третьей городской, и теперь она смотрела из окна родильного отделения на деревья. В кронах показались желтые пряди, а внизу, в траве, уютно лежали каштаны. Кожура кое‑ где лопнула, и прорезалась блестящая головка ядра.
О Тайке волновалась одна Ира. Старуха, родившая дома всех семерых, только снисходительно посмеивалась: ишь, моду какую взяли нынешние, а Максимыч не тревожился о внучке, поскольку озабочен был совсем другим.
В этот раз он отправился рыбачить вместе с Федей. Зять ох как любил посидеть над поплавком – для этой цели у него в чулане толпилась веселая стайка удочек, – но позволить себе такое мог очень редко. Интересно, о чем старик собирается с ним говорить, даже сына брать отсоветовал. Опять о крестнице? Семен колобродит? Или с Надеждой не поладили?
Феденька, человек самой гуманной профессии и сугубо гражданский, все свои выстрелы уложил в «молоко». Он был так ошеломлен просьбой тестя, что дергающийся поплавок заметил поздно и теперь копался в банке с червяками, выигрывая время для ответа. Максимыч подробно рассказал обо всем, что услышал ночью в больнице.
Наживку‑ то зять нацепил, но удочку не забрасывал, и червяк то замирал, то напрягался, выгибаясь, словно на качелях раскачивался, да и сам Феденька чувствовал себя примерно так же. Так вот почему он не велел сына брать.
– Зачем вам, папаша, – проговорил неохотно, – только душу рвать. Да я и мало что знаю, – спохватился тут же, в то время как тесть неторопливо закурил и сунул горелую спичку обратно в коробок.
– Так ты что сам видел, что от людей знаешь, а то, може, в газетах читавши… ты скажи: на кой профессор всю ночь сидел, людей с больницы выписывал, как тот говорил?
– А‑ а, так вас смотрел профессор…? – улыбнулся Феденька и вкусно разгрыз орех, изобразив трудную фамилию. – Он успел эвакуироваться с семьей, потому и остался в живых, слава Богу. Скольких спас…
Старик тихонько тронул его за рукав:
– Как было, сынок?
Рассказывать было непривычно: Федор Федорович ни разу до сих пор этого не делал, не рассказывал и не обсуждал, да и с кем было? … Те, кого это касалось напрямую, сначала смеялись и не верили, а потом, в гетто, тоже не верили, но уже не смеялись. Когда он встретил доктора Блуменау? … Ну да, у магазина «САНИТАРИЯ»; конечно же, до гетто, это еще летом было, они стояли в тени под маркизами, и тот прямо у витрины громко заговорил, тогда еще говорили громко: «Какой же это бред, вы подумайте, коллега: ни с того ни с сего срываться и ехать Бог знает куда и от кого, главное? – от немцев! Так я же и говорю, бред!.. »
Бред начался очень скоро после этой встречи, и Федор Федорович пытался вспомнить первые симптомы. Может, улица? К еврейскому кладбищу, серые каменные стены которого делали его похожим на крепость, вела крутая, вымощенная булыжником улица, с царских времен называвшаяся Еврейской. В самый расцвет демократии – уже памятник Свободы строили – улица стала называться ни много ни мало «Жидовская», так прямо и было набито на эмалевой табличке. Много времени не понадобилось: люди стали пользоваться этим названием, ссылаясь на то, что в местном языке, дескать, нет более подходящего слова, в то время как слово и было, и есть, но филологи муниципалитета предпочли лексикон погрома. Нет, улица была раньше, хотя…
Плакат, конечно; он и не забывал его никогда. Среди всей антисемитской бумажной дряни, появлявшейся, как яркий лишай, на стенах домов, на столбах, этот плакат бросался в глаза и красками, и текстом. Простая местная семья: женщина в косынке держит руки на плечах сынишки с такими же остзейскими чертами лица, а мужчина в кепке обнимает жену, защищая от источника зла за их спинами: хитрого, циничного еврея. Вот он, наложивший печать скорби и безысходности на честные трудовые лица! Текст был прост, как ломоть хлеба: «ЖИД ВАМ ЧУЖОЙ. ГОНИТЕ ЕГО ПРОЧЬ! ». Такое могло вдохновить, и плакатов было назойливо много, но ведь не плакат же выпустил на волю бред и придал ему дьявольскую силу, и не от плаката загорелась синагога в пятницу вечером?
– Так мало ли что – пожар. Свечу, може, уронил кто, а оно и занялось, – ошеломленно бормотал Максимыч, – кто знает.
– Свечу!.. Они стенки керосином облили, обложили паклей и подожгли, а когда люди начали детей из окон выбрасывать, так в них гранатами швыряли!
– Немцы? …
– Нет, свои. С плакатов, – непонятно добавил зять, – немцам и трудиться не пришлось.
Это Федор Федорович знал из рассказов пожилой ассистентки, наблюдавшей, пока хватило нервов, пожар из своих окон, но она могла бы и не рассказывать: огонь полыхал долго, июльский дождь потом смердел керосином и был цвета пепла.
Появился мерзкий плакат и в клинике, где Федор Федорович работал. Чья‑ то заботливая рука не только налепила его на входную дверь, но и не обошла прохладный темноватый вестибюль, а через старинные витражи лилось июльское солнце: гоните его, доколе?! Одни старались пройти как можно скорее: работа, мол, ждет, другие непринужденно задерживались группками и заводили близкий к теме разговор – несколько громче, пожалуй, чем следовало, но, возможно, были виновны старинные своды, сообщавшие ненужный резонанс. Третьи прошмыгивали мимо, но с доброжелательным интересом на лицах: как, пожалуйста? Гнать прочь? И на лицах появлялось сочувствие, которое могло читаться по‑ разному.
Сколько пациентов тогда приходило – уму непостижимо, и все как один на протезирование. Потом клиника внезапно почти опустела, и не только потому, что иссяк поток скорбных зубами, а… приходить стало не к кому. Коридоры опустели, и двери кабинетов сначала закрывались, а потом запирались одна за другой. Именно тогда Федор Федорович почти всех пациентов начал принимать у себя на квартире. Заходя же в вестибюль клиники, торопливо проводил рукой по щеке, словно проверяя, не забыл ли побриться; этот жест остался у него навсегда.
Интересно, а не будь эта яркая гадина расклеена по всему городу, мог бы этот бред осуществиться, думал он, сидя на берегу реки рядом с примолкшим тестем. И ведь никто не сорвал, ничья рука не поднялась, но это уже была совсем инертная мысль, без возмущения: и ты ведь не сорвал. Он внимательно, но без обычного интереса смотрел на неподвижный поплавок. Хорошо ловится, хотя почти октябрь.
Прочь погнали в октябре, уже на исходе месяца, когда за спиной маячил – и подгонял: прочь! – угрюмый ноябрь. «Прочь» носила название гетто и находилась в пяти минутах от дома.
– Где? – выдохнул старик.
– На Песках.
– Это где Мотяшкин дом?!
– Ну да. Там же рядом кладбище еврейское. – Федя объяснил, что всех, кто жил в округе, заставили освободить квартиры и дома, но внакладе никто не остался, потому что евреи оставили свое жилье, а значит, места хватало с лихвой.
– А у Моти‑ то? … Тоже кого поселили?
– Папаша, их дом пустой стоял, так? Где‑ то людям жить надо было, вот и селились, кто где мог, ведь всех выгнали, со старыми и малыми. Что говорить про Мотин дом – на кладбище жили!.. – И не только жили, добавил про себя, а и умирали, для этого кладбища и существуют.
Их гнали, и они уходили прочь. Гетто оказалось на редкость прочной «прочью». По зловещей какой‑ то иронии его граница обозначалась двумя кладбищами: еврейским с юга и русским с севера, где так удобно располагалась железнодорожная станция. Переполненные составы прибывали день и ночь, и если б знал тогда Федор Федорович, что привозили они евреев из Германии, где в плакатах тоже недостатка не было, прямо в руки местных патриотов‑ палачей, – ведь недаром Остзейский край с незапамятных времен чтил немцев! Если бы он знал, если б знали его коллеги, соседи, знала жена, если б шведский камень Старого Города знал, изменилось бы что‑ то? Проверить невозможно, но сомнительно: не нашлось ведь руки, которая сорвала бы мерзкий плакат, а ведь бумага рвется куда легче, чем колючая проволока. Знал бы он тогда… Да он и сейчас не знал, а то, что мог рассказать старику, тоже тщательно пропускал через фильтр памяти. Да, он был в городе при немцах, но и представить себе не мог масштаб разрастающегося бреда. Однажды лишь, идя мимо разгромленной «САНИТАРИИ», где еще висели выгоревшие, вялые маркизы, под ногами, среди битого стекла витрины, у которой доктор Блуменау говорил про бред, увидел он гнойную газетенку на местном языке с выспренним названием «Отчизна»; да и то, случайно взгляд упал, а вот поди ж ты, запомнился крупный заголовок: «40 000 ЖИДОВ ЗА ПРОВОЛОКОЙ – ГОРОДСКОЕ ГЕТТО! ». Приснись такое – ущипнул бы себя за руку и выпил «сельтерской»; но то был не сон, и он долго и бессмысленно тер щеку, словно паутину смахивал. Закономерность это или феномен, что помпезность названия всегда прямо пропорциональна вонючести печатного органа, и так было во все времена на памяти Федора Федоровича, не исключая и настоящее.
Максимыч был потрясен: все, что напечатано в газете, было для него свято и непререкаемо. Однако старик умел хорошо считать:
– Куда сорок тысяч‑ то упихать, это ж люди, не селедки, а главное – на кой немцам евреи дались? – спросил он ученого зятя.
– А цыгане? Цыган ведь… тоже. Не знаю, папаша. Ни про немцев не знаю, ни про наших. Мне антисемитизм в принципе не понятен.
Про цыган конопатый не говорил. Нуда, больница‑ то еврейская была. Хватит того, что старик всегда помнил о своем цыганстве, поминая каждое утро мамашу, Царствие ей Небесное, и тихонько гордился стойкостью цыганской крови во внуках. Вот оно как. Прав оказался покойный зять, что так торопился посадить Иру на поезд, а ведь только второй день войны был.
– Хорошо, что Коля тогда отправил их, – негромко заметил Федор Федорович, словно услышал, и старик не удивился.
Долго молчали. Рыба, обманутая редко и беспорядочно забрасываемой приманкой, потеряла бдительность и послушно заглатывала крючок. Оба рыбака безучастно, словно стоя в очереди, вытаскивали разинь и бросали в бидоны, но не было ни ожидания, ни изжеванного, забытого в углу рта окурка, ни азартных сдавленных восклицаний. Рыба – была; не было рыбалки.
Евреев от неевреев старик отличал если не по именам или характерной внешности, то по стойкой привычке не снимать картуз, здороваясь; сам он, по столь же стойкой привычке, картуз всегда снимал. Перебирая мысленно своих знакомых евреев, он осознал вдруг, что после войны так никого из них и не встретил: ни сапожника Аншла, через руки которого прошло Бог знает сколько ботинок, как известно, горящих на детских ногах, ни Гирша и Рафала, всегда так симметрично стоявших в дверях скобяной лавки «Братья Левкович», да и где та лавка? Есть лавка, но братья тут уже ни при чем, и товары совсем другие: карандаши да тетрадки, дверь хлопает поминутно, но не выглянет ни Рафа, ни Гирш, только школьники снуют.
Лейба держал склад обивочных материалов, совсем недалеко отсюда, напротив маленького базарчика, так никогда и не выросшего в большой и называемого всю жизнь: Маленький базарчик. Помогал Лейбе на складе сын Меер. Старик никогда не мог понять (а спросить стеснялся), то ли отец выглядит на редкость молодо, то ли сын, наоборот, несколько старообразен, но казались они братьями. Каким‑ то чутьем Лейба всегда понимал, что именно Максимыч ищет, и добывал искомый товар, после чего посылал сына доложить об успехе, а на следующий день Меерова телега уже разгружалась у заднего входа в мастерскую. Чьей женой была Нойма, торговавшая орехами и изюмом на маленьком базарчике, Лейбы или Меера, старик тоже разобраться не смог. За что их? Что другому Богу молятся? Ни он, ни старуха, да и никто из староверов никакой неприязни к евреям не испытывал, скорее, наоборот, сочувствовали: сами были гонимы, память свежа… Где они все, где? А сорок тысяч‑ то куда? …
Федор Федорович тоже с трудом себе это представлял. С трудом, потому что боялся правильности своей догадки и потому малодушно отодвигал ее. Проще и честнее было ответить старику: «Не знаю».
Могло быть и так, что скромный дантист действительно не знал, что гетто их города было не совсем обычным. Будучи еврейским, оно было и многонациональным, пополняя свои ряды то немецкими, то голландскими, а то и вовсе венгерскими обитателями. И уж наверняка он не знал, что самая широкая улица делила гетто на два сектора: один для приезжающих, другой для местных, так сказать, импорт – экспорт. Нет, это не циничная шутка: «импорт» прибывал из Европы, а «экспортом» становились как обитатели местного сектора, так и слегка оправившиеся от ужасов транспортировки иностранцы. Местом экспорта служили местные леса. В этом и состоял секрет безразмерной емкости той адской ловушки, которая была оплетена колючей проволокой.
И неизвестно, какая половина обреченных испытала больший ужас при виде своих палачей – иностранцы ли, видя веселых мускулистых парней и тщетно вслушиваясь в чужой протяжный говор, или же местные, для которых язык этот был родным, а потому усиливал дикость происходящего, ибо невозможно, невозможно было поверить в смерть от руки своих! Эти исполнительные патриоты выполняли порученное с энтузиазмом, удивлявшим даже немцев. Для последних весь происходящий бред был хорошо продуманной системой; свои привносили в жестокость элемент творчества, и осмыслить это можно, только если помнить, что слово «тварь» того же корня. Ни в коей мере не пытаясь оправдать немцев, следует помнить, что они были на службе, тогда как свои трудились добровольно и не за страх, а за совесть, как ни странно звучит применительно к ним это слово. Шепот, колеблемый страхом, нес по гетто имя вождя доблестной команды, которая так изобретательно подожгла синагогу и не дала спастись ни одному из двух с половиной тысяч молящихся. Лиха беда начало: во всех акциях он выходил веселым и усталым, но неустанным, победителем.
Страна должна знать своих героев, и страна знает; более того: страна гордится ими. Будь это историческая хроника, его имя неминуемо должно было осквернить ее страницы, но в рамках другого жанра можно только намекнуть или подсказать одной артикуляцией, не озвучивая намек. Как уже сказано, он носил имя победителя, а этимология фамилии оставляет простор для фантазии. Короткая, как свист плетки, заткнутой у него за поясом, она причисляла обладателя к кроткому племени земледельцев, означая «пахарь». Если же один слог произнести чуть протяжней, с учетом традиций языка, то получалось совсем уже любопытное, едва ли не судьбоносное: «изгоняющий вон», «гонящий прочь». Естественно, что никто за колючей проволокой не занимался вопросами ономастики – это хорошо делать с другого берега пространства и времени. Между тем лингвисты и там, безусловно, были, и не только лингвисты: были математики, философы, историки, в том числе знаменитый автор «Всемирной истории еврейского народа»; были и врачи – ведь Федор Федорович так и не увиделся больше с доктором Блуменау, который назвал бред бредом…
В то же время обладатель победного имени полностью оправдывал оба его значения – и когда со своей командой выгонял людей из квартир с криками: «Вон! Вон! », и потом, отправляя работоспособных на «пахоту» в леса, где они должны были копать могилы для своих близких – и для себя, как выяснялось скоро, но слишком поздно. За безукоризненную и бескорыстную службу команда кровавого пахаря снискала себе особую благосклонность немцев, но откуда было знать об этом Федору Федоровичу, который имел дело с молчаливыми эсэсовцами, вернее, с их доверчиво раскрытыми ртами? Только один раз он воспользовался беззубой зависимостью важного офицера от своего протезного искусства и получил пропуск в ад и обратно, побывал там, можно сказать, одной ногой, когда шагнул, не оглядываясь, за тяжелые ворота концлагеря.
Может быть, Максимычу следовало настойчивей теребить зятя вопросами, но тогда не было бы пауз, или, наоборот, Феденькино замешательство вызвало одну большую паузу, а на кой она – и так бидон полный.
– Кого куда, папаша, – продолжал Федя. – Кто послабее, так сразу убивали, а кто работать мог, держали.
Из той же газетенки, кстати. Может, не так уж не прав старик? …
Тот ноябрь держал летнее тепло, как в термосе, и не верилось, что вот‑ вот наступит зима, что зима вообще бывает на свете. Они гуляли с детьми в парке под густыми, вовсе не собирающимися опадать, деревьями, а ночью выпал снег, потом еще, и кроны деревьев обреченно держали влажную тяжесть, как атланты. Один за одним начали беззвучно падать листья – желтые, алые, рыжие, так похожие на оброненные перья украденной Жар‑ птицы. Ноги идущих оставляли темные следы, эти следы становились все глубже, а листьев больше, так что некоторые впечатывались в снег, а другие, уже зная, что их ждет, все‑ таки балансировали в воздухе. Чья‑ то подошва прилепила к кромке тротуара клочок газетного текста «…СКИХ РАБОТНИКОВ», полузакрытый багровым листом. Федор Федорович зашел в киоск за папиросами и первое, что увидел на прилавке, был полный заголовок: «В ГЕТТО ОСТАЛОСЬ 2 900 " ПОЛЕЗНЫХ" ЖИДОВСКИХ РАБОТНИКОВ». Или это было позже, в декабре? Но листья, яркие листья в воздухе и на снегу сохранились в памяти из ноября, хотя странно, что такая малость вообще помнится.
– А потом?
– Потом их на остров отправили, у правого берега.
– Какой остров?
– Рыцарский. – Зять смотрел на медленно бегущую воду.
– Это там, где Колю? …
– Нет, Колю… в общем, в другом месте, – Федя потер щеку. – Пора, наверное, папаша, а то дома тарарам начнется.
Бидон был тяжелый, смутно и скверно было внутри, да и ноги устали, но Максимыч упрямо поднялся по крутой Еврейской улице, с которой как ни мудрила советская власть, так она и осталась Еврейской. Первое их со старухой жилье – тут же, рукой подать, на Калужской.
Вот оно, кладбище. Стена – каменная кладка почти в аршин шириной, кое‑ где проломы. Холодея душой, старик заглянул в один пролом. Опрокинутые, вывороченные с корнем надгробья, разбитые замшелые памятники и камни, камни…
Кладбище было мертвым, и как узнать, где Рафа с Гиршем, – почему‑ то представилось, что лежать они должны в одной могиле, – где Аншл, где остальные? А може, и не здесь, догадался он; може, в лесу. В яме.
– Господи, спаси и сохрани души усопших раб Твоих, – проговорил он и твердо перекрестился на разбитую звезду Давида, наполовину вросшую в землю.
Дома он узнал, что Тайка родила и через несколько дней ее выпишут домой.
Ира, придя с работы, затеяла стирку. Черные мамынькины брови, похожие на буревестника, распростершего крылья, ничего хорошего не обещали, поэтому Максимыч торопливо сжевал черствую баранку, выпил стакан кипятку с утренней заваркой, схваченной тонкой тускловатой ряской, и вышел посидеть в парке.
Был тихий, золотистый и светящийся последний день сентября. Плутоватый малец, парнишечка с замурзанными щеками, будущий товарищ по рыбалке оказался девкой, а с девкой что делать будешь? … Курил, пристроив тросточку у скамейки, и пытался вспомнить своих дочерей в детстве: что они делали, что говорили. Это оказалось непросто: вспоминались почему‑ то фотокарточки, на которых все стояли послушные и нарядные, старательно и вычурно причесанные, да и в эти воспоминания постоянно вклинивались лица и голоса внучек, а заодно и внуков, что было смешно и приятно, но никак не помогало его задаче.
Широкий закатный луч ровно лег на дорожку и словно осветил память старика: окно во всю стену, свежий, чистый запах дерева и полуденное солнце, а на полу мастерской сидит маленькая девочка и, радостно смеясь, играет со стружками.
Толстая хозяйка вела на поводке приземистую лохматую собаку, похожую на пыльную швабру. Собака двигалась ленивыми зигзагами, длинная шерсть мела гравий. Выполняя собачий долг, подошла и стала обнюхивать тросточку старика; женщина резко дернула поводок, и швабра с извиняющимся хрипом потащилась дальше. Ишь, сдобная какая, а злая. Вроде Надьки. И раскурил последнюю папироску.
Так было странно и непостижимо, что прошел только один день.
…Пока Тоня ловко чистила рыбу, мать сидела у нее на кухне, подперев рукой мягкую щеку, и привычно, хоть и снисходительно, отмечала про себя недостатки вокруг. Параллельно этому увлекательному занятию нужно было обсудить не менее важное дело: имя для ребенка.
– Хорошо, что девочка, – говорила Тоня, смахивая с лица чешуйку, – сегодня как раз поминают Святых Великомучениц Веру, Надежду, Любовь.
– Без тебя знаю, – жестко отозвалась мамынька, – и матерь их Софью. А на кой ты гардины тюлевые в кухне повесила? Ну, Надежду нам не надо, хватит.
– Мамаша, а пускай Любочка будет, Любовь. А? Старуха только фыркнула:
– Любовь, как же! Ты всю эту прорву жарить думаешь?
– Нет, половину. Остальное на противне запеку, с томатом. Федор Федорович любит. Может, Верой? Верочка?
– Вера и есть Вера. Сейчас Вера и в пятьдесят лет Вера, на кой это надо?
– Или майонезом залить, что ли?
– Конечно, с майонезом благородно. У тебя для майонеза все есть?
– Да у меня целая банка, я как с магазина принесла, так еще не открывала.
– В лавке брала? Майонез с лавки?!
Негодованию мамыньки не было предела, и Тоня решила запечь с томатом. Внезапно старуха остыла, забыв про скомпрометированный майонез, и строго продолжала:
– В наше время не так было. Имя давали не как попало, а по своим. Вот хотя бы и по моей матушке, Царствие ей Небесное: Сиклитикея. Или вот: Иулияния. Ты тетку Улю помнишь?
Сообразительностью Бог Тоню не обидел: было очевидно, что имя Матрона частично примирило бы старуху с происхождением младенца. Она быстро поставила рыбу в духовку, выслушав замечание о никчемности газовой плиты безо всякой обиды: мать и дочь прекрасно понимали друг друга, и Тоня знала, что даже мамынькино «как попало» по отношению к святым великомученицам было сказано сгоряча.
Таким образом, девочку решено было назвать Софьей – и к месту.
– Хотя, може, матка эта непутевая что другое надумает, нынешние ни у кого не спрашивают, – недовольно и вместе с тем великодушно заметила мамынька, оставив – вопреки обычаю – свое итоговое «к месту» как бы открытым для прений, что заставило Тоню подавить улыбку. Свою крестницу она знала, как ей казалось, неплохо; хотя, с другой стороны, кто мог ждать такого фортеля? Знала она также наверняка, что ни одно из достойнейших имен, как то: Сиклитикея, Иулияния или даже Еликамида, вряд ли Тайку вдохновит, да и у самой Тони не вызывали энтузиазма. Значит, Таечке надо подсказать правильную мысль, и сделать это придется Тоне.
– У меня уже все готово, – со скромной горделивостью объявила она.
– Ты же только поставила, – подскочила старуха бровкой, – или сырую исть собираетесь? Когда готово, дух по всей квартире идет, что майонез, что томат.
– Да нет, мама. Вот пойдем в спальню, покажу.
И пошли. А в спальне Тоня открыла шкаф, отчего сразу отъехало и пропало из глаз окно, зато выплыла вторая тумбочка и веером раздвинулась кровать. Пока она перебирала белье в поисках чего‑ то, то и дело задевая дверцу, так что кровать то расширялась, то сужалась, старуха не сводила глаз с дочкиных рук, уже зная, что сейчас увидит.
– Вот, – Тоня повернулась к матери, держа за плечики крохотную вышитую рубашечку из батиста: – Смотри! – но старуха пухлой рукой с испугом оттолкнула тонкую тряпочку:
– Вижу, убери. Уж второй год вижу, – и рассказала сон.
Пуще прежнего старуха бранится…
Нет, не состоялась девочка Матреной, несмотря на то, что заботливая крестная проникла, благодаря записке Федора Федоровича, в родильное отделение, где и пыталась вразумить упрямицу. Не состоялась девочка, впрочем, и Софьей, не говоря уж об остальных великомученицах. Тайка твердо вознамерилась назвать дочку в честь… своей подруги, о чем Тоня и доложила матери с выражением «я умываю руки» на лице.
Веру, Надежду, Любовь и даже матерь их Софью мамынь‑ ка готова была скрепя сердце простить, но подруга‑ то сюда каким боком? Ей что, подруга ребенка нашептала?!
Насколько физически легко – для матери и для себя – этот ребенок появился на свет, настолько же непросто шло его водворение в тесный мир квартиры «7А».
Во‑ первых, неизвестно в точности, какими словами старуха встретила счастливую мать и свою правнучку, ибо никто больше при их встрече не присутствовал. Ира, бегом вернувшись после дневной смены, не нашла ни дочки, ни внучки, хотя сегодня их обещали выписать; удивилась, потом встревожилась. Мамынька, до сих пор молчавшая, объявила почти спокойно:
– Чего переполошилась, приходила твоя гулящая. Я ее выгнала.
Ира, послушная и кроткая Ира, посмотрела матери прямо в глаза:
– Тогда меня тоже гони. – И бросилась вон.
Как она искала и нашла изгнанниц, где и при каких сопутствующих факторах, уже выходит за рамки этого повествования. Важен результат: нашла. Нашла и привела назад, причем младенца крепко прижимала к себе и уже, оказывается, любила, а дочку только подталкивала время от времени плечом, так как счастливая мать шла весьма неохотно и с надутыми губами. Последнее обстоятельство даже ставит под сомнение самый эпитет «счастливая», делает его проходным штампом, что, конечно, недопустимо. С другой стороны, пока молодая бабка перепеленывает все еще безымянную девочку, а мать, которой полагается быть счастливой, стоит в оцепенении, можно немного и порассуждать: например, всякую ли молодую мать следует вот так, не думая, называть счастливой? Нет‑ нет, ссылки на мировую живопись неправомочны, поскольку имеют такое же отношение к квартире «7А», как выросшая в огороде бузина к дядьке в Киеве, не говоря уже о том, что у младенцев на полотнах великих мастеров отец, слава Богу, более чем известен, но только ли наличие отца, известного или не очень, делает мать счастливой?
Осуществились – или овеществились? – оба сна, пугающей своей непонятностью мучившие мамыньку больше года: она держала в руках невесомую вышитую рубашонку и передала ее Тоне, которая, став трижды крестной, натянула ее на крохотное орущее тельце младенца Ольги, «женскаго», как написали бы прежде, полу.
Общеизвестно, что свои дети растут медленно и, как правило, с кучей сопутствующих трудностей; или, наоборот, чужие так стремительно вымахивают, что невозможно осмыслить. Старик, дав жизнь семерым, из которых вырастил и поставил на ноги пятерых, с неожиданным интересом следил за несостоявшимся правнуком. Ну, Ольга – это бздуры, конечно, Ольгой пускай ее кавалеры называют. Для него девка была Лелькой. Так близко и без помех он наблюдал младенца, пожалуй, впервые: собственные дети росли под надежным крылом жены, он видел их вечерами, возвращаясь из мастерской, а при больших или спешных заказах и того меньше. Что до внуков, так тех только в гости приводили, да на даче когда‑ никогда… в мирное время.
Девочка еще лежала в бельевой корзинке, с которой на каток ходили, когда старуха вынесла свой вердикт: «Цыганская кровь. Чисто головешка». Это привело Максимыча в такое веселое состояние духа, что он, проходя мимо большого зеркала, не раз и не два в тот день подкрутил кончики усов.
Мотя принес детскую кроватку как раз вовремя: и ребенку в корзине стало тесно, и белье складывать некуда.
Мадонны или просто счастливой матери из Таечки – теперь это можно было сказать точно – не получилось. Она опять пошла работать, а Ира, наоборот, должна была уволиться, ибо старуха громогласно заявила, что не намерена цыганское отродье нянчить. Как в подоле приносить, так мастерица – золотые руки, а как сиську дать ребенку, так этого и в помине нет, что было правдой.
Для старика время и летело, и замедлилось, если такое можно себе представить. Летело – это просто, ведь время летит – или катится, словно с горки, – для всех стариков, этим не удивишь; но как же быстро правнучка встала на ноги, стало быть, год промелькнул, а ведь, кажется, вчера еще в корзине лежала и крякала, ворочаясь, пока он смотрел, как солнце просачивается сквозь прутья, и осторожно передвигал корзину, чтоб не разбудить. И вместе с тем время приостановилось. Да, проходила неделя, и другая, и каждая следующая приносила новое слово – или фразу, а платьице, подаренное Тоней, уже оказывалось тесно, – и значит, время летело. Когда появились эти – действительно, цыганские – завитки, чтоб Ира смогла завязать бант? Лелька уже спускается с ним по лестнице: они идут в парк, а ведь даже туфли, кажется, только на прошлой неделе были диковиной, надевать их девочка боялась, и он учил ее отличать левый башмак от правого и просовывать тупой штырек в дырочку ремешка, и конца‑ краю этому не было видно: время ползло, как маленькие смуглые пальцы по тугому ремешку.
Понять это, скорее всего, невозможно; только испытать.
Чувствовала ли старуха время так же, как он? А как же! Понять, впрочем, не пыталась, но как‑ то с появлением правнучки ее восприятие времени изменилось. Во‑ первых, прибавилось еще одно имя в молитвах «за здравие», и хоть имя было – нашему забору двоюродный плетень, младенец‑ то – вот он, христианская душа, спаси, Господи, и сохрани!
Конечно, так танцевать вокруг девчонки, как муж, она и не думала: ищи дуру. Однако Матрена оставалась матроной своего дома, что сейчас было самое главное: уйдя с работы, Ира стала шить на продажу, потом носила на базар. А какой мужчина когда‑ нибудь мог совместить ребенка с горшком без долго смываемых последствий? То‑ то и есть. Как свои росли, так все было трын‑ трава, а теперь пляшет. Тьфу, даже слов нет, гневалась мамынька, сама не ведая, что ревнует.
Девочка подрастала, и уж кто‑ кто, а бабушка Матрена потачки ей не давала, хотя признавала про себя, что девка хорошая, не спорченная: не блажит, попусту не хнычет, разве когда матка придет, вся табаком провонявши, насулит ребенку Бог знает чего – и махни драла, ищи‑ свищи ее!..
Если мужа старуха неосознанно ревновала, то внучку судила – и обвиняла – совершенно сознательно, не боясь повторяться. Пятеро, плоть от плоти ее, уже сами давно родители, если в чем‑ то и не знали отказа, то в материнском молоке, да двое в земле, Царствие им Небесное… Старуха замолкала и крестилась. А эта – она даже по имени Тайку не называла в своих яростных монологах – эта сиську пожалела, зато свою матку вон как загнала, смотреть страшно!
В известном смысле, вернее, применительно к данной ситуации, было даже лучше, что Тайка с ними не жила: меньше скандалов, бесполезных упреков и сцен или, как сказали бы сейчас, меньше стресса; кто‑ то способен утешиться от банального «стерпится – слюбится», а для кого‑ то еще милее другой трюизм: «с глаз долой, из сердца вон». Но думать на эту тему было особенно некогда, потому что мамынька спешила то в лавку, то на базар, а потом домой, к плите, да заставить дочку хоть супу горячего съесть тарелку. Старуха заторопилась, и время, которое стояло вокруг нее, тоже спешило, чуть ли не летело, так что некогда было считать обиды и претензии, да что там – стало некогда стареть: нужно было, как всегда говорилось, дело делать – и к месту.
Как только девочку стало можно оставлять со стариками, Ира снова пошла на комбинат. Целый день они проводили теперь втроем: прадед, прабабка и правнучка. Ревниво наблюдая, как старый и малая разговаривают, играют или сердятся друг на друга, Матрена вмешивалась и направляла процесс в нужное русло: разрешала или не разрешала идти гулять, строго выговаривала за провинности, действительные или мнимые, велела садиться за стол, да не забудь лоб перекрестить, Ос‑ с‑ споди!
Когда мужа в очередной раз положили в больницу, она растерялась, хоть виду не подала: теперь ей самой приходилось целый день «сидеть с цыганским отродьем», и вид у нее был недовольный. Правда, раздумывать над своей несчастной долей ей не приходило в голову– или не успевало прийти, потому что времени не хватало: то она растирала творог с молоком в миске по имени «диета», то и дело суя ложку девочке в рот, – маткиного‑ то молока не видевши! – то процеживала овсяный тум, после чего, переодевшись, они вместе шли в больницу.
Неверно было бы думать, что вся жизнь стариков сосредоточилась на правнучке, нет; но ребенок этот оказался в однообразной их жизни не только нечаянным членом семьи, но и событием, вновь соединив на какое‑ то время бытие старика и старухи в единую беспокойную – а значит, живую – жизнь.
Пока старик лежал в больнице, Матрена должна была всюду таскать девчонку с собой. К ее удивлению, ребенок не ныл и не просился на руки; куда бы ни несли старуху ноги, на кладбище, в лавку или на базар, везде встречались знакомые, с которыми нельзя было не остановиться и не перекинуться несколькими словами. Наученная Тоней, девочка изображала книксен, после чего послушно скучала, но чтобы дергать за руку или, чего доброго, хныкать – нет, этого не было. Беседа со знакомыми шла по накатанному: кто умер, когда хоронили, Царствие Небесное, все там будем, и вам спасибо, кланяйтесь вашим. В эпилоге разговора собеседница всегда кивала на девочку: внучка? В этот момент рука старухи чуть напрягалась, хотя голос звучал, как обычно: правнучка. Лаконичный ответ обескрыливал встречное любопытство, девочке задавалось несколько формальных вопросов, которые не представляли для Матрены минных полей, тем более что на груди у нее висели крохотные золотые часики: на них‑ то и следовало посмотреть, чтобы заспешить и откланяться. «За таким языком не поспеешь босиком, – с досадой говорила старуха, заворачивая за угол, – а ребенку, може, на горшок надо».
Да, правнучка. Первая, мысленно продолжала она беседу, и на лице даже появлялась горделивая улыбка. Вместе с тем старуха твердо знала, что такой правнучкой – хоть и первая, и не балованная – гордиться нельзя: мало того что принесена в подоле, так еще и родной маткой брошена; все равно что подкидыш.
От постоянного этого противоречия на душе у старухи было смутно и неприятно, «точно кошки нагадили».
Писать о детях приятно, но отвлекаться нельзя. В то же время невозможно и продолжать сказ о бытии старика и старухи без того, чтобы не оглядываться на правнучку. Все остальное в их жизни – вынужденное сосуществование с невесткой, нищета, старухино кряхтенье над весами, самозабвенные рыбалки старика, его язва и связанные с нею отлучки в больницу – все это оставалось таким же, как раньше, но с новым участником.
Старики опять садились за стол вместе и разговаривали за едой, потому что девочка говорила с обоими. Но что важнее, они стали вместе смеяться, а ведь смех растапливает и ожесточенность, и одиночество. Причины для смеха возникали легко: слово, придуманное Лелькой, вопрос или ее бесхитростный ответ на их шутку.
– Ты наелась? – спрашивала старуха, когда девочка осторожно сползала с колен.
– Да, бабушка Матрена.
– Вкусно было?
– Очень вкусно!
Старики переглядывались. Максимыч говорил:
– Дай пузо полизать.
И девочка тут же задирала платьице:
– На!
Смеялись они долго, необидно и с удовольствием. Старуха, откидывая голову, тихонько всхрапывала от вкусного смеха; старик вздрагивал плечами и подкручивал кончики усов. Смеялась и правнучка, не совсем понимая почему, но заразившись их смехом.
Правда, как только на пороге появлялась Ира, девочка сразу кидалась к ней, и старики смотрели друг на друга немного разочарованно, словно не зная, что делать. Как – что? Грустить, конечно; оказалось, и это можно делать вместе.
– От‑ т девка, – начинал старик, – подумать только, про рыбку эту. Старичок, говорит, отправился к морю. Ему баба скажет, он и не рассусоливает, идет.
– Ну, и разве плохо? – Матрена перестает на минуту греметь посудой, – сколько добра‑ то получили! И домик, и прислугу… чего ж не слушать, плохому не научит?
– Так на кой баба чимурила? То ей одно подай, то другое. Чего блажила‑ то?
– Сразу никогда не знаешь. Може, думала, у рыбки этой и нету ничего, кроме корыта, а как дом получила, так и задумалась: хотела что получше.
– Чего там «получше». Ей мужик рыбу в дом приносил, а его на конюшню. Ты спроси сначала, он с лошадями‑ то обращаться умеет? Это тебе не фунт изюму; чай, не цыган.
Кого другого послать не могла – полный дом дармоедов? А как ей царства захотелось, опять к нему: и то ей плохо, и это не так. Что ж с одной рыбки‑ то спрашивать?
– С тобой надо говорить, гороху поевши, – раздражалась старуха. – Чем тебе царство плохо?
Старик пожимал плечами:
– А на кой оно?
– То‑ то и есть: «на кой». Не дал Бог свинье рог, а мужику панства, – сердилась мамынька, но уже гудел самовар, из чайника шел дивный аромат, и в вазочке лежали баранки, принесенные Ириной.
Сидя за столом, старуха хвасталась:
– Она мне еще рассказывала про красавицу, вроде Лизочки нашей, Царствие ей Небесное; только уже барышня была. То ли пирожок несвежий съела, то ли что. Так в хрустальной люльке и хоронили. У ней и жених был; так убивался, так убивался, все искал. Ирка‑ то книжки что ни день тащит. Самой нет время поисть как человеку, похватает чего – и садись, читай…
Молчали. Ревновали. Завидовали.
– Зато и башковитая, – крутил головой старик, отставляя чашку, – ведь сколько на память знает!
– …Сколько она там пролежала, не знаю.
– Кто?!
– Красавица эта. Хрустальная. А как он пришел да поцеловал, сразу встала! Заспалась я, говорит, поздно‑ то как.
– Ну? …
– Что – «ну». Поженились. Он туда на лошади приехавши и домой ее забравши.
Самовар остывал.
Ира действительно чуть не валилась с ног. Экономила на всем, что означало – на себе. С трудом добывалось каждое яичко, так быстро внучкой съедавшееся, что странно было представить, будто хлопоты эти стоили выеденного яйца. После этого начинался книжный пир, если только Ирина не сваливалась совсем уже буквально с головной болью, перетянув голову платком и отвернувшись к стене. Тогда девочка шла к старикам поделиться очередным сюжетом.
Бывало и так, что она приносила Максимычу на коленки стопку тонких книжечек и просила: «Почитай! », что всякий раз вызывало у мамыньки чистосердечный смех. Прадед хмурился, пил соду, раздумчиво перебирал книжки: «Какую? Новую? Ну, давай новую».
Он усаживал девочку рядом с собой на диван или брал на коленки и начинал читать про мальчиков в ночном, терпеливо и мечтательно рассказывая городскому ребенку, как приятно идти босиком по росистой траве, купаться в теплой воде ночного Дона, а потом сидеть у костра и слушать страшные истории.
– Вот этот малец, что побольше, он старшой у них: что велит, другие слушают; Гриней зовут. Отец у его казак, а мамашенька дома осталась, с малыми. Кучерявенький, что у огня лежит, Родион, брат его; он поменьше. Ну костер, видишь, ночью‑ то холодно. А только сперва лошадей спутать надо, без этого нельзя. Травы кругом много, лошадь потянется туда‑ сюда, отойдет в сторону, а то еще в овраг забредет. Если не спутать, так и заблудится, или волк задерет, волку тоже исть надо. Почует, бросится – и враз загрызет! Потому ребяты огонь всю ночь держат: волки огня боятся. На костре и ушицу сварить можно, вот сидеть‑ то и будет веселее. Ночью рыба знатно клюет, только закидывай. А ушицу с хлебом хорошо, с черным, да посолить. Соли мамка ребятам в тряпочку завязала, в карман сунула. Лошади соль любят, это им, как тебе сахар. Да‑ а… Раз как‑ то лошадь пропала, так искать пошли. Не, не все: трое, Гриня да Павлуша с Авдюшкой, Авдюшка‑ то и упустил; плохо спутал, видать. Ходили‑ ходили, чуть не заплутали. А самим жутко – кругом ночь, темень. Идут, на костерок оглядываются. Не‑ е, так и не нашли. Утром мужики из другой станицы привели, не ваша, спрашивают? Авдюшка такой радый был, такой радый: батька его прибить грозился за лошадь. Вот, видишь, сидят вокруг огня, греются, он и рассказывает, как плутали. А може, про волков говорят… Это для больших ребят, – заканчивал Максимыч, закрывая тоненькую, как школьная тетрадка, книжку под названием «Пионеры‑ герои». – Ты про рыбку неси.
Ничего удивительного не было в том, что Ира покупала книжки, намного обгонявшие внучкин возраст. Детских книг на русском языке в магазинах было не много, поэтому она покупала книжки «на вырост», а заодно брала и нерусские: когда‑ нибудь и эти прочитает, а сейчас пусть картинки смотрит.
«Про рыбку» была любимой сказкой Максимыча. Читали они с Лелькой «в складчину»: девочка помнила наизусть длинные пассажи, а старик не уставал порицать неуемную старуху, и восхитительные строки незаметно оставались у него в сердце. Тогда‑ то правнучка и стала давать ему на рыбалку свое игрушечное ведерко – специально для золотой рыбки.
– А на кой тебе золотая рыбка, – улыбался старик. – Ты, никак, тоже царицей стать хочешь?
– Нет, – серьезно отвечала девочка, – я у нее другое просить буду.
– Ну? И деду не скажешь?
– Я золотой рыбке скажу.
Старуха, ревниво прислушивающаяся к беседе и явно лелеявшая свои планы на безотказную рыбку, посоветовала:
– Ты валенки новые проси, зима на носу. У рыбки скорей допросишься, чем у матки своей.
Времени до зимы еще хватало. Октябрь стоял такой, что можно было с августом спутать, хотя уже отслужили Покров. Но, кроме праздников и постов, старику не давала забыть об осени язва. Он пытался как мог обмануть постылую хворь, но уже чувствовал, что обойтись без больницы вряд ли удастся.
Там его встречали приветливо: врачи привыкли к спокойному, непривередливому «хронику», а сам Максимыч каждый раз ожидал появления профессора: только после беседы с ним старик переставал бояться той непонятной жути, которая наваливалась на него с разгулявшейся язвой. Да и самой язвы тоже переставал бояться.
Сидя на речке, он мысленно уже готовился к больнице, но так не хотелось, так жаль было уходить! Погода была дивная; он с радостью брал бы правнучку с собой, даром, что не малец, но старуха и слышать об этом не желала: четырехлетку‑ то! Не углядишь, как в воду залезет, а там… Что мне делать с проклятою бабой, бормотал он, положим, углядеть‑ то углядел бы, да ребенка жалко чуть свет будить.
В этот раз он в больнице не задержался: почти никого из знакомых докторов не было, и профессор тоже не появился. Пройдя через привычные анализы, рентген и глотание кишки, он вернулся домой через неделю с небольшим, какой‑ то сердитый и торжественный, и сразу же засобирался в баню, чтобы смыть – и забыть как можно скорее – пронзительно‑ тревожный лекарственный запах и не заразить им дом. Вернулся с капельками блаженной испарины на лбу, прилег на диван и с наслаждением вдохнул запах чистой наволочки. Рядом на своем детском стульчике устроилась Лелька; из кухни шел сытный запах домашнего супа, и так приятно было лежать в ожидании родного недовольного голоса: «У меня все стынет! », что на деле означало самое благодушное приглашение к обеду.
Старуха не любопытствовала и ждала долго, то есть ровно столько времени, сколько ей понадобилось, чтобы накормить девочку, умыть и отправить в комнату, после чего деликатничать перестала.
– Что ты сидишь, насупивши, как мышь на крупу? Все остыло. Или там тебя лучше кормили?
– Какое… Резать хотят.
– Как?!
– Да брюхо. Язву вырезать.
Старик долго укладывал лавровый лист на краю тарелки, словно проверяя, достаточно ли прочно держится, потом отложил ложку и вопросительно посмотрел на жену:
– Може, к Феде сходить?
– Успеешь. – Мамынька решительно убрала тарелку. – Чаю будешь?
Чай пили как‑ то рассеянно, но ничем не нарушая ритуала. Старуха держала обеими руками чашку кузнецовского фарфора и, время от времени переводя дыхание, ставила ее на блюдце; тогда сидела, подперев красивой пухлой рукой щеку, а пальцы другой при этом тихонько, ласкающими движениями, поглаживали край блюдца.
Матрена всегда любила хороший фарфор. С особенным удовольствием вспоминала она изящный английский сервиз, заказанный Колей, покойным зятем, на ее именины к сорокапятилетию; так он и остался в ее воспоминаниях: Колин сервиз. Правда, она никому не рассказывала, как огорчилась, когда чайник ни с того ни с сего дал трещину, и чай в нем заваривать стало нельзя. Как раз в то лето, когда немцы город взяли. Английские чашки как‑ то сразу осиротели, да старухе и самой было очень сиротливо в то первое военное лето. Чашки стояли в буфете за стеклом, окружая совершенно бесполезный здесь – это вам не Англия – молочник с обиженно выпяченной губой. Красавица Настя, младшая невестка, забегала в гости и охотно присаживалась выпить чайку. Она‑ то и предложила старухе расстаться с осиротевшим сервизом. Черный рынок функционировал бесперебойно, и Настя бойко и дальновидно выменивала крепдешиновые платья на зимние ботики, затейливые альпаковые приборы не вполне понятного назначения на мотки деревенской шерсти и оливковое масло, так что мамынь‑ ка скорбно напрягла бровь, но согласилась. И не прогадала: через несколько дней торжествующая Настя нанесла так много «всего чего», что старуха, оставшись одна, всплакнула: Коли уже не было на свете, Царствие ему Небесное, а на столе громоздились шоколад, затейливые упаковки печенья рядом с простецкими банками, полными меда, и… чай, настоящий английский чай в высокой цилиндрической жестянке, да еще запечатанный в прозрачную хрусткую бумагу! Избавиться от ощущения, что это Колины подарки, было невозможно, да и не хотелось; но разве не могло бы так быть? … И не было уже у мамыньки ревности, что не попробовавший молока молочник теперь выпячивает свою недовольную губу в чьем‑ то чужом буфете; нисколько. Более того, в одном из ящиков ее собственного был спрятан маленький секрет, секрет под названием «на всякий случай»: фарфоровая крышечка когда‑ то треснувшего чайника, которого давно и черепков уж не осталось. На всякий случай, и к месту.
То, что в этом пересказе занимает целую страницу, в отчетливой старухиной памяти высвечивается и проносится, оставляя легкую привычную печаль, за очень короткий отрезок времени – интервал между двумя чашками чаю – увы, отнюдь не английского. Но не в том ли бесценное достоинство прошлого, что его можно извлечь из послушной памяти в любую минуту, а порой оно внезапно – и часто помимо желания обладателя – встрепенется само, окликнутое то ли полузабытой мелодией, то ли тонкой струей щемящего душу запаха, будь то корица, разогретое машинное масло или веточка жасмина, которая сейчас валяется в пыли на трамвайной остановке, а там, в прошлом, украшает петлицу и пребудет в том положении вечно. Человек – хозяин своего прошлого, равно как и наоборот, что тоже не редкость; однако уходить в философские дали опасно, да и ни к чему, ведь чаепитие – процесс хоть и неторопливый, но не бесконечный.
Заманчиво было бы сказать, что старик тоже пошел на поводу своенравных ассоциаций и погрузился в прошлое, тем более что и ему было что вспомнить, однако сказать так значило бы погрешить против истины: достоверно это звучит или нет, но Максимыч думал о том, что его ждет, то есть о самом что ни на есть будущем. Лицо его утратило первоначальную сердитую торжественность и стало просто угрюмым. В известной мере он уже чувствовал какое‑ то облегчение, хоть и с примесью разочарования, впрочем, безотчетного: такую новость принес, но старуха не голосила, и в набат бить никто не собирался. Иными словами, ожидался тарарам, но его не последовало.
Как всякий больной, в глубине души старик немного тщеславился своей язвой, хотя, разумеется, не так – куда там! – как старуха своими новыми зубами, которые обрела по настоянию Федора Федоровича и, более того, из его собственных рук. Прежде скуповатая на улыбку, теперь она стала улыбаться чаще. Случались поводы и для смеха: например, когда правнучка спросила с завистью, скоро ли у нее вырастут такие же дивные золотые зубы…
Она быстро собралась: ключи, носовой платок, кошелек. Помогла одеться девочке, заставила Максимыча надеть под макинтош вязаную кофту (после бани, да октябрь на дворе), и они отправились к Тоне, чего ждать‑ то.
Кондуктор в трамвае, введенный в заблуждение старухиной золотозубостью, пытался настоять, чтобы Лельке тоже взяли билет; бровь, которую не пришлось даже озвучивать, его отрезвила – к тихому восторгу старика, удовлетворенности старухи и полному разочарованию девочки.
– Что ты, что ты! Вот приедем, я тебе свой билетик отдам. Карман‑ то есть у тебя? А завтра на базар тебя сведу, раков купим, – приговаривал старик, пока трамвай лениво выворачивал по широкой дуге Большой Московской, приближаясь к обещанному базару, постоял, дождавшись звонка хмурого кондуктора, и двинулся дальше, оставив в стороне реку; потом медленно миновал вокзал, позванивая и тормозя, будто заикаясь, отчего кожаные петли на блестящих штангах болтались весело и быстро.
Беседа с Федором Федоровичем получилась какая‑ то бестолковая, хоть и многословная. Тоня встревожилась и не сводила с отца сердобольного взгляда. Тревога передалась мамыньке, и стало намного хуже, чем дома, когда он – как сейчас казалось – безмятежно наслаждался чистотой наволочки и горячим чаем.
Положим, русский человек всегда может выпить стаканчик‑ другой чаю, размышлял старик, закладывая за щеку кусочек рафинада. Когда‑ то Федя – или то был Коля покойный? – рассказал, что чай пить придумали не русские и даже не англичане, а китайцы, что его искренне огорчило, хоть худого слова о китайцах сказать не мог. Он спросил еще осторожно: «А водку? » и после ответа огорчаться перестал.
Феденька выслушал и покивал, а потом заговорил скучно и однообразно, потирая щеку. Старику запомнилось только несколько раз повторенное «с одной стороны» да «с другой стороны». Выходило, что после операции может полегчать.
– Стало быть, пускай режут?
– С другой стороны, – тянул зять, – я не врач, я знаю только, что операция серьезная.
– Так… не надо?
– Опять же, папаша, судя по тому, как вы мучаетесь, так лучше, наверное, удалить. С другой стороны… – продолжал он, забыв, что «другая сторона» уже поминалась несколько раз, а это значило, что сторон этих – воз и маленькая тележка, и если уж он, Феденька, сказать не может, на кой надо резать, так лучше и не трогать. Бог не без милости, казак не без счастья. Вступила старуха.
– Как можно живого человека резать?! Он соду вон пьет; а если надо, пускай лекарство какое пропишут, и кончен бал!
На Федора Федоровича нажимали и теща, и жена, не слушая его беспомощных возражений, что он только зубной техник. Про себя же, независимо от атаки, он принял решение связаться с больницей и выяснить ситуацию.
В прихожей, где толпились и говорили сразу все, Тоня дала мамыньке пакет, аккуратно упакованный в газету и перевязанный бечевкой: «Это вам с папашей, а если надо, сестра на машинке подгонит».
С этим трофеем и сели в трамвай, где после улицы было светло и уютно. Лелька, прижавшись к Максимычу, спросила у старухи:
– Что такое «щина»?
Старики недоуменно переглянулись.
– Щетина?
– Не‑ е, щина.
– Мужчина?!
– Щина, – нетерпеливо повторила девочка и повела пальцем по газетным буквам: – Вот: «…щина Великого Октября».
Если бы у Лельки спросили, с кем она больше любит ходить на базар, с Максимычем или с бабой Матреной, старик наверняка долго бы подкручивал усы. Умей девочка сравнивать явления в перспективе, она сказала бы, что поход со строгой бабушкой – это работа, и весьма скучная, а с дедом – праздник.
Баба Матрена выбирала, как назло, самые неинтересные места, хотя назывались они нарядно: павильоны. В первом продавалось мясо, вялыми ломтями болтавшееся на крючках. Покупательницы брали другой крючок и тыкали в мясо; смотреть девочке не хотелось, поэтому она глазела по сторонам. На соседних прилавках было, как ей казалось, то же самое, но Матрена медленно и уверенно, как всегда на базаре, шла вперед, время от времени раскланиваясь и одаривая встречных Фединой улыбкой. Она нигде долго не задерживалась, но и не ускоряла шага. Пожилая торговка, перед которой лежали продрогшие куры, улыбнулась ей; та ответила молчаливым величественным кивком, но подходить к прилавку, прицениваться и уж тем более нюхать кур не стала: не ко времени.
Высокие кафельные прилавки позволяли девочке увидеть немного, но пока старуха придирчиво вертела крючком мясо, она во все глаза разглядывала поросенка, который лежал за барьером, свесив мордочку, словно выглядывал из белой кафельной ванны. Смотрел поросенок, впрочем, не на Лельку, хоть она и старалась поймать его взгляд, а на кого‑ то за нею; она даже обернулась. Старуха же, получив неаккуратный пятнистый сверток и заметив, что девочка тянется на цыпочках вверх, решительно потянула ее дальше. На кой туда глядеть, как бы дурно не стало, и это было очень мудрое решение: малышка так и не узнала, кого высматривал этот аппетитный кусочек, полголовки, совсем молоденький, и недорого.
В молочном павильоне девочка оживлялась: не мешал тяжелый, прелый запах, но потом опять скучнела. Матрена двигалась вдоль рядов, останавливаясь, чтобы попробовать сметану. Хозяйка открывала тусклый бидон и подавала на полоске плотной бумаги толстую белую кляксу, которую старуха протягивала Лельке. Та с удовольствием слизывала сметану, рот наполнялся обволакивающей холодной вкуснятиной, язык натыкался на пресную шершавость.
– Ну? – требовательно спрашивала Матрена. – Не кислая?
Девочка мотала головой. Творог старуха сама никогда не пробовала – определяла качество по виду, но Лельке всегда передавала нежные ломтики, добавляя «ну как? » вовсе не затем, чтобы узнать, каков творог на вкус, а потому, что ребенку надо. Она твердо знала, что «ребенку надо» и меду тоже, но мед пробовали (посредством ребенка, естественно) редко, только если предлагали очень настойчиво, ибо у Матрены был свой, если угодно, кодекс чести покупателя: пробуешь – должен купить. Можно обойти весь базар из пустого интереса; тогда и христарадничать нечего. Если же она шла, чтобы купить ту же сметану, то чувствовала себя хозяйкой павильона. Впрочем, она держалась с такой неизменной величавостью, что никто из продавцов не заподозрил бы ее в попытке дать правнучке полакомиться, чтобы не сказать – подкормиться.
Она и сама не позволяла себе так думать.
Зато следующий день оказался праздничным: на базар собрался Максимыч, и девочка, старательно разгладив вчерашние трамвайные билетики, положила их в карман пальтишка: на всякий случай, и к месту.
Снова был трамвай, и в кармане прибавился еще один билетик. Слева остались река с пароходной пристанью, а старик и девочка пошли вправо, где начинался базар, и старик, как всегда, когда он оказывался здесь, помянул взглядом то место, где стоял, дуя себе в воротник, мерзнущий Фридрих. Он рассказывал правнучке, какие забавные игрушки умел делать немец, и не только игрушки: шкатулку знаешь, что у бабы Иры стоит? То‑ то. Фридрих делал. Он крепко держал ребенка за руку, но это нисколько не мешало девочке смотреть по сторонам: Максимыч никогда за руку не тянул и никуда не торопился.
Смотреть было на что. Два ряда деревянных прилавков были густо уставлены копилками в виде глиняных раскрашенных кошек. Все кошки сидели на задних лапах, в одинаковых позах, отличаясь только величиной и раскраской. Цена была прямо пропорциональна яркости и размеру священных животных, но Лелька об этом не знала и напряженно думала, как можно с такой красотой играть. Когда же старик объяснил, что они не для игры, а для собирания денег, и даже приподнял, чтобы она рассмотрела щель для монет, недоумению девочки не было предела:
– А как доставать денежки?
– Разбить.
– Насовсем?!
Максимыч подтвердил, что насовсем, и обратно уже не слепить.
Мечта, уже почти оформившаяся, лопнула. А так хорошо было бы подарить вон ту, синенькую, бабушке Матрене, пусть берет с собой на базар вместо своего старого кошелька…
Старик смеялся, не выпуская ее руки, так что приходилось останавливаться, вынимать платок и промокать глаза и усы. Ах, ты…
В параллельном ряду продавались деревянные ложки, миски, подносы, подставки для яиц; многие тоже были ярко раскрашены. Зато игрушки почти все были сочно‑ разноцветные и сверкали лаком. Плодовитые матрешки, изящные солдатики в политически не определенной, но очень нарядной форме, зверюшки, вырезанные порой настолько искусно, что Максимыч останавливался, аккуратно брал в руки и рассматривал так уважительно, что продавец, не сразу заметив потертость макинтоша и ветхий шарф, уже приветливо улыбался девочке. Продавались разного размера ящички с сюрпризом: надавишь шпенек сбоку или просто откроешь крышку‑ и выскочит чертик с пронзительным верещаньем. Судя по количеству таких коробочек и их габаритам, на базаре продавалась средней руки преисподняя.
Старик не торопясь вел девочку за руку и, если игрушки были особенно забавные, поднимал ее к прилавку.
Умелец, сотворивший из светлого дерева эту веселую длинноносую куклу с круглыми, как у Лельки, глазами, мог смело бросить вызов папе Карло. Люди, которые перебирали гладкие, точеные скалки, невольно улыбались при виде Буратино, приценивались и, уважительно присвистнув, отходили. Трудно было поверить, что игрушку вырезал парень с ленивым, отекшим лицом, стоявший по ту сторону прилавка, руки в карманах ватника.
Максимыч купил девочке петушка на палочке. Петушок и вправду был золотым, как в сказке, и светился глубоким оранжевым светом. Они подошли к небольшой избушке с надписью «ПИВО», и старик взял полную кружку такого же, как петушок, цвета. После этого, отойдя под стенку красного кирпичного амбара, они прислонились к блестящим чугунным столбикам, и пир начался.
– Максимыч, а пиво сладкое?
– Не‑ е, горькое, – ответил старик, осторожно, словно горячую, сдув пену.
– А мне можно?
– На кой тебе? Разве глоточек. Ну! Плюнь, плюнь, это для больших!
– А ты зачем пьешь?
– Жидкий хлеб, – таинственно сказал прадед, вытирая усы.
Лелька заглянула в пустую кружку: крошек не было. Она повернулась вопросительно к старику, но увидела такое, от чего замерла на месте, сжимая его руку изо всей силы.
Через базарную площадь… не шли, нет: двигались, тяжелыми толчками отпихиваясь от земли, очень короткие дядьки, бросая себя вперед, прямо к ним, и крича Максимычу хриплыми голосами: «Браток! Папаша!.. » Лелька зажмурилась и вцепилась в старика обеими руками, одна еще липкая от упавшего на землю петушка.
Инвалиды, перебивая друг друга, протягивали старику скомканные деньги. Он кивнул, подхватил девочку на руки и заспешил, прихрамывая, к пивному ларьку. Там он спустил ее с рук, взял, сколько мог, полных кружек и медленно, стараясь не расплескать, двинулся обратно, успокаивая правнучку:
– Что ты спуталась, они ж убогие. Их на войне покалечило; спасибо Царице Небесной, хоть живые остались. Сами‑ то и пива взять не могут: которая нальет, а другая облает. Конечно, добрые, вот дуреха‑ то! Они добрые, только убогонькие.
Убогонькие не были похожи на добрых, они все были хмурые и сердитые. Получив пиво, обрадовались; Лелька думала: вот они теперь хоть на ноги встанут, но не дождалась и смотрела, не могла отвести взгляда от их рук – огромных, фиолетовых и распухших. Они так и остались сидеть на своих кожаных подушках, оторвав руки от железных утюгов, и с наслаждением втягивая пиво, а кто‑ то уже закуривал и протягивал папиросы Максимычу. Девочка не отходила от старика и разглядывала татуировки на страшных руках. Максимыч был самым высоким, а она старалась не смотреть им в глаза, что было трудно, так как приходилось смотреть или в землю, или куда‑ то поверх голов. Хоть и необычные, дядьки вели себя, как все взрослые: спрашивали, как ее зовут, сколько ей лет и «что ты с дедушкой покупать пришла». Чтобы внести ясность, она сказала, что дедушку убили на войне, а это не дедушка, это Максимыч, и называется он прадедушка. Все начали хвалить Максимыча, и Лельке уже было не то чтобы нестрашно, а как‑ то неловко. Потом они стали прощаться и снова схватили в руки по утюгу, а самый ближний к ним вытащил мятый рубль и попросил: «Возьми, отец, внучке на конфеты», – и кивнул на Лелькин леденец, валяющийся в пыли. Максимыч замотал головой, но инвалид вдруг покраснел и закричал: «Бери, не обижай! – и добавил: – Я бы и своим купил, да где они, свои‑ то…» – бросил рублевку и устремился за товарищами.
Теперь их лиц не было видно, только подпрыгивающие от толчков, удаляющиеся спины, и стало ясно, почему они так и не встали: встать им было не на что.
Кончался октябрь, и неспокойно было синее море, если судить по резкому ветру, который гулял по городу и безжалостно гнал шелестящие листья; однако на море старики не бывали, да и что там делать осенью, золотую рыбку кликать? …
Старик брал девочку в старый парк за трамвайным депо. Это называлось «пойти пошуршать»: в парке росли огромные старые каштаны, и Лелька бродила, утонув ботинками в шелестящих листьях. Непонятно, кто из них больше любил собирать каштаны: правнучка или прадед? В отличие от жены старик никогда не задавался вопросом: «на что они надо? », поскольку, если здесь и было что‑ то ненужное, так это сам вопрос. Находить каштаны было так же интересно, как ловить рыбу: когда следишь за поплавком, вопросом «на кой» не задаешься; вместе с тем, если б рыба была несъедобной, разве он перестал бы ее ловить?
«Шуршали», то есть гуляли, долго и домой являлись с полными карманами лакированных шоколадных каштанов; все до одного находили приют у Иры в комнате. Она тоже любила бесполезные веселые ядрышки, и долго хранила их на тарелке, где они постепенно тускнели, твердели и ссыхались. Самый крупный девочка клала отдельно, на подоконник: для мамы, когда придет.
Раз уж зашел разговор о маме, то напрашивается вопрос, где же она пребывала все это время? Ответить трудно; известно только, что Таечка появлялась нечасто, всегда непредсказуемо и выглядела такой головокружительной красавицей, что даже мамынька как‑ то сникала от восхищения и не пиявила ее.
Старик же, всегда втайне гордившийся внучкиной яркой цыганистостью, никаких вопросов – упаси Господь! – не задавал. Он с улыбкой наблюдал, как Лелька, вскарабкавшись ей на коленки, взахлеб рассказывает о деревянной кукле и кошках‑ копилках редкой красоты, об убогоньких, о том, что лавровый лист в суп кладут для вкуса, но есть его нельзя, о каштанчиках и о том, что Максимыч поймает ей золотую рыбку. Конечно, ребенку мать надо, в который раз думал старик, но вслух не высказывался.
Жила Тайка то у одной подруги, то у другой, и получалось, что подруг этих пруд пруди; на дежурства, впрочем, больше не ссылалась, и на том спасибо. Время от времени подруги, по‑ видимому, давали приют кому‑ то другому, так что она даже оставалась ночевать, но уходила рано, когда дочка еще спала, и никто не знал, когда она появится в следующий раз. Самый большой каштан оставался лежать на подоконнике.
Единственный человек, который проявлял самый активный, живой, почти агрессивный интерес к ее появлениям и исчезновениям, была Надя. Ведь если есть где жить, пускай выпишется, чего ж она тут прописана, и так вон сколько народу, когда другие в проходной комнате должны толочься! Возмущенные эти мысли она не таясь высказывала мамыньке, по опыту зная, что ораторствовать перед Максимычем бесполезно: сверкнет черным глазом из‑ под бровей, как плеткой хлестнет, а отвечать ничего не ответит, будто не слышал. У мамыньки ее тирады тоже находили не много сочувствия, но та, по крайней мере, слушала, хоть и отвечала невпопад. Иными словами, высказаться Надежда могла, да что толку: свекруха и раньше ее не любила, а уж теперь‑ то, когда жили в тесноте… Она относилась к старухе хорошо, насколько могла, помня, как только что прожитый, день своего внедрения в квартиру, и то, что ей это удалось, привносило известную долю снисходительности к старухиному уму. «От большого ума досталась сума», – с особым удовольствием думала невестка. Что же касается свекра, то она надеялась, в строгом соответствии со своим именем, что старик не заживется: больница за больницей, да и одежда на нем висит, как с чужого плеча.
Задевало ее другое – вернее, уязвляло, и глубже, чем хотелось бы: как они цацкаются с нагульным ребенком, а ее дети будто и не внуки родные?! Ладно, она: невестка всегда невесткой и будет, тут нечего ждать, но дети? … Конечно, любая мать – тигрица, и Надя не была исключением, везде и всегда стараясь добыть вкусный, теплый и увесистый кусок и принести своим тигрятам; точно так же она надеялась урвать у стариков шмат любви и заботы, явно ими недоданные.
Оба «ежика» за эти годы подросли и, хоть остались такими же буками, пора, наверное, назвать их по именам, а так как мать звала их только «Генька» да «Людка», то и все остальные, включая маленькую Лельку, называли их точно так же. Последняя, кстати сказать, неоднократно получала от Надежды нарекания: «Какие они тебе " Генька и Людка", они тебе дядя и тетя», что очень смешило девочку. И «дядя», и «тетя» были крепкими, румяными двоечниками, переходившими из класса в класс благодаря своим спортивным успехам.
Но родственные отношения внуков и правнучки уж, конечно, были известны старикам, в семейной традиции которых было абсолютно закономерно и естественно баловать самых младших. Нельзя сказать, что бок о бок живущие внуки не вызывали у стариков теплых чувств, при всей своей какой‑ то недетской самодостаточности; казалось, ни дед, ни бабка им не нужны, да и никто не нужен, кроме «мамки». Между тем то у Максимыча, то у Матрены временами щемило сердце, когда смеющаяся внучка, повернув голову, вдруг оказывалась – показывалась – в профиль Андрюшей, с такими же, как у него, крупными рыжеватыми завитками; или внук, который из всех забав выбрал тоже Андрюшину – велосипед, и часами гонял на нем. Входная дверь приоткрывалась, вкатывалось блестящее никелированное колесо и набычившийся круторогий руль, так что оба вздрагивали: сейчас увидят сына, вспотевшего и радостного; но входил, придерживая велосипед за седло, румяный черноглазый подросток. Если старики обращались к внукам, то те вначале быстро и насмешливо переглядывались, словно решая, стоит ли затрудняться ответом, и только затем отвечали; это сбивало с толку деда с бабкой, оставляя странное чувство досады, даже обманутости, и от профиля, и от набычившегося велосипеда; а сердце все равно щемило.
Не исключено, что автора упрекнут в неровности повествования: дескать, какие‑ то периоды жизни стариков описаны слишком поверхностно и кратко, в то время как другие неизвестно почему растянуты, иногда с точностью до дня и мельчайшей детали, закатившийся ли это под шкаф каштан или ложка, в сердцах брошенная на подоконник Надей, лицом и так второстепенным.
Упрек был бы справедливым, будь рассказчик одет в жесткий мундир исторической хроники. Однако выбранный – или угаданный – жанр позволяет увидеть то, что не сковано требованиями исторической достоверности, оставаясь в то же время в рамках описываемого времени. В самом деле, никому же не придет в голову вести раскопки у самого синего моря, чтобы по найденным трухлявым щепкам воссоздать конструкцию разбитого корыта? Да и упреки можно отвести: ведь когда старик и старуха были еще молоды, то есть не были ни стариком, ни старухой, пульс их жизни был сильный и наполненный. Спорилась работа; рождались, вырастали и, увы, умирали дети; бурлил дом со всеми страстями землянки той или иной степени ветхости…
Теперь, когда их жизнь уже состоялась настолько, что они стали пра‑ стариками, время стало обозначаться другими вехами, и пульс его замедлился. Не только повествователь, но и они сами смогли теперь многое рассмотреть пристальней. Вся картина их жизни более всего похожа на карту, составленную из фрагментов разного масштаба, где какой‑ то крохотный квадратик вдруг выхватывается лупой и разрастается, позволяя увидеть забытые надписи, лица, имена, а то и ступеньки дома, которого давно уж нет на свете. Лупа передвигается, не ведая, чем является найденная точка: заброшенным населенным пунктом или знаком конца предложения. Следует допустить и то, что какие‑ то места карты истерлись на сгибах, края надорваны и лохматятся, да и стекло лупы замутилось – должно быть, капля упала, капля дождя.
Время тянулось, и старики жили свою стариковскую жизнь: иногда по отдельности, как старик и старуха, а временами – как старик со старухой; в этой полосе они вспоминали «мирное время», своих маленьких детей, умерших родственников и название улицы, которая всегда звалась Столбовой, а сейчас как‑ то иначе, ну да Бог с ней: Столбовая и есть Столбовая.
Время тянулось? – Нет, время ползло, хотя Федор Федорович дорого дал бы за то, чтобы оно двигалось как можно быстрее, пролетело бы так, словно его не было совсем, – вот взять этот кусок и вырезать. И не надо винить зятя ни с одной, ни с другой стороны – время навалилось анафемское, средневековое.
Он понял это еще до того, как начал думать о враче для Максимыча. По неписаному медицинскому цеховому уставу Федор Федорович мог обратиться к любому коллеге с вопросом о надежном диагносте, был бы направлен к коллеге этого коллеги, который специализируется как раз по язве желудка, в считанные недели получил бы мнение рентгенологов и по цепочке вышел бы на самого надежного хирурга, если бы «цепочка» склонилась к операции; словом, организовал бы самый настоящий консилиум в честь язвы, о чем ее обладатель, конечно же, и не узнал бы никогда.
Так ведь нет, никакого консилиума не получалось: цепочка рвалась в самых неожиданных и самых необходимых местах. Более того, один из коллег, врач, которому Феденька рассказал по телефону, что старик наблюдался в Еврейской больнице, вдруг провозгласил громко и назидательно, будто по радио выступал, что никакой Еврейской больницы не знает и ему, мол, желает того же. Федор Федорович долго сидел у телефона, растирая ладонью щеку, а на следующий день его телефонный собеседник заглянул в обеденный перерыв к нему в лабораторию и предложил «прогуляться, погодка‑ то какая».
Погодка и впрямь была на славу, будто календарь перелистать забыли: поредевшая, но яркая листва, безмятежное небо. Федор Федорович, еще не отошедший после вчерашнего, ругал себя, зачем согласился пойти, всегда был мямлей; оба закурили.
– Простите меня за вчерашний реприманд, Федор Федорович, – начал доктор, – но я ведь не самоубийца. Не только что обсуждать – название той больницы произносить по телефону отказываюсь! Что же до вашей просьбы, то ситуация аховая…
Они сидели вдвоем на самой высокой площадке, откуда была видна толстая башня старой крепости, театр и городской канал, и вполголоса говорили об «аховой ситуации», которая касалась не только тестевой язвы, но и ее тоже. Врач не просто подтвердил страшные и мерзкие слухи, ползущие по клинике, но и назвал много имен, которые не следовало упоминать в беседах с малознакомыми людьми, а лучше – ни с кем.
– В Медицинском институте уже было несколько чисток. Университет просто зачумлен; если вы хотите мое мнение, то его можно вообще закрыть – до лучших времен, если таковые наступят. Метут по всем больницам, Федор Федорович, да что я говорю: не метут, а прочесывают частым гребнем. Подождите, подождите: недолго осталось ждать, наша клиника давно под прицелом. Нас с вами не тронут; но с кем прикажете работать, с молодыми, простите за выражение, специалистами?! Так это не те специалисты, а те уже на дальней периферии – в лучшем случае.
Он бросил окурок в урну, расстегнул плащ и снова вынул портсигар.
– Подумайте: ведь ни одного еврея нам не прислали из последнего выпуска, ни одного! А пациентов видели? – Помолчал в негодовании, потом наклонился к Феде и продолжал: – У него флюс, щеку до ключицы раздуло, а он к врачу не идет: боится. Сепсиса не боится, а доктора Берковича боится!.. Вы такое видели? Нуда, вы ведь больше в лаборатории, вы с протезами работаете, а до меня такие откровения из коридора доносятся… Люди стыд потеряли. Признаться, все под Богом ходим; сегодня их прочесывают, а где гарантия, что за нас не возьмутся?
– Кто же работать будет, – хмуро вставил Феденька, – зубы‑ то надо лечить?
– К цирюльникам пойдут! – запальчиво воскликнул доктор. – В средние века это была прерогатива цирюльников, кровь пускать да зубы рвать.
Их «прогулку» трудно даже было назвать беседой; скорее, пожалуй, это был горький монолог «защищенного национальностью», как он сам выразился, врача, который не мог вступиться за своих собратьев по цеху, такой защиты не имеющих. Заканчивая, он предостерегающе поднял палец: никакой Еврейской больницы, запомните; Третья городская, и никак иначе.
Обобщая, можно сказать, что Федор Федорович узнал то, что уже знал, и теперь нужно было только научиться жить с этим знанием. Да и можно ли было оставаться наивным после всего, что он знал о войне, можно ли было надеяться, что проклятый плакат умер? Проходя по вестибюлю, он никогда, никогда не смотрел на стены, но щеку непроизвольно тер, ибо бессмертность плаката утверждалась самим окаянным временем.
Ёлку Максимыч выбирал на базаре сам, без девочки, и елка оказалась такая пушистая и славная, что хоть куда, так что обидеться Лелька забыла. Освоилась елочка быстро, словно всегда жила здесь, у Иры в комнате. Старик долго возился с какими‑ то банками, взбалтывая, переливая и смешивая, но правнучке ничего не говорил. А на следующее утро елка оказалась волшебно разряженной: на ней висели сосновые и еловые шишки, да не простые, а золотые; вернее, половина светилась тусклым серебром, половина золотом. Максимыч, выравнивая кончики усов, охотно подтвердил, что эти диковинные шишки выросли за ночь, а то как же. Матрена послушала‑ послушала, сказала «тьфуй» и велела отправляться гулять.
Какая ни есть, а все же елочка, думал старик, оттирая скипидаром пальцы; вот пойдет к Тоне, там диво, так диво; а и дома пускай порадуется.
Оставшись одна, мамынька с кряхтеньем вытащила из‑ под шкафа объемную жестяную коробку от печенья «Бон‑ Бон», намного пережившую самое фабрику, смахнула пыль и аккуратно сняла крышку.
Можно сразу поручиться, что если бы в квартиру забрались воры и «обчистили», чего старуха боялась больше всего на свете и поэтому давно переправила к Тоне весь свой не только золотой, но и серебряный фонд, так вот, если бы воры посягнули на эту коробку, то с негодованием выкинули бы ее со всем содержимым в ближайшую помойку. Только для мамыньки невзрачная жестянка содержала нечто ценное.
Что же? Сейчас станет видно, хоть это отнюдь не означает, что станет понятно. Итак, крышка снята, и прямо в перевернутую ее прямоугольную емкость мамынькины пухлые руки вынули и положили половинку свадебной тиары, вернее, ее скелетик; однако нужно быть поистине матримониальным Кювье, чтобы угадать трогательные цветки флердоранжа в нескольких измятых лоскутках. Чья это была тиара, неужели старухина? Неужели здесь и хранилась символическая завязь тех тугих апельсинов, когда‑ то, еще на Тониной свадьбе, разгаданных стариком? Но, может быть, старуха берегла дочкин флердоранж? Едва ли: слишком ветхий, да и старомодный.
Сейчас таких нет, сама себе говорила Матрена, бережно разворачивая, а потом вновь складывая убедительного размера dessous, некогда ослепительной белизны, а теперь цвета густых сливок. Пока она держала dessousраспяленными, можно было успеть заметить сложную застежку на окаменевших пуговицах, швы исключительной добротности и две торчащие накрахмаленные дыни, отделанные кружевами, которых сейчас тоже днем с огнем не сыщешь, это уж будьте благонадежны. Кое‑ где на полотне – ибо этот материал невозможно оскорбить словом «ткань» – видны пятнышки ржавчины, словно веснушки. Не оставляет сомнений, кстати, что придумавший бессмертную фразу про пифагоровы штаны явно видывал такие доспехи на бельевой веревке, застывшие от крахмала и морозного ветра.
Следом она достала маленький кошелек, почти игрушечный в своей миниатюрности. От времени и безукоризненной службы замша приобрела мягкость фланели, но кнопочка не заржавела, и вообще он молодцом.
Две крестильные сорочки неправдоподобно маленького размера; ведь если правнучка уже переросла стол, под который пешком ходила, то легко представить, как глаза и руки забывают крохотность новорожденных, – до следующего младенца. Вот эта – Лари, светлого сыночка Иллариона; а эта – Лизочки, красавицы моей, Царствие им Небесное. Старуха начинает считать, сколько лет было бы им сейчас, и благоговейно откладывает легкий, как перышко, батист.
Уже совсем близко дно, и под пальцами перекатываются бусины морковного цвета: то бывшее коралловое ожерелье, которое Матрена собиралась перенизать, да как‑ то руки не дошли. Вот еще один запасной воротничок к мужниной рубашке и даже запонки к нему, словно два обойных гвоздика легли валетом. Совершенно ни к чему напоминать, что сейчас таких нет, да и понятия такого нет: «запонка для воротничка».
Для чего‑ то хранились носовые платки, изношенные до марлевого состояния, но и выбросить их было невозможно. Две катушки с нитками настолько тонкими, что они казались нарисованными, и снова бусины.
Фотографическая карточка, снятая на тридцатилетие их свадьбы, сохранилась очень хорошо. Старуха внимательно вглядывалась в лица тех, чьи имена уже были вписаны в ее поминальный листок; потом в живых. Вот брат Мефодий с густыми, пушистыми усами, но почему‑ то без воротничка – снял, должно быть; Акулина, младшая сестра, сидит между Павой и стариком, а сам он сердитый, будто тоже воротник тесный. Она даже рассмотрела на левой руке у мужа кольцо, которое подарила ему, кольцо‑ печатку с черным агатом, да он как снял его, так и не носил больше. Долго смотрела на себя, уже оплывающую, но с гладким, совсем не старым лицом, в любимом платье бежевого шелка, и эту цепку на шее, что сейчас у Тони, тоже очень любила. Дети, все пятеро, во втором ряду, а Тайка здесь меньше, чем Лелька сейчас, Матерь Божия!..
Она отложила карточку лицом вниз, чтобы не отвлекаться, и развернула маленький тугой рулончик розоватых ассигнаций, все по двадцать пять рублей. Это ж какие деньги были, фунт сметаны три копейки стоил! Мамынька вспомнила, как муж доставал из кармана толстую пачку, добросовестно плевал на пальцы и принимался считать, а потом, махнув рукой, скидывал сапоги и шел, чуть покачиваясь, отсыпаться – и от заказа, и от трактира. Она же, пересчитав деньги, скручивала их в такой вот рулончик и засовывала Ирочке в чулок, наказывая нигде, Боже сохрани, не задерживаться: прямо в банк и обратно, одна нога здесь, другая там, что дочка исправно и выполняла, а уж в банке управляющий ее знал, не извольте беспокоиться. Хорошо жили, слава тебе, Господи, это ж мирное время было, благодать…
Разгладила розовато‑ зеленые ассигнации и еще раз посмотрела на Александра Второго. А у нашего‑ то Мефодия усы попышней… и отложила; дальше, дальше.
То, что старуха искала, лежало на самом дне, завернутое в ломкую, тусклую бумагу, рядом с профсоюзным билетом зятя, который Феденьке выдали когда‑ то в филиале ада – или в самом аду, как угодно.
Разумеется, здесь перечислены не все старухины реликвии, а лишь те, которые она брала в руки и держала какое‑ то время; что‑ то брякало на самом дне, а кое‑ что достаточно было отодвинуть «в сторонку», как говорили в семье. Напрашивается вопрос: почему столь явно дорогие сердцу вещи хранились не в шкафу, не в комоде, не в буфете, наконец, а в жестянке от печенья, пусть и «Бон‑ Бон», да еще под шкафом, в пыли?
Строго говоря, пыли на коробке было немного: очевидно, Матрена частенько кряхтела, чтобы прикоснуться к своим сокровищам. В комоде же она своих вещей не держала по той простой причине, что отдала комод в распоряжение невестки Нади, как только та водворилась: ведь никакой мебели у нее с собой не было, да и комод, если быть точными, старик когда‑ то делал для молодоженов, к Андриной свадьбе. Буфет – опять‑ таки с тех пор, как Надя вселилась, – уже не принадлежал полностью старухе; оставался шкаф, или, как называла его по старинке мамынька, «шкап».
Шкаф стоял в Ириной комнате, и его бездонной емкости вполне хватало, чтобы вмещать более чем скромный гардероб хозяйки, старика и старухи, не говоря уж о пустяковых Лелькиных платьицах, которых было раз‑ два и обчелся. Пару раз, однако же, мамынька заметила Геньку, осторожно закрывающего левую дверцу, и остолбенела. Ну, домыслить несложно: свой подзатыльник он получил, и громкая Надькина божба, что ничего не пропало, во внимание принята не была. Что там искал этот проныра, бесстыжие глаза, одному Богу ведомо; вот коробка и пригодилась. Чтоб какой‑ то сопляк, хоть и внук родной, руками лапал… не‑ е‑ ет. А под шкаф и залезть трудней, и заманчивости нету никакой – не на замке.
…Было уже темно, когда пришла Ира. Принесла маленькие, как черешни, райские яблочки и стала учить внучку завязывать петельку из нитки и вешать краснощекие плоды на елку. Где‑ то нашлись и цепкие подсвечники, которые защемляли еловую ветку и держали свечки образцово прямо. Таких невероятных достижений прогресса, как электрическая гирлянда из разноцветных лампочек, здесь еще не знали. Нашлось у бабушки Иры и немного ваты для снежных хлопьев, отчего в комнате стало светлей и прохладней, и все остановились на минуту, неотрывно глядя на елку и думая о чем‑ то праздничном. Тогда‑ то старуха и развернула ломкую хрустящую бумагу.
Это был ангел. Он сверкал, весь покрытый блестящей твердой изморозью; крылья за спиной были полуразвернуты, словно ангел поднял плечи, а опустить забыл. Одеяние из кисеи, настолько пышной, что оно с легкостью скрыло верхушку елки, тоже было украшено блестками, и чудом было то, что за все годы блестки почти не пострадали. Лицо… лицо было и радостным, и печальным одновременно, да каким еще могло быть лицо у ангела?!
Если бы девочка отвела взгляд от этого чуда, она бы увидела, что Ира вытирает слезы, Максимыч потрясенно смотрит на жену, а сама Матрена ни на кого не смотрит, кроме ангела, и лицо у нее торжественное. Что ж: завтра канун Нового года, хоть и по новому – Бог с ними – стилю.
Новый год никогда не был в доме значительным праздником, он только сопутствовал Рождеству Христову, и елка тоже называлась Рождественской. Точно так же в первую очередь праздновались именины, то есть дни ангела членов семьи, и к этому прилагались более скромные торжества: дни рождения. С течением времени последняя традиция все больше нравилась женщинам: день ангела – и к месту, но вызывала протест у детей, ревниво подгонявших время своей жизни. Нельзя забывать и то, что в советской школе устраивалась елка именно новогодняя, где никто не заикался о Рождестве – ни учителя, ни ученики. Наверное, поэтому само слово «елка» со временем утратило оба определения, то есть перестала называться как рождественской, так и новогодней. Было ясно, что словом «ель» обозначается дерево, а словом «елка» – то же самое дерево, только срубленное и в мишуре, свечках и бенгальских огнях, этой пародии на северное сияние.
Что же касается приоритета дня рождения или именин, то на стороне детей оказался поэт, приветствовавший как раз «ребенка милого рожденье», а не именины, что логично: не будь дитя рождено и одарено именем, то и ангел‑ хранитель не был бы откомандирован небесной канцелярией, а поэт еще когда вступился!..
Итак, Новый год особо не отмечали. Правда, между Рождеством и Крещением обычно собирались, чтобы встретить Старый Новый год: немного снисходительно, посмеиваясь, словно делая какую‑ то уступку традиции. В мирное время собирались, конечно, у мамыньки; после войны, несмотря на то, что время dejureбыло вроде мирное, признать его таковым defactoстаруха отказывалась. Кроме того, у Тони было и свободней, и сытней.
Собрались в этот раз не все: не было Тайки, Нади с детьми и – совсем уж непонятно – не пришел Симочка.
Зато елка, рождественская и новогодняя в одном лице, была наряжена на славу! Щедро и сухо струился серебряный дождик, переливались зеркальные шары, висели бахромчатые конфеты, более красивые, чем вкусные, и заиндевевшие сосульки, которые не таяли, а под нижними ветками притаился, как диверсант, игрушечный Дед Мороз в красном тулупе и с многообещающим мешком за спиной. Верхушку елки, которая, понятно, упиралась в потолок, украшало нечто блестящее, похожее на светофор. Ангела не было; да какой ангел мог бы осенить зловещее тринадцатое января 1953 года, день «Правительственного сообщения» о врачах‑ вредителях?!
Что собрались именно здесь, у Тони, было не только правильно, но и просто необходимо. Старики слышали все, что целый день исторгал из себя репродуктор в Надиной комнате; Ира с Мотей и Федор Федорович прослушали «Сообщение» на работе, а радио продолжало извергать жуткие слова, которые только Феденька мог бы разъяснить.
Зять пришел самым последним, ибо уйти с принудительного стихийно‑ добровольного митинга было невозможно. Первое, что он сделал – это выдернул шнур из розетки, и чеканный обличительный голос смолк – в одной, отдельно взятой квартире. Он вымыл руки – провод еще покачивался укоризненно – и вернулся в столовую. Отогнул манжеты, налил себе рюмку кагору, но не выпил, а сидел и тер щеку. Замерз, догадалась старуха; крещенский мороз не шутка. Лицо у Феди было усталое, и она впервые увидела, что он не молод, а под глазами оплыли воспаленные мешки.
– Ты мне скажи, – она требовательно повернулась к зятю, – это что же за бздуры такие, кто кого там был отравивши?
Федор Федорович посмотрел на детей, улегшихся прямо на паркет перед елкой, твердо встретил тревожные взгляды и произнес:
– С Новым годом!
В Крещенский сочельник мамыньке привиделся скверный сон. Перед этим отстояли вечернюю службу в моленной и домой пришли сильно замерзшие, даже чашку с чаем трудно было держать – красные, распухшие пальцы слушались плохо. Слава Богу, дома было тепло. Окна покрылись махровым инеем, но двойные рамы, заботливо проложенные длинной ватной колбасой, мороз не пускали. И лампадки горели, и перина была взбита хоть куда, а привиделось такое, что лучше бы и не ложилась вовсе.
В этом сне у нее были деревянные зубы. Будто бы тоже Федя сделал – на каждый день, чтобы золотые не снашивать. Однако то ли сделал плохо, то ли материал для зубов неподходящий, но старуха маялась: зубы неровные, занозистые, и жевать надо было осторожно. Только как ни осторожничай, а щепки то и дело откалываются. И главное, Федя тут же, совсем поблизости, да мамынька стыдится сказать, как ей трудно. Тоня и зять знай подкладывают ей на тарелку то одно, то другое, и все жевать надо: копченая рыба, язык… Старухе уже невмоготу, и она решает снять негодный протез, к свиньям собачьим: у нее ведь настоящий есть, фарфор да золото, совсем другое дело; да и к чему беречь, на ее век хватит. Она протягивает руку за салфеткой, в которую завернуты ее нарядные зубы. Но все на нее смотрят; не будешь ведь зубы вынимать на людях! Тарелка у Матрены полнехонька, а Феденька кладет миногу – знает старухину слабость. Она подносит салфетку ко рту и хочет вынуть гадкую деревяшку, однако деревянные зубы сидят крепко, как приросли. Матрена тянет, дергает – ни в какую. Ей страшно, тянет уже обеими руками; и пусть смотрят, лишь бы избавиться… Нет, никак не вынуть; а Феденька утешает: «На ваш век хватит, мамаша». Потом склоняется к самому уху и добавляет очень тихо: «Теперь все будут такие носить». Мамынька показывает салфетку со щепками и пятнами крови, а зять ее успокаивает: «У всех так, мамаша: и кровь, и щепки летят; привыкнете». И повторяет: «На ваш век хватит».
Старуха пробудилась с мечущимся где‑ то у горла сердцем. Уже наяву вспомнила с сожалением: надо было напомнить Феде, что у нее хороший протез есть, настоящий, не то что эта пакость.
Старик возился у плиты, ловко накалывая лучинки. Не выбежала, как обычно, а пришла из комнаты правнучка, сказала «с добрым утром» и что пить хочет, – иными словами, паскудный сон, слава Богу, кончился, надо было подыматься и жить, хотя бы и с этим пресным деревянным вкусом во рту. Старуха знала, что такой сон отпустит ее нескоро. Чтобы освободиться, надо его разгадать, к чему она и собиралась приступить после молитвы и чаю.
Самые обычные утренние звуки: потрескивание дров в плите, плеск воды в раковине, шарканье подошв – все было заглушено громким детским воплем. Лелька отскочила от стола, опрокинув кружку, из которой теперь лилась вода прямо на пол и на выпавший старухин протез. Пока Максимыч держал перепуганную девочку на руках, старуха крестила ее, кропила святой водой и опять крестила. Зареванная, икающая, она так и сидела у старика на коленках, привалившись к плечу, а он приговаривал что‑ то про Крещение: дескать, сегодня и праздник такой, вишь, баба тебя опять крестила.
Мамынька, и так находившаяся крепко не в духе от скверного сна, нахмурилась: «Пустое мелешь», но по‑ настоящему рассердиться не успела, а решительно отставив чашку, положила руку девочке на лоб:
– Да она же горит!
В старых романах каждый уважающий себя герой то и дело теряет сознание, падая без чувств на руки преданного дворецкого, и бывает подвержен таинственному заболеванию под названием «нервная горячка», которая случается по самым пустяковым поводам. Обеспокоенные домашние вызывают доктора, тоже сугубо домашнего, который появляется в белоснежных усах, черном сюртуке и – уж будьте благонадежны – с потертым саквояжем. Доктор тревожно хмурится, а мать – естественно, со следами былой красоты и уже заранее почему‑ то в черном, сжимает в руке кружевной платок.
Здесь не приходилось рассчитывать ни на преданного дворецкого, ни на мать с платочком или даже без, ни на усы, сюртук и потертый саквояж доктора, – разве что отрядить Максимыча в детскую поликлинику, ближний свет в крещенский мороз. Несмотря на то, что все симптомы правнучки указывали на нервную горячку, Матрена, которая никогда в жизни не злоупотребляла чтением романов, зато вырастила пятерых детей и вынянчила уйму внуков, заламывать руки не стала, а приготовила клюквенной воды и быстро переодела Лельку в ночную рубашку.
Девочка жадно выпила воду и зябко съежилась под одеялом.
– Спуталась, золотко?
– У‑ гу. А… они где?
– Зубы‑ то? Да у меня в роту, не бойся. Холодно тебе? А вот я платок сверху наброшу. Може, чайку тепленького попьешь?
– Не‑ е. Глазки болят.
– Закрой глазки, я лампу потушу и принесу еще водички. Старуха знала, что корь боится света, а в том, что это была именно корь, не сомневалась. Телефона в квартире не было, да и мало у кого он был в то время; так что участковая докторша – платок в клетку, тесноватое пальто и дряхлый клеенчатый портфель вместо потертого саквояжа – появилась только вечером и подтвердила Матренин диагноз. Про зубы ей ничего не говорили, да и на кой? – Чужой человек. Рассказали Ире, но лучше б не рассказывали: помертвела вся и чуть было мамыньке не наговорила лишнего, да внучка позвала – обхватила за шею и не отпускала, пока не уснула.
Ужинали втроем и как‑ то свободно – Надя работала в вечернюю смену. Старухе не терпелось рассказать свой сон, который так скоро и бесхитростно воплотился в Лелькиной болезни и перестал мучить. Ира слушала молча и только помрачнела, когда мать рассказала про угощение.
– Мама, в сочельник такая еда не к добру.
– Так я жевать‑ то не могла, – усмехнулась мамынька, – потому и не оскоромилась.
Старик подбросил полешко в огонь: он стал мерзнуть и с удовольствием сунул бы в плиту еще пару чурок, но дрова таяли быстрее льда, и нужно было их растянуть на всю зиму.
– Мне тоже скоромное снилось, – сказал он, возвращаясь к столу, – уж мы и поели так поели…
Вспоминая знаменитые романы: кому там снились одинаковые сны? Да‑ да, грешной Анне и этому, с лошадиными зубами, Вронскому. Хотя странно, что ему вообще какие‑ то сны могли сниться; правда, он был окрылен любовью, а тогда чего только не случается.
Нет, сон старика куда как отличался от старухиного. Вот он.
Будто бы сидят они с мамынькой за столиком в трактире, и человек записывает в блокнотик, что им подать, и мало‑ помалу старик осознает, что это – мирное время, ведь вот заказали паровую белугу да утку с яблоками. А сам трактир и то, что пришли! Но самое главное – войны еще не было; значит, и Андрюша с Колей живы. Они заказали раков, и пока утка готовится, раков уже подали – точнее, одного огромного рака. Надо есть, а то остынет. Старик разламывает панцирь и вылущивает тугую белую мякоть, осторожно пробует и дает жене. Матрена удовлетворенно кивает, улыбается; он кормит ее прямо из рук, и это оказывается особенно вкусно. Рак покрывает целое блюдо, и какую бы часть Максимыч ни взял, под ярко‑ морковным панцирем обнаруживается вкусная белая плоть, которую они оба отщипывают руками и едят. Обломив клешню и повернув на блюде полупустой панцирь, старик видит, что рак внимательно следит за его действиями выпученным глазом; глаз совсем живой и насмешливый. Ему делается не по себе; он боится, что жена перепугается насмерть, поэтому пытается заслонить глаз обломанной клешней. Есть он уже не хочет, а только осторожно наблюдает, не смотрит ли полусъеденный рак. Так и есть: смотрит, блестящий глаз двигается, а вот уже и ус шевельнулся. Ах, как нехорошо, как скверно, думает старик, ведь живую плоть едим! Уже проснувшись, вспомнил, что для них жарится утка, и горько пожалел, что не дождался, целиком увлекшись раком, что вначале было так упоительно, а потом жутко.
Всю жизнь мамынька была Иосифом Прекрасным – как сама себе, так и всем остальным, а потому сны трактовала, можно сказать, вдохновенно. Другой вопрос, что она не всегда справлялась с этой задачей, где самое важное – найти главный образ, который при утреннем свете трансформируется в ключевое слово. Ведь как случилось с тем сном про детскую рубашонку? Всю свою гадательную энергию Матрена направила на выяснение, который из братьев снился, живой или умерший, – ничего, ничего нельзя брать во сне от покойного, даже если очень настойчиво предлагает! А пойди она тогда другим, более предметным путем, быстрее бы разгадала и успокоилась, поскольку кто предупрежден, тот вооружен.
Сон выслушала с пристальным интересом.
– Ты подумай, диво какое: оба сна – к болезни, мне еще моя мама‑ покойница, Царствие ей Небесное, сказывала: живых раков видеть – занедужить. И про зубы то же самое: как зубы снятся, так хочешь не хочешь, а в доме будет больной. То‑ то я смотрю с утра, девчонка чимурит, а у ней жар; горячая, что печка. – И тут же повернулась к дочери: – Надо окна завесить, с корью не шутят: не дай Бог, ослепнет. Я нашла старые шторы, еще с мирного времени. Ничего, что рваные; повесь, и к месту.
С корью не шутили: окна завесили. Но и корь не шутила: крепко трепала девочку и отпустила неохотно, разжав, наконец, корявые пальцы.
Старик был рад без памяти, но уходил на базар один, без правнучки: Матрена не позволяла ей выходить на улицу: «Вот потеплеет, тогда».
– Что тебе купить? – спрашивал он, натягивая сапоги. Лелька сидела на диване, приготовив самые нужные для ожидания Максимыча вещи: пластмассовую ванночку с крохотным сидящим пупсиком, бутылку от одеколона в форме виноградной кисти и большую книжку в твердой красной обложке, на которой мудро и хитро переглядывались оба вождя.
– Папу.
– А? – переспросил бестолково, и она внятно повторила. Матрена, сотрясаясь от добродушного, без горчинки, смеха, посоветовала:
– У матки своей проси, она купит, – и ушла досмеиваться на кухню.
Озадаченный такой просьбой, в первый раз он принес многодетную матрешку с веселым лицом, оправдываясь, что пап не было. Был другой день, и опять базар, и третий… Заказ не менялся. Максимыч приносил то свистульку, то петушка на палочке или кулек орехов и, еще стоя в дверях, разводил руками: не было. Если бы речь шла, к примеру, о кукле Барби и старику было известно слово «дефицит», было бы куда проще, однако слово «дефицит» войдет в язык лет через десять, существенно опередив во времени и пространстве Барби. А сейчас была совсем свежа в памяти война и никому не приходила в голову больная мысль лишать ребенка детства посредством игрушки‑ манекена.
Закономерен вопрос: а к чему был этот чуть ли не ежедневный базар, при том, что лишние деньги карман отнюдь не тянули? Чтобы удовлетворить такое любопытство, нужно только обратиться к толкованию слова; это и вообще надежный способ: слова, как правило, могут постоять за себя, выставляя свой смысл то прикрывающим щитом, то разящим мечом, в зависимости от цели высказывания. Как раз сейчас, когда старик смотрит вслед виляющему трамваю и прикидывает, ждать ли следующего или идти пешком, и так, не придя ни к какому решению, уже минует Еврейскую улицу, то есть идет по плотному, утоптанному снегу, можно заняться персидским словом «базар», которое давно примерило на себя русский сарафан – тоже, кстати, персидское слово – да так в нем и осталось.
Гениальный русский лексикограф, как это принято, иностранного (в данном случае, датского) происхождения определяет слово «базар» как «торговлю на открытом месте», «торжище, торг, рынок», вторым значением присовокупляя «крик, гам, шум, содом». Из меню поговорок, сопровождающих слово, наиболее уместна, пожалуй, вот какая: «На базар ехать, с собой цены не возить». Вот почему и старик, и старуха появлялись на базаре, который теперь скучно назывался «центральным колхозным рынком», вскоре после полудня, когда сам базар был уже, что называется, на излете. Как местные, так и приезжие почти распродались и торопились домой, собирая нехитрую тару: мешки, корзины, бидоны. Фигуры за прилавками редели, голоса в павильонах звучали более гулко. Вот тут‑ то и наступало время пройти с рассеянным видом мимо спешащих торговцев и как бы невзначай, без интереса бросить взгляд на пустеющий прилавок: что там, сливки? … Совершенно очевидно, что хозяин не повезет домой остатки, особенно, если день был удачный; определить же это – по углу наклона бидона, ящика или по вялости мешка – было проще пареной репы. А раз сливок осталось только на дне, то можно и не пробовать – это сделали ранние простофили, они же и раскупили; поэтому довольная торговка, то есть представительница трудового крестьянства, и нальет в подставленную банку щедро, «с походом».
Вместо тусклых цинковых бидонов в павильоне, которые уже моют тугой струей из шланга, снаружи, под деревянными столами‑ прилавками, стоят на земле разлохмаченные мешки цвета выгоревшей хвои, утратившие утреннюю полнотелость, а с нею и спесивость. На дне еще бугрится картошка или тускло лиловеет свекла, но хозяин бесцеремонно высыпает… точнее, собрался высыпать остатки в лоток, но как раз в это время и появляется – совершенно случайно, разумеется, – такой вот ворошиловский стрелок в лице Максимыча. Идет мимо праздной походкой и приостанавливается, чтобы, сняв рукавицу, одобрительно пощупать картофелины (морковь, свеклу, нужное вписать).
– Хороша; рассыпчатая, небось.
– А то, – с достоинством соглашается хозяин, косясь на вокзальные часы: скоро поезд.
– Взять, что ли, – задумчиво тянет старик. – Завчера принес, баба взялась чистить, а она с пятнами; полсетки выбросили вон.
Здесь главное – не перегнуть палку, поэтому Максимыч добавляет:
– Твоя, похоже, хорошая, не мороженая, – и держит паузу, но и руку тоже держит на картошке, не убирает.
Торговец, типичный остзейский тугодум, хватает нож с поистине осетинской пылкостью и так ловко швыряет картофелину на лезвие, что – воля ваша – никак не вяжется с местным созерцательным темпераментом.
– Смотри, – он распахивает плотный и чистый золотистый срез, – смотри!.. Это не картошка, это яблоко (груша, дыня, нужное вписать, но можно и не вписывать, ибо этой заключительной ремарки не последовало: все‑ таки хозяин не осетин, нет).
– Хороша, – с восторгом соглашается старик, – хороша! Почем она у тебя?
После столь убедительной демонстрации достоинств корнеплода продавец называет утреннюю цену, но, хорошо зная, что утро давно позади, делает маленькую – совсем крохотную – заминку, поэтому Максимыч отряхивает руки и медленно натягивает рукавицу.
– Я же с тобой не шутки шучу, – замечает укоризненно, – я же тебя про настоящую цену спрашиваю.
И знает, ох знает старик, что вокзальные часы за его спиной, и как раз туда, поверх его головы, кидает взгляд торговец, потом переводит взгляд на исхудавший мешок и… произносит другую цифру. Старик кивает:
– Свесь три килочки.
Торопливо, но ловко хозяин высыпает из мешка последние картофелины, они глухо стучат в мерную чашку, и гири весов недоуменно подскакивают. Он добавляет гирю, потом еще одну, но картошка перевешивает. Взгляд продавца становится чуть ли не просительным:
– Шесть с половиной. Бери все, дяденька, картошка хорошая!
На местном языке слово «дяденька» не имеет того жалобно‑ попрошайнического оттенка, как в современном русском, так что это прозвучало очень естественно, с весьма уместной почтительностью как к возрасту Максимыча, так и к его статусу покупателя. Чтобы эта сцена не казалась искусственно затянутой, следует только свериться с реальным временем, где она длится не более десяти минут, включая сомнение, надежду, обмен репликами, снимание и надевание рукавицы, разрезание и взвешивание; эти десять минут отсчитаны беспристрастными вокзальными часами. Истекло ли это реальное время или вот‑ вот истечет, чего и боится хозяин картошки, неизвестно, однако он уже держит на весу мятую алюминиевую емкость, наполненную доверху, в то время как покупатель неторопливо достает из‑ за пазухи… не кошелек, нет, и не бумажник, а именно портмоне, и раскрыв очень бережно, чтобы не потревожить резким движением его пожилой возраст, вынимает одну синеватую ассигнацию.
– Я бы взял, – говорит старик, адресуясь более к портмоне, чем к торговцу, и только потом поднимая глаза, – я бы взял, да у меня всего пятерка осталась. Жалко, такое добро… ты уж отсыпь.
– Да я уже свесивши! Куда ж мне назад сыпать? … Бог с тобой, дяденька; забирай всю.
Продавец решительно и быстро пересыпает отборную картошку в полотняную торбу, которую Максимыч извлекает на свет куда проворней, чем портмоне. Одиноко скучавшая в потемках портмоне ассигнация вначале попадает в неряшливую разноцветную компанию сородичей и сразу после этого с сердцем, пронзенным английской булавкой, тонет в душном сапоге торговца.
Ошибкой было бы полагать, будто стоящие по ту сторону прилавка не были осведомлены о хитростях находящихся по эту сторону; знали, будьте покойны, и не только не возмущались, но спокойно принимали это знание, ибо таков закон торжища: на базар ехать, с собой цены не возить.
Был и другой резон в пользу базара, привлекающий даже таких неимущих покупателей, как старуха и старик. Возвращаясь с полной торбой, запыхавшаяся и румяная от возбуждения, старуха ликовала: совсем как в мирное время! Такая параллель всегда означала высшую степень похвалы; применительно же к базару определяла сущность той формы торговли, которая была единственно понятной старикам, торговли не только от слова «торговать», но и от «торговаться». Как «в мирное время» она могла предпочесть один неповторимый букетик редиски восемнадцати другим, и он стыдливо краснел у нее в корзинке за свою избранность, так она могла сделать это и сейчас, но не в любой зеленной лавке, а только на базаре. Более того, выбери она два букетика, скидка была обеспечена, хоть и пустяковая, и скидка такого рода распространялась на любые покупки.
– Берешь пяток яичек – плати за пяток; а два десятка уже получаешь за… это сколько же будет? Вот я и говорю: как за пятнадцать, да я выбрать могу, чтоб давленое не всучили! А в этих… лавках, – мамынька не могла себя заставить произнести слово «магазин», – разве дождешься?!
И Тоня понимающе кивала: она тоже хорошо помнила «мирное время», хоть слово «магазин» выговаривала привычно и без эмоционального акцента. Если бы ученый зять случился при таком разговоре, он улыбнулся бы и не преминул вставить: «Что ж вы хотите, мамаша, чтоб закон оптовой торговли соблюдался при самой прогрессивной экономике? » Непременно что‑ нибудь эдакое ввернул бы, и Тоня пригвоздила бы его укоризненным взглядом, а теща, повернув свое полное, разгоряченное лицо, сначала уставилась бы недоуменно, а потом махнула величественно рукой: бздуры, мол; и еще много чего добавила бы про мирное время, как будто он сам не знал. Однако Федор Федорович, который обыкновенно любил побеседовать со старухой, вернее, послушать ее и восхититься про себя свежестью восприятия, сейчас был молчалив и неулыбчив, а то и не слушал вовсе.
И еще один довод в пользу базара, с которого, может быть, следовало начать эту апологию. Отправная точка – второе значение слова: «крик, гам, шум, содом». Впрочем, в этом контексте крик мог быть – и скорее всего был – шепотом, а шум совсем негромким. Из людского крика и гама выпадало в осадок – или, наоборот, многократным повторением всплывало на поверхность – слово, другое, потом фраза… Иначе говоря, базар всегда был живой газетой, доставляя новости намного надежней, чем газета мертвая. Да; а как иначе прикажете называть газетину, которую распяли на доске, как преступницу, и фасадом, и тылом, и мало того что заперли под стекло, чтобы никто не посягнул на труп, так еще и казенного человека приставили – милиционера, дохнущего от скуки и серьезности, но не теряющего бдительности?! Может, кто‑ то из приезжих и останавливался перед препарированной и застекленной газетой, но убедившись, что «Городская правда» ничем не отличается от их «Пригородной правды», спешил дальше, боясь подумать, что случилось бы, будь в каждом городе своя правда, и не воспаряя до размышлений о правде, запертой на замок.
Люди гораздо больше доверяли «живой газете», и старик тоже внимательно прислушивался к ее голосу. Что касается средств массовой информации, то, хотя понятия такого еще не знали, сами средства были представлены в двух ипостасях: газета (не живая) и радио – всегда хриплое, но громкое. Правда, назвать его живым только на основании издаваемых звуков было бы опрометчиво: шарманка ведь тоже звучит, однако живая не она, а тот, кто крутит ручку, и это не всегда папа Карло…
* * *
Вот неделя, другая проходит, начиная отсчет куцему месяцу февралю. Солнце больше не кутается в серое небо, а светит вовсю и даже пригревает. Февральские метели не успели еще затянуть свою вдовью – или волчью? – песнь и не намели свежего снега на осевшие сугробы.
Уже несколько дней подряд Лелька выходила с Максимычем гулять. Старуха, загодя готовившаяся к масленой неделе, озабоченно загибала пальцы, перечисляя все необходимое для блинов, и велела мужу походить и прицениться. Девочка больше не просила купить папу, и он успокоился.
Все испортила Матрена: завязывая Лельке платок под капор, напутствовала:
– Зараз купишь себе на базаре батьку, если у деда денег хватит, – и сама же первая засмеялась, вернее, первая и единственная.
Девочка помотала головой и уверенно ответила:
– Не хочу батьку.
– Как «не хочу»? – удивилась мамынька. – То каждый день донимала: купи да купи, а то: «не хочу».
– Не хочу батьку, я папу хочу.
– Иди, – махнула прабабка рукой. – Я ж тебе сказала: проси у матки, она тебе враз мазурика какого приведет.
– Максимыч, я не хочу мазурика, – тихонько жаловалась девочка.
– Ты на ветру не говори, а то опять болеть будешь, – беспокоился старик, но не о ветре, а о жене: на кой, Мать Честная, было растараканивать девку?!
Если бы знал он, что Матрена перестала улыбаться еще прежде, чем за ними закрылась дверь, а вернувшись в комнату, страстно помолилась за сироту, младенца Ольгу, может, и не досадовал бы так. Да ведь слово не воробей…
А и ладно, подумал внезапно, вот увидит сама, что папу‑ то не укупишь.
Стекла в трамвае немного подтаяли. Девочка сидела на коленках у старика и думала о том же – ведь мысль передается, хоть может принимать разные направления. Она пыталась представить себе длинные деревянные прилавки с игрушками, кофтами, варежками, только вместо продавцов стояли незнакомые папы, среди которых должен был находиться тот, из ее сна.
Во сне он стоял на кухне у буфета – высокий, в сером костюме, и выглядел куда нарядней, чем продавец из магазина на первом этаже, который огромными ножницами ровно‑ ровно отрезает куски от толстых рулетов с материалами. Он стоял у буфета, немного наклонив голову, и смотрел прямо на нее, а на Лелькин вопрос: «Ты кто? » ответил: «Твой папа».
Он стоял спиной к окну, солнце было яркое, и серый костюм казался почти черным. Человек вытащил из кармана конфету и протянул Лельке. Она взяла. На картинке белый медведь стоял посреди льдины, прямо над буквами: «Мишка на севере». Тот улыбнулся: «Ешь! », однако сразу развернуть и съесть было жалко. Лелька очень хотела о чем‑ то спросить, но не могла вспомнить, о чем, а он молчал, только улыбался. Она несколько раз зажмуривалась и вновь открывала глаза, и каждый раз он протягивал ей конфету, улыбаясь, как в первый раз, и конфета была одна, хоть она то закрывала, то открывала глаза, но ничего не менялось: серый костюм, папа, улыбка, конфета.
То ли сон был необычайно четким, озаренный солнцем и озвученный непривычным словом, то ли властно заявила о себе семейная традиция, но ребенок был не на шутку растревожен видением. Тогда‑ то и начались муки Максимыча перед уходом на базар, и даже сейчас он был так рассеян, что проехал нужную остановку. Пришлось выйти на следующей и пройти сквозь рыбный павильон. Старик не собирался там задерживаться, но Лелька восхищенно замерла: «Смотри, картина! »
Картина, потрясшая воображение девочки, появилась на стене совсем недавно. На огромном полотне были изображены рыбаки, которые, борясь со штормом, в то же время вытаскивали из бурных волн сети, беременные таким уловом, что скромный баркас неминуемо должен был бы пойти ко дну. У рыбаков были мужественные, бесстрашные лица и элегантные серые шляпы. Художник изобразил момент, когда они высыпали на дно баркаса лавину серой, жестяного вида рыбы; ну, да если живописец готовился в айвазовские, то понятно, что в натюрморте силен не был. Иначе говоря, шедевром это назвать было трудно. Тем более удивительно было слышать, как странно переговаривались старик и девочка. Она спрашивала:
– Это что, «на море черная буря, так и вздулись сердитые волны»?
И старик кивал, подтверждая:
– Так и ходят, так воем и воют.
Их обходили, или, скорее, обтекали с обеих сторон, кто‑ то смеясь, другие раздраженно. Чтобы не толкали, старик обнял ее за плечи и отвел в сторонку.
– Максимыч, а зачем у них сетка?
– А это и есть невод, помнишь, как у старика?
– Ты тоже так ловишь?
– Не‑ е, на кой мне столько. Да я и без лодки, я на бережку с удочкой. Вот снег стает…
Но девочка была поглощена картиной. Терпкий и въедливый рыбный запах ей не мешал, и время от времени она переводила взгляд на прадеда, который, по правде говоря, устал восхищаться.
– Пойдем, надо еще всего чего поискать, а то баба заругает.
Лелька вздохнула, и они двинулись дальше. Вдруг девочка резко дернула его за руку и потянула вправо, к большой витрине:
– Смотри, смотри! – отчаянно закричала она, тыча в стекло. – Максимыч! Золотую рыбку поймали!..
В витрине лежали шпроты. Тусклые шайбы консервов были уложены плотными рядами, и каждую банку украшала черная полоска с вытесненной золотом рыбиной. Ма‑ а‑ ать Честная! Сейчас заплачет.
– Посмотри хорошенько, – быстро заговорил Максимыч, – да разве это наша рыбка? Разве такая рыбка в твоей книжке? – Хотя навряд ли она сейчас что‑ то увидит, подумал он; Лелькины глаза налились огромными горестными слезами, и он вытащил из кармана платок, продолжая увещевать: – Ну ты сама подумай: вон банок‑ то пропасть какая, где ж столько золотых рыбок напасешься? … А книжка? Книжка твоя как называется?
– «Сказка о рыбаке и рыбке», – прошептала девочка и почему‑ то оглянулась на картину; как раз платок и понадобился.
– Вот видишь! А тут разве так написано? Ты читай, у тебя‑ то глаза хорошие!
– И губа не дура, – вставил какой‑ то проходивший балагур.
– «Штоты»? «Широты»? … Максимыч!..
– «Шпроты», – снисходительно поправил старик. – Ну? Он стер с ожившего лица следы переживаний, крепко взял правнучку за руку и повел к выходу.
– Дедушка Максимыч, мне очень золотая рыбка нужна, я у нее папу просить буду. Поймаешь? …
– Какая погода на Сретение, такая и весна простоит, – объявила старуха, вешая пальто. – Полная моленная, как на Пасху! Жалко, что к Тоне не пошли.
Праздничную заутреню старик отстоял. Как обычно, у выхода встретили Тоню с Федей; оба стали звать к себе, но вид у зятя был такой, словно тоже язва разыгралась, какие уж тут гости. Вернувшись, Максимыч сразу прилег, накинув на зябнущие ноги старый вязаный платок. Он понимал, что Матрена соскучилась без младшей дочери, но сегодня с утра ныл живот и даже сода не помогла. Болеть дома надо.
– Не тискай деда, – строго предупредила правнучку старуха, – видишь, худо ему. Сядь, поиграй.
– Я ему «Сказку о царе Салтане» почитаю.
– Читай про султана, только не лезь на него, спокой дай. Старика немного мутило – от соды, должно быть. Из кухни шел запах, всегда такой желанный и вкусный, но сейчас хотелось закрыть дверь.
Ладно ль за морем иль худо? … – увлеченно читала девочка.
Худо, думал Максимыч. Може, надо было послушать доктора и резать? Так ведь кто ж виноват, что так получилось…
За морем царевна есть, Что неможно глаз отвесть: Днем свет Божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит…
Но тут Матрена, которая приостановилась в дверях послушать, вдруг перебила:
– Что‑ о‑ о?! Месяц под косой? Неправильно в твоей книжке написано. – Подумав, добавила: – Гребень, наверно. Как есть гребень. – Она повернулась к мужу: – А ты помнишь тот, с хризантемами? …
От‑ т баба, старик машинально подкрутил усы. Как не помнить: сам выбирал.
Десятилетнюю годовщину свадьбы праздновать не стали. Но праздник – это одно дело, а подарок, чтоб на всю жизнь память была, совсем другое; иначе он не умел. И очень хотел, чтобы подарок был неожиданным, не как всегда. Купить еще одну брошку или цепку новую большого ума не надо было… хотя и броши перебирал он, и цепи с медальонами и без оных рассматривал, заставляя их послушно стекать между пальцами по твердой ладони. Откладывал, шел дальше. Сколько этих пещер Алладина он прошел, сколько раз приказчики распахивали перед ним бархатные футляры, где в атласных потемках дремали ожерелья, браслеты, серьги! Сокровища эти были прекрасны, но тридцатитрехлетний старик отодвигал футляр за футляром, благодарил и шел дальше.
Драгоценности подобны цветам, а ювелиры – цветочницам: как только солнце начинает садиться, и те и другие сворачивают торговлю и прячут свой нежный товар от темноты. Оставалось два магазинчика. Нажав кнопку, он вошел в первый. Через несколько минут снова хлопнула дверь, впустив молодую даму с орхидеями; следом вошел офицер. Перед Максимычем на черном бархате лежали камеи, словно фотографическая карточка выпускников гимназии, снятых в профиль.
От бездумного созерцания его отвлекло громкое «ах». Офицер быстро нагнулся и пружинисто поднялся, протянув спутнице оброненную заколку; и вот она, сняв шляпу, вновь прилаживает ее в высокую прическу, а приказчик услужливо поворачивает зеркало и замечает вполголоса: «Парижская работа, замочек деликатный очень, с густыми волосами намучаетесь…» Дама, узнав, что у нее густые волосы, благосклонно улыбнулась и спросила яшмовые серьги. «Сожалею, сударыня, – приказчик огорчился лицом, – зато имеются с малахитом, изволите взглянуть? …» Но дама уже натягивала перчатку, повернувшись к спутнику. Приказчик выровнял зеркало, отчего лицо яшмовой дамы пропало и криво вылез бок, на который легла рука в мундирном рукаве, промелькнул удаляющийся локоть и кивающие орхидеи. Бесстыжие цветы, что в них находят, раздраженно подумал старик и только со второго раза услышал вопрос приказчика.
– Для густых волос, и чтоб надежно, – ответил сердито.
– Заколки? Гребни? Имеются черепаховые японские, ручной работы, – приказчик ловко, как официант, убрал с глаз постылые камеи, отпер витрину и извлек на прилавок совсем другое.
К этому подошло бы название «убор». Поверхность, отполированная до гладкости кожи и даже теплая на ощупь, зубья цвета крепкого чая… Впрочем, слово «зубья» казалось неуместным; они скорее походили на тонкие, льющиеся пряди волос.
– Это, осмелюсь заметить, предпочтительнее для брюнеток. Для дамы или для барышни выбирать изволите?
Старик не слушал, он рассматривал инкрустацию: выполненный золотой вязью журавль с перламутровыми крыльями нес в клюве белые цветы, нежные и пышные.
– Хризантемы, – подслушал и встрял приказчик, – это у самураев вроде как у нас розы, самые авантажные цветы.
Чешуйки перламутра как нельзя лучше составляли рисунок цветков и чуть взвихренное оперенье птицы. Кто присмотрелся бы внимательнее – а именно это старик сделал, – то заметил бы и блестящий, совсем живой глаз журавля, откровенно говорящий: «Что, Гриша? Это тебе не орхидеи, тьфу на них совсем! »
– Для родственницы, – деликатно кашлянул приказчик, – или для супруги? – на что Максимыч невнимательно кивнул, обрекши бедолагу на полную неосведомленность, и продолжал рассматривать убор.
Трезубые изогнутые шпильки отверг не колеблясь: не дай Бог, ребенок в рот потащит. Отложил в сторону гребень и не удержался от тщеславного вопроса:
– Косу в аршин – удержит?
Приказчик, торговый человек, привыкший и к менее безобидным причудам, уважительно подхватил диалог:
– Толстая, должно быть, коса?
На что Максимыч гордо показал в ответ кулак. Это было так же убедительно, как и цена гребня, но покупатель не торговался, и приказчик, рад‑ радешенек, перешел в более доверительный регистр, даже голос понизил:
– Коли супруге дарить, то можно вскорости прибавления семейства ожидать; аист – он не только хризантемы приносит.
Старик хмыкнул добродушно: «Благодарствую» и весело добавил, что и без аиста, слава Богу, управились: троих родили. Хорошо поговорили.
Аист то был или журавль, а и года не прошло, как Тонька родилась, это тебе не Цусима.
…Вспомнилось все сразу и вперемешку, но очень ярко: шелест рисовой бумаги, в которую завернули гребень, шуршание отсчитываемых денег, почтительное: «С покупкой вас! », а дома – недоверчивое изумление жены, шпильки из распускаемой косы и – «дай, я сама, ты не умеешь», немой восторг, потом: «ах! », напомнившее даму, заколку и орхидеи эти, будь они неладны.
Он осторожно повернулся и увидел Лельку. Девочка стояла к нему спиной, а в зеркале был виден глаз, вздернутый нос и плотно сжатые губы. Она медленно поворачивалась из стороны в сторону и, кося глазом на обложку книги, строго рассматривала свое отражение.
Прежде чем позвать ребенка, старик перекрестился и шепотом повторил: «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко…»
Кончался праздник Сретения.
Сам по себе запах теста для блинов – так, ничего особенного, это не пасхальная сдоба, но обещает многое. Живя у самого синего моря, в рыбном краю, старики привыкли встречать масленицу со своими излюбленными деликатесами. И уж, конечно, эти деликатесы покупались не в рыбном павильоне: к описываемому времени трудящиеся уже отвыкли от изобилия и вспоминали о нем, только листая толстую, с тисненой обложкой «Книгу о вкусной и здоровой пище», о которой при желании можно написать еще более толстую. Однако как ни хороши и аппетитны яства, там описываемые, а все ж на стол не подашь, тут и Матренины блины не помогут.
Помогали – рыбницы. Незаметные, в каких‑ то одинаковых серых платках и длиннополых пальто, эти женщины ходили с тяжелыми корзинами из дома в дом, как делали это прежде, в мирное время. Правда, тогда они не старались казаться незаметными, а, наоборот, громко и гордо возвещали на обоих языках о своем товаре. Этот достойный промысел советская власть давно и прочно занесла в графу «спекуляция», так что рыбницы соблюдали осторожность – так же, естественно, как их старые клиенты. Мужья ловили рыбу, а солить ее, коптить и продавать было прерогативой жен.
Старик со старухой были давними покупателями, некогда постоянными, щедрыми и почетными; теперь они перешли в разряд редких, но были по‑ прежнему уважаемы, наглядно являя разницу между почетом и почитанием.
Один раз повернулась бабочка звонка, издав короткий треньк. Старуха торопливо впустила посетительницу, осмотрела коридор, прислушалась и только после этого закрыла дверь.
– К празднику вам, тетенька. – Рыбница бережно приоткрыла корзину, затем развязала платок – в кухне было тепло.
Тусклые копченые угри, бронзовые шнуры миног, лососина в серебристой кольчуге с приоткрытой коралловой плотью, золотящаяся копченая салака толщины совершенно реликтовой – одним словом, рыбное «все что», и каждый ряд переложен промасленной пергаментной бумагой.
Старуха брала всего понемногу, и рыбница ловко упаковала ровные пергаментные свертки. Несколько фраз, процедура товарно‑ денежного обмена, и вот женщина уже тщательно закрывает корзину и завязывает платок. Нет, они не пили чай и не беседовали о детях и внуках, хотя вполне могли бы, – впервые рыбница позвонила в эту дверь совсем молодой, держа под беременным животом тяжелую корзину: рыбы свежекопченой не желаете, сударыня? Слава Богу, в тот раз она ее здесь почти и разгрузила; с тех пор появлялась регулярно и всегда кстати. Шло время, из недели‑ другой складывались годы, и лицо женщины огрубело не только от соленого морского ветра, но и от этих недель, да и покупательница не молодела. У обеих рождались новые дети, а затем и внуки. Ни одна не помнила, чтобы между ними об этом говорилось, но какими‑ то непостижимыми путями и та и другая немало знали друг о друге; уж не рыба ли рассказала? … Мало‑ помалу Матрена становилась – и стала – старухой, и рыбница, конечно, тоже, но друг для друга они, разумеется, не менялись. Когда рыбница не могла прийти сама, то бабочку звонка таким же коротким движением поворачивала ее дочка и вносила ту же корзину.
Здесь, у самого синего моря, менялись времена‑ и с ними нравы, моды, названия, флаги, правительства, деньги, но немногословная связь этих двух женщин оставалась такой же постоянной, как рыба и море, ее рождавшее. Те немногие слова, которые звучали, они произносили – из взаимного пиетета – на двух языках: рыбница – чтобы сделать приятное старухе, и viceversa, а что рыбница почтительно называла Матрену «тетенькой», хотя сама всегда была просто «рыбницей» и только изредка – Мартой, так то было уже традицией.
Сегодня старуха назвала ее Мартой: то ли давно не виделись, то ли потому, что и впрямь март был на носу. Рыбница Марта, подхватив корзину, отправилась дальше, к Моте, где ее ноша стала намного легче, от него к Тоне, а затем путь ее ведет домой, к самому синему морю, и след, заносимый февральской вьюгой, теряется – до следующей оказии.
Продукты, боящиеся тепла, держали не в холодильниках, о которых тогда не знали, а в погребах или темных кладовых; в холодное же время было еще проще. Прямо под кухонным окном снаружи дома в стену был встроен металлический карниз, похожий на корзину с редкими прутьями. Летом туда выставляли комнатные цветы, и тогда дождь заново лакировал фикусы, столетники с наслаждением вытягивали острые корявые пальцы и суетилась пустяковая герань. Но это еще когда будет, а сейчас, в феврале, старуха приоткрыла левую раму и уложила пергаментные свертки на решетку, где уже дожидалась блинов тяжелая банка со сметаной. Метель дунула в лицо, моментально присолила снегом пакеты, а дерзкий февральский ветер сунулся за Матреной в теплую кухню, где сразу согрелся и утих.
А запах теста, обещавший так много, воплотился в блины, но описывать их можно, только хорошенько распробовав…
Первые блины ели у стариков, после Вселенской субботы. «Первые», но не первый: его старуха, перекрестясь, положила на окно. Не оттого, что он вышел комом: блин был ровным, золотым и ажурным, – а на помин усопших родителей, как делалось всегда.
На следующий день отправились к Тоне. Здесь все было иначе: как всегда, нарядный и обильный стол, вышколенные, почти взрослые дети, мебель в чехлах, и даже запах – нарядный.
Да, дети подросли. Сын Юраша уже хмурился на свое детское имя и хотел, чтобы его называли Юрием; лицом был копия отца, только волосы ежиком. Что ж, последний год доучивается, уже бриться начал, хотя что там брить. Его сестра звалась Татьяной… Вернее, была крещена Татьяной по настоянию молодого отца: влюбленный в жену, Федя радовался, что теперь у него будет не только Тонечка, но и Танечка. Малышку все, вслед за гордой матерью, называли ласково Таточкой, или Татой. Светленькая, с нежным голоском, приветливая девочка так Татой – или Таточкой – и осталась. Стеснительная, как все подростки, Таточка была нрава тихого и отличалась безропотным послушанием: старательно делала уроки, дружила с девочкой из хорошей семьи, играла на пианино, а недавно стала брать уроки рисования. Тоня очень гордилась и рисованием, и музыкой, и только муж знал, что гордится она не столько успехами дочки, сколько самим фактом, что к ней на дом приходят учителя. Знал, но ничего поделать не умел, да и не до того было.
Мамынька была в особенно приподнятом настроении, как почти всегда у Тони; Ира с Федей, тоже как всегда, переговаривались тихонько, голова к голове, и Тоня упрекнула с шутливой строгостью: «Сестра, шептаться неприлично! Где больше двух, там говорят вслух». Лелька, маленькая крестница, вдруг заплакала громко: крышкой пианино ей придавило пальцы, и девочка не успокаивалась, но в это время неслышно вошла кошка, остановилась и вытянула по паркету лапы в позе старательной прачки на берегу. Завороженная, Лелька сползла с бабушкиных колен и двинулась к экзотическому зверю. Женщины вслух сочиняли посылку Левочке: пятого марта парню исполняется двадцать один год.
Старик ел мало – не хотелось. Две рюмки холодной водки усыпили язву, и он немного повеселел. Зять, наоборот, был хмур и часто уходил в кабинет курить, но и курил как‑ то угрюмо. Справился о здоровье, медленно покивал, но рассеянно как‑ то, точно считал что‑ то в уме. На осторожный вопрос про больницу даже руками замахал: «Куда?! Там сейчас такая свистопляска, будто Мамай прошел, нечего и соваться!.. » Уже в дверях столовой обронил непонятно: «Апокалипсисом пахнет».
Лелька пыталась кормить кошку черной икрой, поскольку сама этого продукта не понимала, но кошка оказалась упрямой. Пока не увидела жена, Федор Федорович отвел инициативную крестницу в ванную и умыл, повторяя все ту же непонятную фразу, хотя пахло блинами.
Посылку для Левочки собрали на славу. Максимыч придирчиво осмотрел шаткий, занозистый фанерный ящик. Экое паскудство; постукал молотком, укрепляя углы; вздохнул. Ира дописывала письмо, макая ручку в чернила и задумываясь, прежде чем поставить точку. Из комнаты пришла Лелька, обеими руками держа рисунок.
– Ты что за чуперадлу намалевала? – остановила ее Матрена.
– Это не чучело, – насупилась девочка, – это я кошку дяде Леве нарисовала.
– А кто ее царапал, кошку твою? – продолжала старуха.
– Никто. Это у нее полоски.
– Красные и синие полоски? Какая ж это кошка, это царский флаг. Бывало, как праздник, всегда молебен большой; ну и флаги вешали… как твоя чуперадла.
Лелька положила листок на стул и стала доводить кошку до совершенства, по очереди слюнявя то один конец карандаша «Победа», то другой. Кошка хорошела на глазах. Если слово «молебен» говорить много раз, будет очень похоже, как в моленной звонят. А флаг – красный! «Правда, бабушка Ира? » – «Правда, – улыбнулась та, – давай свое поздравление».
Может быть, Федор Федорович и верно сказал о запахе Апокалипсиса: на Лелькином рисунке тощая красно‑ бело‑ полосатая бестия, держа у бока красное знамя, шла прямо по неровным буквам «ЗДНЁМ АНЬГЕЛА».
На дно положили поздравление от крестных в отдельном конверте и несколько баночек икры. Старуха упаковала кое‑ что из Мартиной корзины и несколько носовых платков с собственноручно вышитой монограммой. Что приготовила для сына Ира, никто не знал; просто достала из шкафа сверток и переложила в ящик.
– Все, что ли, – засомневалась мамынька.
– Ну да, – отозвался старик, – а икру он как исть будет?
– С хлебом, – припечатала Матрена, – как еще.
– Хоть с хлебом, хоть с молитвой. Банку‑ то чем открывать, пальцем?
Это был звездный час Максимыча. Он вытащил из кармана свой складной ножик, быстро и привычно отогнул твердым ногтем все, что было отгибаемо, и, защелкивая обратно десертную ложку, произнес с торжеством:
– Можно и без хлеба. – Дыхнув, потер о рукав и протянул дочери: – Заверни в мягкое, чтоб не стучал. Пусть будет память от деда.
…Ножик ему подарил Фридрих. Таким же движением достал из кармана и вложил прямо в оторопевшую руку, игнорируя возмущенное «на кой», – бросить нож Максимыч не мог. Фридрих произнес только: «Золинген», будто это объясняло подарок. Ножик был не новый: судя по тому, что Фридрих с ним не расставался, можно было сообразить, что пленных в той, первой, войне обыскивали кое‑ как. Деревянная рукоятка была твердости и гладкости безукоризненной, а все лезвия внук и так помнил с закрытыми глазами. То‑ то ему радость будет, старик чуть подкрутил усы, да и потерять не потеряет, там особое колечко есть, на конце рукоятки…
Он так сладко задумался, к чему можно прикрепить ножик, что едва не пропустил свою очередь. На почте пронзительно и тоскливо пахло сургучом и влажной фанерой; люди, обступив высокие, неудобные столы и ссутулив плечи, поминутно тюкали в чернильницы казенными перьями, будто птицы клювами постукивали. Почтарь макал лучинку в железную бадейку, где пыхтел горячий сургуч, тянул длинную шоколадную соплю, шлепал на ящик; затем бережно припечатывал штампом. Молодой ведь мужик, недоумевал старик, наблюдая, как тот угрюмо пялится в бланки, записывает что‑ то в толстую книгу, потом опять ворожит с сургучом. Чтоб ему поближе банку поставить: ишь, тянет, чисто нитки мотает, а тяжелые ящики у него бабы ворочают. Правильно люди говорят: ума палата, да не почата.
На улице Ира начала высчитывать, дойдет ли к пятому марта. Сошлись, что на все Господня воля, и она заторопилась на работу.
Старик шел пешком, втайне надеясь нагулять аппетит. Конечно, не евши, так и немудрено, что с трудом ящик донес; хорошо, дочка не заметила. Мимо прошла цыганка, зацепила его взглядом, но сама же и усмехнулась: не клиент. Он тоже улыбнулся и даже потянулся к усам, но машинально; кого‑ то эта цыганка напоминала, что‑ то недавнее. Максимыч посмотрел назад, но люди, выходящие из трамвая, заслонили ее, и он увидел только мелькнувший и скрывшийся яркий платок. Да больше и не надо было.
Свой сон, подсказанный и заданный тем первым блином на масленицу, он вспомнил сразу. Папаша приехал откуда‑ то и привез матери в подарок платок: огромный, с тяжелыми кистями, в ярких цветах. Но вот уж отца не видно, а мать сидит и плетет косу, и маленький Гришка старается поймать в зеркале ее взгляд. «То ты», – произносит она наконец и целует его в голову, потом отстраняет и начинает распускать только что заплетенные волосы. Черные волнистые пряди покрывают всю спину, а она берет новый платок и повязывает, но не на голову, как обыкновенно, а на плечи; укутывается им и требовательно смотрит в зеркало.
Старик жил с этим сном весь следующий день, а душу щемило вдруг ожившее сиротство. После обеда прилег на диван, закрыл глаза и тут же увидел ее перед зеркалом, в новом платке, и как притянула его голову и поцеловала. А потом он забыл, как и все прежние, и этот сон, забыл напрочь, если б не цыганка.
Дома еще погадали, вовремя ли дойдет посылка и как там, в летном училище, дни ангела справляют.
Между тем посылка двигалась своим ходом, приближаясь, пока суд да дело, к месту и времени своего праздничного назначения. До суда, однако, «дело врачей» не дошло по самой уважительной причине: генеральный режиссер этого бреда умер. Умер, буквально смертию смерть поправ, а кавычек нет, и пусть читатель не вздрагивает: поистине, своей смертью он избавил от смерти неисчислимое множество людей.
И посылка пришла вовремя. Но если день рождения невозможно было праздновать при всенародном трауре, то уж день ангела – самого милосердного ангела – в тот день чтили и верующие, и неверующие.
И было утро, и наступил новый день. Как всегда, около базара, у входа под виадук собрались инвалиды, но не было слышно ни обычной перебранки, ни зубоскальства: оттуда несся глухой вой.
Уберегла святая владычица: сегодня он ребенка не взял. Топчась на своих утюгах, они рыдали и вытирали красные, сморщенные плачем лица о плечи – или не вытирали вовсе. Скорбный вой нарастал; «убогонькие» приближались со всех сторон, голося: «Батька! Сталин!.. » и срываясь в булькающий хрип. Слава Богу, повторял Максимыч про себя, слава Богу, что не видит, и торопливо зашагал прочь.
Весна началась Великим постом. Март стоял голый и скудный, как стол, за который они садились, и даже мерзлая снежная крупа походила на обледеневшую перловку. В мясной павильон старуха не заглядывала, но по‑ прежнему приносила с базара яички и сметану для правнучки.
– В мирное время, – угрожающе говорила при этом Матрена, – она б у меня не смела в такие дни яйца исть; мы детей не так держали. – Готовить изысканные постные яства, как тогда, старуха уже не могла: постоянно обнаруживалась нехватка то одного, то другого, пока наконец махнула рукой: сыты – и слава Богу, сколько нам надо.
Надо становилось все меньше. Старик съедал несколько ложек каши, поблескивающей постным маслом, и отодвигал тарелку. Старуха бушевала, виня во всем папиросы:
– От‑ т махорка проклятая, грех один, даром что Великий пост!
Максимыч пережидал первые раскаты, потом кивал на зеркало:
– Грех? …
Мамынька с разгону замолкала, потом бросала с вызовом:
– Грех, – но тоном давала понять, что если зеркало и грех, то заслуживает прощения скорей, чем табачище, дьяволово зелье.
…Испокон веку, вернее, с тех пор, как появились зеркала, они почитались – если это слово здесь уместно – у староверов грехом, дьяволовым наваждением. Держать зеркало в доме – беса тешить; иконы и есть зеркало, ибо божественный лик являют. Но из всех способов тешить беса именно этот грех, будучи, в сущности, достаточно невинным, незаметно, но уверенно внедрялся в дома, где жили не только староверы, но и староверки; внедрялся и завоевывал все большую благосклонность жен и дочерей. А кто сам без греха, пусть бросит в них камень, только чтобы в зеркало не попал.
Впустив мало‑ помалу бесовскую игрушку в дом, хозяева, однако, тщательно соблюдали неписаный закон и вешали иконы так, чтобы святые лики не отражались в лукавом стекле. Отношение к зеркалу явно поменялось, но люди старшего поколения – и, конечно, мамынька – избегали подолгу тщеславиться, да и на кой. В родительском доме зеркал в помине не было, и, сколько себя помнила, она причесывалась «наизусть», чуткими, зрячими пальцами укладывая косу, когда та была еще в аршин и в кулак, а уж теперь‑ то и подавно. Другое дело платье прикинуть или что.
В комнате стоял шкаф с овальным зеркалом во весь рост и высокое трюмо, сработанные Максимычем. Лелька с удовольствием пялилась в оба зеркала и очень терялась и недоумевала, когда дверца шкафа распахивалась, уводя куда‑ то полкомнаты и притушивая солнце, бьющее в окна. Ей было строго‑ настрого запрещено молиться рядом с зеркалами и заглядывать в них сбоку, чтобы увидеть край иконы. Удержаться от второго было очень трудно.
В мире – а значит, и в комнате – становилось все светлее и ярче. Весна приоделась, распушила прическу и выпустила на молодую травку веселых желтоклювых дроздов. Близилась Пасха. На Страстной неделе Максимыч и Матрена стояли вечернюю службу каждый день, потом шли домой, почти не переговариваясь, каждый думая неведомо о чем.
И надо же – в ночь на среду мамыньке такая жуть привиделась! Она дома одна и топит плиту; кто‑ то в дверь стучит. Нет чтоб позвонить, раздражается во сне Матрена, но дверь отпирает. Собака. Стоит и глядит на нее осмысленным, совсем не собачьим взглядом. Прогнать бы, да и к месту; старуха машет, топает, но тварь только смотрит укоризненно. Идет в кухню, ложится прямо у плиты. Замерзшая вся, и между ушами у нее снег лежит. Матрена боится собаку, а прогнать боится еще пуще. Собака это понимает, а самое главное, знает, о чем перепуганная мамынька думает. Лежит перед топкой и смотрит неотрывно. Согреется и уйдет, думает старуха; в кухне жарко, но снег на голове у собаки не тает.
В тоске и смятении утром отправилась к Тоне. У дочери был сонник, а главное, нужно было поделиться.
Тоня выслушала сочувственно: такое – да на Страстной! – и принесла из спальни книгу.
– Собака, вызывающая симпатию… Нет, это не то…
– Какая симпатия?! – взвилась мамынька.
– Подожди, мама, я же ищу… – С тихим недоумением Тоня пропустила строчку: «твои бесстыдные влечения и животные страсти».
– Вот: «на тебя лает…» – она лаяла?
– Не‑ е, ни разу не гавкнула.
– «Кость грызет…»
– Не грызла никакую кость!
– «Собачьи ласки…», «собаки дерутся…», «ехать верхом на собаке…», «бешеная», «убить собаку», «собачья стая»…
– Говорю тебе: у ней снег на голове лежал и не таял!
– «Она грозит укусить…»?
– Посмела б она только кусить, – возмутилась мамынька и чуть прикусила губу, вспомнив о своем страхе.
Тоня прилежно дочитала всю страницу, но мать только сильнее раздражалась – то ли сон попался крепкий орешек, то ли книжка дрянь.
– Убери ты, к свиньям собачьим, ну ее совсем. И уже в дверях обернулась:
– У тебя шафрану много?
Дома старуха не находила себе места, а толку? Невестка сон выслушала с любопытством, но поджала губы: нам сны не снятся. Мы романов не читаем. Кто был «нами», она не объяснила, но авторитетной интонацией дала понять, что клан могучий.
В ожидании Иры мамынька рассказала сон правнучке. Та поинтересовалась, не приснилась ли и кошка тоже, а потом попросила:
– Бабушка Матрена, расскажи про «бывало»!
Старуха часто упоминала это слово. Округлое, как облако, оно скрывало для девочки что‑ то никогда не виденное и далекое, и она была не только благодарным слушателем, но даже кивала иногда с таким знающим видом, что Матрена не могла сдержать улыбки.
– Про что тебе рассказать? – спрашивала она для разгона. – Разве про то, как меня папаша мой, Царствие ему Небесное, на ярманку брал? На‑ а‑ ро‑ о‑ ду‑ у! Отовсюду, бывало, понаехавши. Всего чего, а громко как! Я спутаюсь, бывало, так папашенька мне сразу пряник медовый покупал. Или крендель.
– На трамвае ехали? – деловито спрашивала девочка, уже увидевшая ту «ярманку» и петушка на палочке вместо кренделя.
– Зачем? У папаши свои лошади были. Сядем, бывало, в телегу– и махни драла! Там трамвая и не было. Это ж где, это в Ростове было, – спохватывалась она. Задумывалась и прибавляла: – Може, и сейчас нету, откуда ж? … А как сватать меня приезжали?
Лелька кивнула:
Наутро сваха к ним на двор
Нежданная приходит…
– Что ты мелешь, – с досадой оборвала прабабка. – Я говорю, на тройке сваты приезжали, никто по дворам не ошивался.
Рассказывая, она временами замолкала, то ли пытаясь вспомнить родной дом тому назад пятьдесят пять лет, то ли видя себя и хлопотунью‑ мать, озабоченную неведомой судьбой красавицы Матреши. И то сказать: отдать за богатого – гора с плеч, а там кто знает, как оно повернется. Долго, однако же, не думали: как вошли сваты да перекрестились на икону щепотью, так и не вышло долгого разговора; хорошо, что лошадей не распрягли.
– Шепотом перекрестились? – переспросила девочка.
– Не шепотом, а щепотью. Тремя перстами. Ос‑ споди, что за ребенок! Ну вот мы как персты для крестного знамения складываем? Правильно; а то православные были. Им что лоб перекрестить, что щи посолить.
– А ты? …
– Что – я? Я двумя перстами крещусь, – и Матрена сложила пухлые пальцы.
– Не‑ е. Как ты поженилась.
– То потом уж было. Прадед твой, Григорий Максимыч, посватался.
– Тоже на тройке? – с надеждой спросила девочка.
– Нет, верхом приехал, он и папаша его. Для Лельки это было привычно и понятно:
Сват приехал, царь дал слово,
А придание готово:
Семь торговых городов…
– У нас на Дону, – строго перебила Матрена, – приданое за невестой не дают, этого и в заводе нет. Жених ее с ног до головы одевает как куколку. – Она помолчала. Нет, приданого у нее не было, если не считать искусных в рукоделии рук; должно быть, потому мать и дала ей с собой тяжелую штуку льна, но это уже потом, когда уезжать собрались.
Громкое шипение плиты вспугнуло зыбкое облачко «бывало», и оно уплыло куда‑ то далеко. Старуха бросилась к плите.
– Весь суп выплывет, – укоризненно закричала она, – что ж ты не говоришь ничего? … – будто Лелька была виновата.
Вечером мамынька взялась за Иру.
– Вот ты книжки читаешь, – начала она, косясь на невесткину дверь, – може, там пишут что про сны?
Собака, нетающий снег, и как смотрела – все по кругу, чуть не опоздали к вечерне. Глядя на тревожное лицо жены, старик догадался, что сон не отпускает. Ну а это не грех – во время молитвы про собаку думать? Да если подумать – все грех; опустил глаза на сложенные руки. Рядом стоял старший сын. Все здесь, привычно и покойно думал Максимыч, кроме Симочки, этот давно забыл дорогу в храм. Хорошо, если на Рожество и на Пасху заглянет, а уж к исповеди Бог знает сколько не ходивши. Андри нет, Царствие ему Небесное, и где он упокоился, Бог весть. И ведь какие разные от одних матки с батькой! Старшие, Ира с Мотей, лицом в мамыньку пошли, а гордыни от нее ни капли не взяли; Андрюша такой же был. Младшие, Тоня с Симочкой, наоборот, с виду– в него, а спесивы, как три рубля.
Под конец размышлений чуть было не усмехнулся, да вовремя убрал улыбку в усы. Выходит, поровну: кроткие и гордые. Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змии. Грех, спохватился он, не о том думаю, хотя в глубине души знал, что мысли не отпустят. Да и где думать о главном, если не в храме? …
На улице был только один фонарь, и человеческий поток редел медленно.
– Что ж ты раскапустилась? – недовольно спросила у Иры зоркая мамынька.
– Голова болит, – процедила та, разжевывая таблетку. Федя зашел сбоку и взял ее под локоть:
– Тебе надо врачу показаться, сколько можно мучиться. Я прямо завтра и разузнаю. – И тут же повернулся к тестю: – Будем обследоваться, папаша, зачем тянуть.
– Не надо, – махнула старуха рукой. – Еще с масленицы отпустило, даже соду не пьет. У тебя ведь не болит? – спросила у мужа.
Нет, не болело.
«Прямо завтра» у Федора Федоровича не получилось: замотался, хоть ненавидел это слово, на работе. Да он и не любил ничего делать второпях, а надо было решить, к кому лучше обратиться. Хорошо, что теперь было к кому: желтый бред кончился, умер, канул в прошлое. Можно было выбрать любую формулу – главное, что его больше не было. На дверях кабинетов опять появились таблички с исчезнувшими именами, и оживленней становились в коридорах клиники. Но, к изумлению Федора Федоровича, радовались не все: нашлись и разочарованные, причем по обе стороны кабинетных дверей. Оставаться слепым и глухим было невозможно, и нет‑ нет да и взлетала рука, терла щеку. Вождь умер, но дело его бессмертно. Вот и пойми, кончилась эта чума или перешла в латентный период, но таких вопросов Феденька никому, кроме себя самого, не задавал.
Дома тоже было хлопотно, правда, хлопоты были только приятные. Сын заканчивал десятилетку, и Федя с Тоней, как любые родители, ни о чем не могли думать, кроме экзаменов, аттестата, выбора будущей профессии, а значит, института, и думали об этом едва ли не больше, чем сам Юраша. Разумеется, Федор Федорович хотел, чтобы сын поступал на медицинский факультет, и хотел этого так же страстно, как тот, прежде никогда родителям не перечивший, не желал об этом слышать. Его можно было понять: если ребенок с детства видит такое количество скорбных зубами, сколько их видел Юраша, он может либо стать фанатиком и продолжать дело отца, либо возненавидеть и больных, и врачей любого профиля на всю жизнь.
Фанатиком сын не стал. Он успешно учился, но никаких предпочтений в школьных премудростях не выказывал, поэтому в доме все чаще стали говорить о политехническом институте: на то он и «поли», чтоб из него вылущить какое‑ то «моно» – и прикипеть душой. Представить себе, что можно жить и работать без этого последнего компонента, Федор Федорович не мог, как не мог бороться с набирающим силу снобизмом жены.
А тут и пасхальные хлопоты. Конечно, шафран у Тони нашелся, да что там шафран – все нашлось, ибо директор «Центральной бакалеи», примерив новые зубы, не только свечки ставил за Федино здоровье. Описывать подготовку, стол или просто меню было бы негуманно по отношению к читателю, тем более что было уже описано, было.
В этом году пасхальное застолье отличалось от предшествующих не только изобилием, но и многолюдностью, так что между стульями пришлось класть доски, чтобы всех усадить.
Симочкины ребятишки, все трое, сидели рядом с Лелькой, которая приходилась им племянницей. В этот раз появилась Таечка, но только к застолью: в моленной ее не видели. Зато сюда пришла зачем‑ то с подругой, отчего мамынька не только вскинула бровь, но и нахмурилась: такого в заводе не было, чтоб чужих за пасхальный стол звать вот так, «просто с мосту». Другое дело – Надька. Намекнула, что хочет сестру Ирэну пригласить; что ж, пусть приходит. Им‑ то она – никто, а невестке – своя. Пришла с дочкой, на пару лет только постарше правнучки, а вышколенная, без книксена слова не скажет. Сидят с Надькой, между собой трещат не по‑ русски и быстро‑ быстро, чтоб не понять было, да где в таком шуме расслыхать? …
А вот Камита, Ирина крестная, которую встретили на кладбище, была самой почетной гостьей. Сколько лет не виделись, шутка сказать! До войны они владели несколькими домами на Нижней улице, жили в достатке, а уж сколько жертвовали на храм, на богадельню, на сирот… Кто сейчас помнит об этом? Муж после Сибири прожил недолго, детей Бог не дал. На Нижнюю улицу Камита ни ногой – что ж душу теребить; живет где‑ то около Маленького базарчика.
Старик сидел рядом и старался не мешать разговору дочки с крестной. Камита погладила Лельку по волосам и повернулась к нему:
– А что, Григорий Максимович, с тобой да Матреной уже четыре? – Она с улыбкой переждала его недоумение и пояснила: – Четыре поколения, – кивнув на правнучку, которая забиралась на колени к матери.
Максимыч был потрясен простотой и величием истины. Он молча переводил взгляд с одного лица на другое. Мотя рядом с четырьмя детьми выглядит старше своих лет. Сенька почти лыс. Старшие внуки говорят совсем мужскими голосами. Красавица Тайка в алом шелковом платье держит Лельку на коленях… Ну да: внучкина дочка, так и есть – четыре. Налил себе водки, выпил; пожевал упругую корочку пасхи и долго сидел, улыбаясь и старательно выравнивая кончики усов, время от времени недоверчиво покачивая головой.
Во главе стола Матрена голосом и взором свой пышный оживляла пир, хоть необходимости в этом не было ни малейшей. Гости разговелись и насытились, поэтому их голоса напоминали антракт в театре, где общий ровный гул то и дело разбавляется отдельными репликами и обрывками разговоров.
– Кто ей шьет, неужели мать? …
– Зависит, сколько до этой работы ехать. Если по часу, так мне и денег этих не надо…
– Какая ты большая выросла, скоро в школу пойдешь!..
– Из селедки все кости вынешь, порубишь меленько…
– Сабинка, проше пани, как мою матку…
– Вот получит аттестат зрелости…
– Не, млека немае, нету…
– Я сказала: или – или, сколько можно на двух стульях…
– А он? …
– …в танке горел! Мы за Сталина жизнь отдавали!..
– Бывало, дашь дворнику гривенник, так потом…
– Потом яйцо крутое покроши, и опять майонез, но лучше…
– Лучше бы, может, по докторской части, ввиду того…
– Он сразу: «Что ты имеешь в виду? »…
– А ты? …
– Ты мне налей красненького, во‑ о‑ он того…
– Он «того», я тебе говорю, думает, на дуру напал…
– Ма‑ а‑ ам, а ты не уйдешь? …
– Чья это такая цыганочка? Тебе сколько лет? …
– Сколько лет, сколько зим, Камита Александровна, Христос Воскресе!..
– Когда все сложишь, вот так руками немножко помнешь…
– Осторожно, детка, ты мне помнешь платье новое…
– Это еще в мирное время было, когда приносили домой…
– Домой приходят, и по музыке, и по рисованию, а как же иначе? …
– Иначе, говорю, ты даже дорогу сюда забудь…
– А он? …
– Не забудь: желтки отдельно, белки отдельно…
– Отдельно, конечно. Пианино всегда в понедельник и в среду.
– В среду, на Страстной, мне во снях такое…
– Что такое там, на овальном блюде, во‑ он… Да!..
– Да я… Я хоть сейчас за Сталина драться готов!..
– И готов! Как вскипит, сразу поставь в холодное…
– Ты холодное не пробовала? Объедение!..
– Ма‑ а‑ м, ты не уйдешь с тетей, ма‑ а‑ ам, ты не…
– На третьем курсе, а в летнее время…
– А сколько время? …
Лето, пыльное, горячее и веселое, наступило быстро – как на велосипеде въехало – и громко звенело по городу. Максимыч намекнул правнучке, что сначала можно на речку, а потом в парк, но старуха и слышать об этом не хотела. Нет, и к месту.
Она была крепко не в духе, но если бы спросили почему, то разгневалась бы не на шутку, ибо и сама причины не знала. Даже молилась с напряженной бровью, что уже ни в какие ворота. Лельку, которая ходила за ней по пятам, чтобы послушать про «бывало», сурово отослала в комнату и велела собираться в баню. Девочка обреченно притихла: баня с бабушкой Матреной была испытанием на стойкость. Духота; все неприличные, потому что совсем голые, даже продавщица из хлебного магазина; вода нестерпимо горячая, и как ни жмурься, в глаза попадет мыло. Баба Матрена будет ругаться, что она плачет, а она не плачет, это из‑ за мыла слезы текут. Потом водой окатят и понесут вытираться. Тут не передохнешь: бабушка закрутит в пушистую простыню так, что трудно будет дышать. О том, как будут расчесывать волосы, лучше не думать.
Матрена яростно выдергивала из крахмальных стопок нужное, с досадой убеждалась, что вытащила не то, а «то» – в самом низу, и гневалась еще сильнее. Ос‑ с‑ поди, Исусе Христе, что же это делается? …
Все, что ни делалось, делалось, по мнению мамыньки, не так. Все жили неправильно и не только не слушались доброго совета (понятно чьего), но упорствовали в своем «не так». Уж на что Тонечка: всегда на ней сердце с отрадой успокаивалось, а поди ж ты – выкамаривает с детям сама не знает что. Ты научи девку, что сама умеешь, она тебе потом спасибо скажет; ей школу кончить – и замуж, на кой эта музыка?! И Юраше мозги спортили: нет, чтобы Федя к зубному делу парня привадил – и чисто, и благородно, и копейку считать не прискучит. Так нет: мало того что десять лет в школе сох, его в институт пихают – говорят, еще на пять лет волынка.
Ирка тоже хороша: то в молчанку играет, то платок завяжет и лежит – голова болит. А у кого не болит? В запальчивости риторического вопроса старуха упустила, что как раз она головной боли не знала. Кому бы помолчать, так это Надьке: как в двери, так и затрещит, так и закудахчет. Под воскресенье волоса закрутит, напудрится – и к сестре. Замуж ей надо; и сама еще хоть куда, и Геньке твердая рука нужна. Только не так все просто: вернется под вечер туча тучей, даже не трещит, туфли на каблуках так в угол шваркнет, что ясно – очередь не стоит ни за ней, ни за сестрой. Може, и стояли бы, да на войне остались, а кто вернулся, того не надо – вон ползают около базара, покромсаны, что короли да валеты, христарадничают…
Она с сердцем выдернула детский сарафанчик, переложила на стул. Да… Про Симочку думать было особенно больно, но не думать не получалось. Дармоедом живет, и хоть бы хны! Не сватался, не женился, а уж третий народился. Так все и записаны на маткину фамилию. Чем ему Валька плоха? Да если плоха, спохватилась старуха, что ж детей‑ то на свет пускать? Та тоже хороша: «Уеду, уеду, Польска, Поль‑ ска», однако дальше раковины – кровищу смыть – не едет, да Симочка и не пускает, все ее бумаги спрятавши. В кого, Господи?! Стыд, стыд‑ то какой!..
Вытащила махровую простыню для ребенка, льняную для себя: привычка. Так, теперь что? – исподнее и чулки.
На Мотю посмотреть. А что Мотя? Вроде все есть, живут как люди, дети здоровы, слава Богу, дом – что картинка, сад‑ огород, только радости в глазах нету. А откуда ей взяться? – Пава так и честит его, даже детей не стесняется. За что? – чистосердечно не понимала старуха, ведь домой вернулся, из дому ни шагу; за что?!
Мочалка большая, мочалка маленькая, мыло; расческу не забыть. Она выволокла из‑ под кровати овальную цинковую ванночку и большой эмалированный таз для себя: общие шайки – Боже сохрани.
Этот простофиля… чего удумал: ребенка на рыбалку тащить, унеси ты мое горе! Мамынька смутно догадывалась, что грехи детей, подлинные и вымышленные, в натуральную величину или несколько раздутые, стали привычны, как утренняя боль в пояснице, тогда как своеволие мужа настораживало, ибо к такому она не была готова. Не то чтоб он поперек говорил – до этого, слава Богу, не дошло, разве он смеет? – а только мамынька знала, что если не говорит поперек, так не потому, что не смеет, а просто не слушает ее, и от этого раздражалась пуще. Вот как сегодня: сказано, чтоб и думать забыл про свои бздуры, а он стоит с удочками, усы скубает и – ей‑ Богу! – улыбается. Передается мысль, передается.
Старуха остервенело упихала в полотняную торбу всю банную снасть и недовольным голосом позвала девочку:
– Я что, целый день тебя поджидать буду?
Хоть мысли и передаются, раздражение и недобрая досада жены не догнали Максимыча. Он сидел на берегу речки, удовлетворенно покручивая усы. Пару раз леска уже многообещающе натягивалась, и старик оставался на месте, хотя ныла спина, и надо бы походить, размять.
Старик много раз представлял себе, как внук открывает ящик и достает Фридрихов ножик. Вряд, чтоб у кого из парней другой такой был. Про тот крючок, что в рукоятке, он так Левочке и не рассказал, все отговаривался: подрастешь маленько, тогда. А сейчас внук кончает свое училище, и как домой приедет, так скажу: сам нипочем не догадается.
Мысли перескочили на Фридриха. Вот с кем больше не свидеться. Максимыч ругал себя, как мало знал о нем, мало расспрашивал. Откуда он – Германия тоже большая? Так и застряло в голове: «фатерлянд», даже голос Фридриха услышал. С какой семьи? Сам немец никогда не рассказывал; може, сирота? Одно знал: ни жены, ни невесты у Фридриха в «фатерлянде» не осталось, но старику было любопытно, каким он был в детстве. Человек начинается в ребенке. Улыбнулся, подумав о правнучке. Вся в Иру, матка там и не ночевала. Тоже из кротких, словно шепнул кто‑ то. Он полез за папиросой.
Сколько ни старался, не мог вообразить Фридриха мальчиком, зато осязаемо почувствовал теплую пыль под собственными босыми ногами: вспомнил, как бежал навстречу отцу, скачущему на коне, и храп осаживаемой лошади, а остаток пути к дому – с отцом, сидя впереди него на непривычной высоте, когда лиц других ребятишек уже не видно, а только макушки. Вспомнил отцову фуражку с красным околышем, которую всегда старался надеть таким же ловким движением, как он, а фуражка неизменно наползала на уши, норовя скрыть весь белый свет. Мать, выбежавшая на крыльцо, тревожно ощупывает глазами не мужа, а сына, и отец, должно быть, хмурится, но Гришка этого не видит. Он глядит на мать и немного стыдится ее маленькой, худенькой фигуры: точно девчонка, и не скажешь, что уже четверых родила; другие казачки вон какие дородные. Он знал, что был у матери любимцем – вот как Симочка у бабы. Усмехнулся. Опять вернувшись в тот летний полдень, увидел отца в доме, с влажными после умывания волосами на лбу. Все уже за столом, и он, перекрестившись, режет хлеб щедрыми ароматными ломтями, а потом первым погружает ложку в щи.
Клюнуло!.. Отбросив окурок, начал осторожно тянуть. Не зря ждал, выходит. Ну, ну… вот он, родимый, губастень‑ кий мой! Чисто конь казацкий. Налим отчаянно извивался, и в лепке головы действительно было что‑ то лошадиное. Вспомнилось отцовское присловье: «без коня казак хоть плачь сирота».
Старик легко опустил налима в бидон. Теперь можно и разговеться, тихонько сказал сам себе, вытащил из кармана початую бутылку с водкой и сделал аккуратный глоток. Потянув за цепочку, достал часы и начал собираться домой. Связывая удочки, представил себе, как поставит бидон… Куда, на стол или на буфет? – лучше на буфет. А потом можно и в баню сходить, попариться… Про баню вспомнил, а Лелькино ведерко – для золотой рыбки – чуть не оставил, Мать Честная!
Вот это и есть старость, вдруг догадался он, одолев подъем на Кленовую улицу, которая и вправду была засажена по обе стороны выпуклого булыжника кленами. Нет, не то, что стало трудно подыматься или тянет прилечь, а что сам себя дитем видишь, да так ясно, будто в книжке картинки разглядываешь. Хотя таких ярких картинок в книжках не бывает. Старость – это когда детство ближе, чем минувший день. Тут ведь что вчера, что завтра – один в один, как солдаты. Вот внук появится: скорей бы, давно не виделись; да не забыть про крючок. Мамынька костит‑ чихвостит всех до одного, а на кой? … Да скучно ей. Малолетство на память еще не приходит, вот и лается по‑ пустому.
Старик безнадежно взмахнул рукой, зацепив удочкой картуз. Остановился, поправил; вошел в прохладный сумрак парадного. Доживать надо, и чтоб в душе спокой был, а как это растолковать – Бог весть.
Вот неделя, другая проходит, а Левочки все нет как нет. Надеялись встретить в июне, а приехал он только к Спасу, уже август шел к концу. Задержался в связи с распределением, да и приехал всего на месяц: ждала служба в далеком Севастополе, а у молодых военных не бывает долгих отпусков. Мать, неистово ждавшая его приезда со дня на день, была и обрадована, и растеряна. Новенькая летчицкая форма поразила воображение не только племянницы, но и соседей, которые встречались на лестнице и почтительно отступали к перилам, от чего Лева конфузился, как девочка.
Максимыч тихо ликовал, глядя на внука. Старуха не отходила от плиты, что в августе было нелегко, но переубедить ее было невозможно: ребенок все на казенном да на казенном, должен домашнего поисть. Взрослый… какое там «взрослый», Ос‑ споди, совсем мальчик! – так вот, взрослый внук поглощал бабкины пироги за милую душу и улыбался, глядя в ее разгоряченное радостное лицо. Он многозначительно переглядывался с дедом: не оттого, что хотел сказать ему что‑ то важное, а пряча за мнимой многозначительностью отсутствие нужных слов, как всегда бывает между любящими и близкими людьми, долго бывшими в разлуке.
Разговора с сестрой, забежавшей, по обыкновению, ненадолго, не получилось. Тайка окинула брата насмешливым взглядом и послала почему‑ то воздушный поцелуй, сопроводив фальшиво спетой фразой:
Нам разум дал стальные руки‑ крылья,
А вместо сердца – пламенный мотор!..
В ее голосе была какая‑ то уязвленность, отчего не только Левочке, но и всем стало неловко. Может быть, оттого, что впервые дочка не выбежала ей навстречу, а снова и снова примеряла перед зеркалом новенькую дядину фуражку и так была поглощена этим занятием, что не заметила ее появления?
Глядя на заразительно жующего внука, Максимыч тоже поел, хоть и через силу, и теперь старался подавить накатившую дурноту.
– Ну, – спросил он, как будто и не расставались, – когда на рыбалку пойдем?
– Да когда хочешь, – внук с готовностью поднял голову, – хоть завтра! Дед, а чего ты такой худой?
– Исть не хочет, чимурит, – пожаловалась внуку старуха. – Пару ложек, вот и вся еда.
– А сколько мне надо? Я старый уже. Да и живот полный – не лезет больше, ремень чуть сходится.
– Дед, а давай лучше послезавтра? Тогда и дядю Федю с Юрашей позовем, а? Давно я не рыбачил!..
Поев, Левочка засобирался к крестным, хотя что там было собираться – он даже чемодан не распаковывал. Честно говоря, уходить было жалко, но у них просторней и, главное, привычней. Интересно, куда Юрашка поступает? …
Ехать – от силы полчаса на трамвае, но так не хотелось расставаться, что все тоже засобирались его проводить. Кроме сестры, впрочем: она ушла так же неожиданно и быстро, как и появилась.
На трамвайной остановке Матрена недовольным голосом провозгласила:
– Ишь, чисто табор цыганский.
Муж в который раз подивился: ну баба! Ведь такая радая, такая радая, а голос, будто ее в лавке обсчитали.
В трамвае, куда сели, конечно же, всем «табором», его снова затошнило от тряски. Лелька, глядя на дядю завороженными глазами, обдумывала, как попроситься к нему на самолет, старуха торжественно обещала пироги с яблоками: «Вот как Спас пройдет»; слава Богу, приехали.
У Тони сразу началась суматоха. Она кинулась накрывать на стол, а мамынька громко обижалась: «Он только от стола! » Дочь еще громче возражает, что не видела крестника три года; шутка, что ли, так теперь и чаю не попить?! Таточке велено было что‑ нибудь сыграть для двоюродного брата, и она смутилась до слез, однако села и послушно заиграла, но тут выяснилось, что тот не слушает, а разговаривает с Юрашей в кабинете, где, кстати, ставят уже его старую – еще с мирного времени, сейчас таких не делают – раскладушку. Тоня мечет на стол разные лакомства и одновременно готовит ванну для племянника. Хорошо, что Федор Федорович отвлек Ирину разговором: не нужно ей видеть этот покровительственный взгляд сестры; скорее всего, она и не видела.
Левочка садится рядом с Юрашей и улыбается всем сразу, а улыбка у него совершенно чудесная и ямочки на щеках. Он очень похож на мать округлостью лица и этой молчаливой улыбчивостью. День и ночь – парень и девка, дивится Максимыч. В одной семье выросли, Мать Честная! Отодвигает рюмку и чашку, тихонько отодвигает, чтобы Тоня не обиделась. Тошно сегодня что‑ то; видать, переел. Целый день он ждал оказии, чтобы поговорить с внуком о ножике – есть там секрет один; но не получалось. Теперь уж на рыбалке поговорим.
В среду, на следующий день, праздновали Спас. Несмотря на вторую смену, Ира решила поехать на работу с утра, похлопотать об отпуске, ведь сын приехал. Мать, собираясь в моленную и закалывая булавкой шелковый платок, уверенно сказала:
– Дадут! Не смеют не дать.
Покосилась на спящего Максимыча. Левая рука его лежала под головой, а правая на валике, непривычно худая и бескровная, так что крепкие квадратные ногти, казалось, были ей велики. И правда, совсем сдохлый стал, встревожилась она и решила не будить: пусть поспит, завтра на рыбалку вставать чуть свет. Должно быть, Ира подумала о том же и взяла внучку с собой.
Старик проснулся от солнечного луча. Не сумев разбудить Максимыча сразу, тот дотянулся до зеркала и уперся в шлифованный край лукавого стекла, заразился этим лукавством и перекинул шаловливую радугу на лоб и глаза, отчего веки задрожали и открылись, чтобы сразу же сощуриться, а лучик запрыгал на усах, и старик улыбнулся. «Ты зачем меня щекочешь, Лелька, – негромко сказал он и повернул голову к окну, – Лелька? …» Все проспал, одним словом сказать.
Никого дома не было. Преображение Господне, Спас, вспомнил старик; все в моленной. На столе из‑ под салфетки был виден край тарелки – для него. Он даже не приоткрыл: от запаха еды может вернуться вчерашняя муть. После умывания встал на молитву.
Молился долго, осеняя себя точными, скупыми крестами и низко кланяясь, потом застывал, сложив руки замком. Ничего не было слышно, кроме шелеста отдельных слов, хоть губы двигались, а взгляда он не отрывал от Той, кому посылал страстную мольбу. Всю жизнь он прибегал к Ней, единственной заступнице, в минуты горя, восторга, тоски, досады, ликования, растерянности, торжества, унижения, гнева, смирения и отрады, потому так часто от сердца к устам летели слова: Мать Честная, Царица Небесная!.. О чем он молил Ее? Чего просил в это августовское утро Святого Преображения?
Он так пытливо и просительно вглядывался в светлый лик, что сам себе напоминал написанного на иконе коленопреклоненного грешника. Богородица же, Мать Честная, наклонив с пониманием голову к плечу, смотрела не на того, нет! – на него, Максимыча, но смотрела с печальным сомнением: ох, не знаю, Гриша, словно и вправду не знала. А може, и не знает, внезапно догадался старик, ведь вот свое дите держит, а про Него… знает ли? Старик давно отошел от канонического текста молитвы и, по‑ прежнему стоя прямо, со сложенными на животе руками, горько жаловался на что‑ то и смиренно просил: силы, дай мне силы, Мать Честная, просил настойчиво, какребенокуматери. Разговор перешел на жену, и торопясь, обгоняя собственный шепот, старик оправдывался – и снова просил, теперь уже снисхождения. Ты не смотри, что она костопыжится, она добрая, просто нрав такой… как у полицейского. Вот она к Симочке что ни день бегает, думает, я не знаю, Мать Честная! Что Симочка – ей ребят жалко; да и Вальке легче. Ты не смотри, что дома она высмеивает Вальку: она жалеючи; Мать Честная, помоги! Кого ж просить, как не Тебя? …
Молился – и молил – о детях, о внуках, но о кротких ли паче гордых или наоборот, не слышно было, да и кому слушать‑ то? Разве зеркалу? Грешное стекло не отражало, слава Богу, святых ликов, но стоящего в профиль старика, со сложенными в замок руками, чуть задранной бородкой и усами, ни разу сегодня не приглаженными, – это лукавое стекло увидело и запомнило навсегда.
Ни души не было в квартире, однако Максимыч так и не поднял голоса, только шепот шелестел неразборчиво. Известно ведь: чем тише и смиренней молитва, тем скорее она будет услышана.
Весь день получился ленивый. Иногда старик дремал, и ему виделось, как они с внуком пойдут на рыбалку, и зять с Юрашей. Вернее, все будет не так: сам‑ то он с Федей пойдет, а мальцы впереди. Да так и надо, они ж соскучились; пусть. А сесть поближе к Левочке и так, в разговоре, спохватиться: я сегодня ножик не взял; у тебя с собой? Ну и сказать…
Уже темнело, когда старуха позвала пить чай, но Максимыч был такой вялый, что даже лукавить не пришлось. Так и спит не евши? А завтра чуть свет… Однако тревожить не решилась.
Он спал и удивлялся во сне: знал, что внук уже приехал, а ведь только что посылку ему отправил, как раз с почты идет. Впереди мелькнул знакомый платок, и Максимыч торопится, обгоняет людей; так и есть – та самая цыганка. Она тоже узнала его, кивает и манит за собой. Старик удивляется, но идет. Вот они оказываются на Песках, идут по Калужской улице, а идти все трудней: ноги вязнут в рыхлом песке. Он уже не удивляется, что цыганка уверенно заходит в их старый дом; просто идет следом. Женщина садится за стол, почему‑ то спиной к нему, и вынимает карты, ловко щелкнув колодой, будто веер раскрыла. «Я тебе погадаю», – говорит, и карты мягко шаркают по столу. Цыганка резко выдергивает несколько, и платок у нее развязывается. Она поворачивается – и он видит мать. Оторопев от радости, хочет спросить, когда и как они померли, но застывает: раз мамаша живая, то и отец, должно быть, жив, она ж молодая совсем. Бросается подымать упавший платок, но мать его останавливает и показывает карты: они все – чистые. Пустые.
«Чуть свет» – это было сильно сказано, конечно. Левочка прибежал в восьмом часу, один: Юраша сидит, зубрит, а дяде Феде сегодня на работу.
Мамынька провела увлекательнейшее утро: старик поделился своим сном, и теперь она, имея такой богатый материал, вслух примеряла все сочетания и знаки, которые должны были лечь в основу наиболее гармоничного пасьянса.
– Цыган всегда хорошо видеть, – звучал ее высокий, уверенный голос. – Вот мне, бывало, во снях сколько раз то цыган приснится, то цыганка – так все к прибыли.
Муж не стал интересоваться, о какой прибыли она говорит, только ус подергал, чтоб улыбки не было видно. Матрена азартно продолжала:
– Мать увидеть – счастье тебе будет. – Задумалась: – Постой; это когда живую. А если померши? … Знала я, да сейчас на ум не приходит. Надо у Тоньки спросить. Вот про карты знаю, но если играть. А что ж такое, когда тебе гадают, да еще родная матка‑ покойница? Только, если пустые, так може, это и не карты были?
– Карты. Целая колода, я и рубашки видел.
– Что ж такое, что пустые выпали? Дай спокой, не скубай ты усы Христа ради!
Внук, терпеливо слушавший старухины гипотезы, быстро соскучился:
– Дед, а у тебя удочка найдется?
– А то! Вон, я у дверей поставил, и мне, и тебе.
– Ты смотри там, – значительно наказывала внуку старуха, – дед вчера совсем расквасивши был; долго не сидите. Мне к Тоне надо, у ней книжка есть…
Вставая из‑ за стола, Максимыч поперхнулся, но вместо того, чтобы сказать свое обыкновенное «Мать Честная! », бросился к раковине.
– Подавился, Ос‑ с‑ споди. Дай я тебя по спине стукну! Но в раковине старуха увидела кровь.
Внук беспомощно сжимал в руке удочку. В училище бы сразу санчасть вызвали, а тут…
– Сынок, – закричала Матрена, – бежи скорей в аптеку, скажи, что коркой подавился, пусть позвонят, скоренько!
Левочка помнил этого аптекаря всю жизнь: толстые седые волосы зачесаны набок и чем‑ то густо пропитаны, а лицо такое красное, словно пемзой тер. Аптекарь посмотрел куда‑ то поверх его уха, выслушал и поднял трубку, повернувшись к Леве в профиль. Узнав адрес и ожидая ответа, спросил вполголоса: «Мастеру Иванову внук будете? …», но тут же вернулся к трубке и строго произнес: «Горловое кровотечение»… И опять к Левочке:
– Вы идите, сейчас «скорая помощь» приедет. Осторожно в дверях, – но Левочка не понял почему, он уже мчался обратно. С ним поеду, не хочу, чтоб один.
«Скорая помощь» оказалась очень скорой, и два дядьки привязали Максимыча к носилкам. Бабка кричала, что корка острая попалась, «може, протолкнуть надо, я по спине хотела постучать…» Бородка была в крови, и ему подставили под щеку кривую ванночку. Чтобы вырвало, догадался внук. Ира кинулась было следом, но санитар посмотрел хмуро: «Не надо, мамаша. Вон парень пусть поедет», и начали спускаться.
– Придерживай, парень, голову, чтоб не задохнулся, да не так: чуть набок и выше; нуда. Не разговаривай, нельзя ему.
Ехали быстро; миновали дедову больницу. Левочка удивился, но спросить было неловко. Вихрем проскочили центр и покатили через мост. Мокрым полотенцем, которое сунула в руку бабка, он осторожно вытер кровь с бороды, и Максимыч улыбнулся. Дед поглядел куда‑ то вбок над его головой и подмигнул, но Лева ничего не понял. Старик закашлялся, санитары осторожно приподняли его с двух сторон и посадили.
«Скорая помощь» сделала плавную дугу и остановилась, обрезав надпись: «…лезная больница». «Полезная»? «Железная»? Его подтолкнули:
– Парень, ты первый выходи, да в дверях осторожно.
Но он уже спрыгнул на тротуар прямо перед застекленной дверью: «Городская туберкулезная больница. Приемный покой». Деда ловко пересадили в кресло на колесиках и тут же укатили за дверь с матовым стеклом; Леву туда не пустили.
Из другой двери появилась пожилая врачиха и начала задавать вопросы про деда. Фамилия, имя, отчество? Национальность? Адрес? Год рождения? Он запнулся, припоминая, но точно вспомнить не смог. Пока докторша записывала его ответы, окуная ручку в широкую, как ступенька, мраморную чернильницу, Левочка бездумно рассматривал крахмальный белый колпак и странно накрашенные губы, словно она окунала их в помаду, как в варенье, а не мазала, так что рот принял совсем другую форму.
– Давно в мокроте кровь?
Он не понял. Врачиха объяснила. Левочка пытался рассказать про язву, а вообще‑ то дед здоровый, мы сегодня на рыбалку собирались, и…
– Это ясно, – усмехнулась врачиха своим неприятным ртом.
Может, она не знает, а то давно бы стерла лишнюю помаду?
– Субфебрилитет есть? … Температура, спрашиваю, какая?
– Не знаю. Нормальная, наверное.
– Снижения веса не отмечали?
– Да, – торопливо заговорил он. – Три года назад, когда я на каникулы приезжал, он был… он не был такой худой.
Докторша начала кивать, как человек, наконец‑ то добившийся понимания.
– Распишитесь вот здесь, внизу. Значит, мы вашего дедушку госпитализируем. Не могу сказать пока. Нет. После рентгена, только после рентгена. Нет, к нему нельзя. Не волнуйтесь, тут все сделают.
– До свидания. – Он не знал, что еще сказать.
– До свидания. Молодой человек!
Лева обернулся.
– Здесь больница, а не аквариум, – произнес рот. – Вы хоть в дверях аккуратней!
Садясь в трамвай, он удивился, что не помнит врачихины глаза; даже не мог сказать, в очках она или нет.
Хорошо, что крестная сунула в карман деньги. Через час он уже вбежал в парадное и взлетел на второй этаж. Тоня открыла дверь и всплеснула руками:
– Лева, на кой ты удочку принес? …
Так безмятежно начался старухин день, так много сулил интересного! Она только начала обживать мужнин сон, расставляя, по своему представлению об уюте, все на свои места, даже к Тоне собралась: что там в сонной книжке написано, а потом и к Симочке забежать – благо, рядом. Только все, как известно, пошло кувырком. Растерянно пометавшись по кухне и наговорив Ире на весь отпуск вперед, она бросилась к Тоне, но отнюдь не за сонником; про Симочку и думать забыла. В прихожей столкнулась с потным, растерянным внуком, которого они с Тоней тут же закидали вопросами.
– Это что же, к чахоточным отвезли?! Он там Бог знает какую заразу подцепит и в дом притащит! Я говорю, корка острая попала… – Сама себя оборвала и подвела итог: – Федю надо.
Дочь и сама это знала, как знала и то, что муж вернется только вечером.
– Ты покорми ребят, мама, – сказала властно, совсем как мамынька! – а я к Федору Федоровичу в клинику съезжу.
Фразу она договаривала уже в передней, надевая перед зеркалом шляпку. Щелкнул замок сумочки, а потом и дверной, а Матрена сидела, обмахиваясь платком и обводя требовательным взглядом стол и плиту. Что ж, детям исть надо.
* * *
Федор Федорович выслушал все подробности, включая, естественно, острую корку, записывая что‑ то на календарном листочке, и мягко выпроводил жену домой. Нужно было сосредоточиться, а Тоня говорила, как дома, громко и авторитетно; ассистентка не поднимала глаз от журнала, но страницы не перелистывала.
Оставшись один, он вытащил записную книжку, но не раскрыл. Сидел, потирая щеку и крепко зажмурившись. Как стыдно, Господи! Проворонил, проворонил. Крутился возле сына, как наседка, а тут… В туберкулез Феденька не верил, но… лучше бы туберкулез: санаторий, питание – дай Бог каждому, и – как новенький.
Щека горела. Он нетерпеливо листал книжечку. Кто там остался в туббольнице? Зильбермана, Зильбермана надо… он даже застонал чуть слышно. Февраль 53‑ го, инфаркт. Айбиндер? – Перевелась куда‑ то на Дальний Восток. Гельфанд, Гриндин, Девякович, Кушлер, Цейдлин, Шур… С кем же они теперь работают?! Кто, собственно, «они», кто там главный? Можно, конечно, позвонить, представиться… После пароля «коллега» трубку не бросят – предложат зайти в приемные часы, когда один дежурный врач на отделение. Рискнуть? А, пан или пропал! Замер. Вот кто нужен, не там искал: пан Ранцевич!
Высокий и худощавый, совершенно лысый в свои неполные шестьдесят, но неизменно веселый, с насмешливыми голубыми глазами навыкате, доктор Ранцевич был таким ярко выраженным поляком, что иначе как «пан Ранцевич» его не называли. Бонвиван и женолюб, перед которым ни одна женщина, будь то медуза горгона из Минздрава или юная лаборантка с обкусанными ногтями, не могла устоять, и даже кариатиды, казалось, готовы были бросить балкон и идти за ним по коридору. При этом чаще всего он прогуливался по набережной в обществе матери, назвать которую старушкой было бы то же самое, что его самого – просто Ранцевичем.
Мужчины ему завидовали. Поговаривали даже, что на прием к Ранцевичу записываются дамы со здоровыми зубами. Женщины молчали. И с теми, и с другими пан Ранцевич был приветливо ровен и доброжелателен. О его доброте и отзывчивости, особенно в 52‑ м, знали немногие.
Федя – знал. Это было время, когда в день зарплаты пан Ранцевич заглядывал в тот или другой кабинет и собирал деньги, первым делая нескудный взнос, потом сам обходил квартиры арестованных коллег. Риск был огромный, но пан Ранцевич интуитивно знал, к кому обращаться не следует, высказываясь в обычной своей насмешливо‑ загадочной манере: «К пролетариям я не адресуюсь: этим нечего терять, а значит, не дадут». После паузы неожиданно добавлял: «Они только приобретают».
Курил он редко, но в верхнем кармашке всегда носил тонкий янтарный мундштук, который часто вынимал и быстрым движением проводил над верхней губой, вдыхая запах. Если бы вместо мундштука оказался карандаш или стебелек травы, этот жест был бы так же уместен не из‑ за какого‑ то особого изящества, а потому только, что принадлежал пану Ранцевичу.
Не прошло и десяти минут после телефонного разговора, как в дверь постучали и в проеме показалась лысая голова. Ассистентка Феденьки, заалев, потянулась к сумочке за зеркальцем, но пан Ранцевич уперся костяшками пальцев в ее стол и попросил «Вестник дантиста», номер м‑ м‑ м… третий. Нет, за прошлый. И четвертый… тоже.
– Проше, пани, – добавил ласково, склонив голову к плечу, и «пани» сломя голову бросилась в библиотеку.
Повернувшись к Федору Федоровичу, доктор проделал манипуляции с мундштуком, сел и тоже вынул записную книжку.
– Туберкулезная, вы сказали? Найдется, найдется кто‑ нибудь. Уже… И вот. И еще! Вопрос, кто нам полезнее. Вот что: я позвоню прямо сейчас, а поедем вместе, сразу после приема – м‑ м‑ м… через два часа, згода?
Это был очень хороший знак. Пан Ранцевич щеголял польскими словечками только перед теми, к кому был особенно расположен. Федор Федорович оценил, сказав «так» вместо «да», чем привел поляка в неописуемый восторг.
– Доктор, – спохватился Феденька, – мне, право, неудобно затруднять вас…
– О, то бздуры, – поляк укоризненно покачал блестящей лысиной, уже набирая номер и трубкой прижимая разворот книжечки.
Деликатный Феденька к разговору не прислушивался, но тихо восхищался интонацией Ранцевича: заботливой, чуткой, почти интимной. «Целую ручки! » – весело закончил доктор и положил трубку. Заметив Федино смущение, громко протянул:
– Ну что‑ о‑ о вы, Федор Федорович, – и счел необходимым пояснить: – Я с этой дамой на конференции познакомился, в буфете. Там и телефон записал. Случайно выяснилось, что она как раз прима‑ балерина в стоматологии, в нашей туббольнице. Это ж козырная карта! – Понюхал мундштук и задумался. – Холера ясная, я же убей не помню, как она выглядит… Прикус неправильный, так; и серьги желтенькие… – Но тут же вновь разгладил лицо: – Так что? Имя‑ фамилия есть; найдем. Данные о вашем папеньке я сообщил; стоматологи там не перегружены – вот пусть и встанет на охотничью тропу.
– Как бы его в Евр… в Третью больницу перевести, – заикнулся Феденька.
Пан Ранцевич потянулся за мундштуком.
– Вы правильно назвали, Федор Федорович, – серьезно произнес поляк. – Эта больница была – и будет, помяните мое слово, – еврейской, хотя бы потому, что там профессор… – назвал фамилию, хрустнув воображаемым орешком, – есть. Не надо бояться слова; а номер можно дать любой, это проформа. Кстати, мне эта, – глянул в книжечку, захлопнул, – курица от стоматологии хорошую мысль подала. Ни в одном стационаре нет таких возможностей, как в туберкулезной. По инициативе этой… шановной пани ему сделают любые снимки, понимаете? Еврейская может только мечтать о таком оборудовании. Я уже не говорю об анализах: все сделают cito. Затем вашего папеньку вместе со свежим анамнезом переведем в придворную больницу. Ну как, згода?
Федор Федорович восхищенно притакнул.
– А за это, – многозначительно продолжал доктор, – я приглашаю вас в ресторанчик. Это по пути, скоро за мостом. Никакого шика, но кухня отличная. Традиция, так уж повелось.
– Когда повелось? – изумился Феденька.
– От Адама, – просиял Адам Ранцевич.
Федя в голос рассмеялся, едва ли не в первый раз за последнее время.
– Доктор, – сказал он, вытирая платком лоб, – я вам очень благодарен, но мы непременно должны зайти ко мне. Теща места себе не находит.
– Тещу я беру на себя, – согласился тот. И – взял.
Пока шел ритуал знакомства, старухины брови были многообещающе напряжены, но пан Ранцевич сочувственно выслушал рассказ об острой корке и кивал с таким пониманием, что Матренино лицо разгладилось, а когда она веско изрекла, что корка «шкоду сделала», доктор восхитился и даже про мундштук забыл. И вот здесь уместно заметить, что роли их поменялись: теперь мамынька взяла поляка на себя. И сделала это очень просто:
– Ведь вы прямо с работы, не евши? …
Даже непонятно было, кто двигался резвей, мать или Тоня. Пан Ранцевич, поняв, что вкусного ресторанчика сегодня не предвидится, сдался на волю хозяйки и присел к фортепьяно. Когда вбежала Тата, он встал и поклонился; девочка зарумянилась, и доктор задал какой‑ то вопрос, наклонив голову к плечу, а через пять минут они уже играли в четыре руки мазурку под звон столового серебра.
Склонившись над бульоном, Федор Федорович изумлялся, как быстро один человек сумел не только расположить к себе целый дом, но и, что совсем уже необъяснимо, внести если не покой, то присутствие духа.
– Тещу вы свою недооцениваете, – говорил поляк уже в таксомоторе, – не так уж она не права. Язва там или не язва, а поцарапать пищевод и спровоцировать кровотечение могла и корка. Вот на это и будем пока надеяться. Эх, Зильбермана нет, вот клиницист был!..
* * *
Говорить запретили строго‑ настрого, смешно даже: будто было с кем. Пришел доктор, очень толстый. Кила, наверно, посочувствовал старик. От доктора шел запах дорогого табака, но сейчас и табак был противен. Толстый начал задавать вопросы и объяснил, как отвечать рукой: если «да», опустите ладонь; если «нет», вот так подвигайте. Вроде как «сдачи не надо», понял Максимыч. «Разговор» вышел неинтересным и, главное, непонятным. Выходило, что у него чахотка? Старик несколько раз делал «сдачи не надо», но толстый продолжал спрашивать и писал. Да что я, как глумой какой, рассердился Максимыч, язык‑ то у меня на что, Мать Честная?!
Сказал, к негодованию доктора, про давнишнюю язву и что лечился в Еврейской больнице, неподалеку от дома. Подумав, добавил, что профессор знает, мол, про язву.
– Профессор…? – оживился толстый, знакомо хрустнув орешком. – Что же там «скорая» мудрит? – но этот вопрос был адресован не старику, а то ли медсестре, ладившей бутылку к капельнице, то ли тощей тетрадке, которую держал в руках. – «Скорую помощь» вызывали? Вот: «горловое кровотечение, 8. 47, аптека №…»
– За столом сидел; ну, и худо мне сделалось, а там кровь; жена спуталась.
– Что ж у вас на завтрак было? – недоверчиво заерзал толстый.
– Что? Да чай. Хлеб, може… Толстый пожал плечами.
– Посмотрим. После капельницы сделаем рентген легких, там ясно будет. – И снова пожал плечами, точно сомневаясь, будет ли ясно. – А пока старайтесь не разговаривать, – закончил, вставая.
Перед этим его долго катили в кресле по коридору и привезли в какой‑ то солнечный тупик. Пока ставили железный скелетик капельницы и шел этот несуразный разговор, старик ждал, не покажется ли внук. Он еще чувствовал руку мальчика под головой и прикосновение мокрого полотенца к бороде.
Когда толстый доктор ушел, он откинулся в кресле и закрыл глаза. Тошнота отступила, но навалилась такая усталость, словно дрова пилил целый день. В большом, во всю стену, окне медленно колыхались сосновые ветки. Максимыч так глубоко вдохнул запах хвои, что закружилась голова. Ах, ты… чисто Рожество, и не скажешь, что Спас.
Из длинного коридора послышались мелкие шаги. Появилась опрятная пожилая санитарка и тщательно протерла подоконник. Хвойный запах испуганно улетел от карболки и спрятался в соснах. Закрыв глаза, Максимыч пытался удержать под веками качание ветки и пятна солнца на рыжей коре, но вместо этого увидел испуганного внука, вцепившегося в удочку, угрюмых парней в белых халатах и опять услышал мамынькин голос: «Корка не в то горло попала!.. »
Он так и задремал, не подозревая, что сегодня в историю его жизни прочно вошла хлебная корка, вошла и внедрилась, как подпоручик Киже. Мало того что старуха в который раз рассказывала об этой корке, так ведь и доктор Ранцевич с Феденькой всерьез обсуждали на своем докторском языке, как эта чертова корка могла поранить эзофагус, то бишь пищевод.
Более того, подобно упомянутому подпоручику, виновная корка уже и прописку получила, то есть юридически закрепилась в жизни Максимыча. Как раз сейчас, когда мамынь‑ ка, убирая посуду, снова рассказывала о карьере хлебной корки, толстый доктор сидел в ординаторской и заполнял историю болезни Иванова Г. М.: «…доставлен в стационар в 9. 35 на " скорой помощи" с горловым кровотечением. Гортань раздражена. Бытовая травма (? ) острым объектом…» Задумываясь, толстый ритмично постукивал концом ручки в подбородок и уже слегка окропил чернилами полы халата; «…хлебной коркой». Вот и везли бы в травматологию, зудела раздраженная мысль, а теперь возись тут. В таком возрасте корку мог бы и срезать. Написал: «Назначения», криво подчеркнул и застрочил дальше.
А возмутитель его спокойствия, Иванов Г. М., дремал в кресле, не подозревая о том, как стремительно обрастала плотью и все сильнее черствела мифическая хлебная корка, которой подавиться он никак не мог, ибо ничего сегодня еще не ел.
…Что‑ то звякнуло. Медсестра – уже другая – освободила от иголки его затекшую руку и унесла капельницу. По тому, как она коротко кивнула Максимычу, а больше по обращению «дяденька» и скупым умелым движениям, понял: местная. Из тех, что в шляпке ходят.
… Сколько Максимыч жил здесь, у самого синего моря, он делил всех женщин по этому принципу: одни носили платки, другие – шляпки, и даже когда встречал простоволосых, то мысленно всегда безошибочно примерял им подходящий головной убор. Чем он руководствовался, Бог весть; да он и не думал об этом. Дамская шляпка не была в его глазах признаком ни аристократичности, ни зажиточности: они‑ то с мамынькой в мирное время вон как жили, грех жаловаться, но чтоб Матрена шляпку надела… Впрочем, был грех: Тонька подарила ей шляпку и сама же долго прилаживала на голову, до второй войны еще. Он как раз поднялся из мастерской и остановился в дверях, глядя на растерянное лицо жены в зеркале; рядом суетилась дочь. Матрена обернулась: «Ну?! » Старик не ответил. Бережно снял какую‑ то ниточку с картуза и повесил его на место.
Картуз тут, в сущности, ни при чем: Матрена не была бы Матреной, если б такая малость могла ее остановить. Здесь было другое: она поняла, что хоть шляп этих – воз и маленькая тележка, все они не про нее, и к месту. А картуз… что ж картуз. Но мысль передается, как не раз уже было доказано. Когда Тоня легко и скоро обжилась на новом месте, она стала и мамыньку склонять к переезду, ибо знала, что именно с мамыньки следовало начинать. Дескать, центр – совсем другое дело, такое удобство и все прочее, что говорят в подобных ситуациях. Старуха выслушала и легко двинула бровью: «Нет. Там все в шляпках, а я в платке; на кой мне это надо? » Пощадила дочь, не сказала: «тебе», но та услышала несказанное, и они чуть было не повздорили; мать решительно прихлопнула скатерть пухлой ладонью: нет, и кончен бал.
Тоня – другое дело; муж никогда картуза не носил, будто родился в шляпе. Разве что летом полотняную кепку от солнца надевал, какие все дачники носили. Дочка переехала с форштадта в центр, словно платок на шляпку поменяла: поменяла, но не отбросила платок и не отказалась от него. Кесарю – кесарево, Богу – Богово: в моленной и на кладбище Тоня появлялась исключительно в платках, которые по‑ прежнему любила и с удовольствием покупала, как покупала и шляпы, и какую бы модную и незграбную «унеси‑ моя‑ печали» она ни напяливала на голову, выглядела в ней так же естественно, как в своей дорогой квартире с паркетными полами, картинами на стенах и ванной комнатой.
– Крестик снимите, дяденька, – отвлекла его медсестра в шляпке, вернее, в белой крахмальной шапочке. Максимыч заторопился, и цепочка обмоталась вокруг пуговицы нижней рубахи. Он пытался высвободить крест, суетясь и одновременно силясь вспомнить, почему так знакома ему эта возня с пуговицей и спех. Тоже дергал вот так…
– Я помогу, – сестра ловко обвела цепочкой его влажную лысину. – У меня пока будет, – и бережно опустила крест в нагрудный карман халата.
Делая снимки, заставляли его то стоять, то ложиться; поворачивали сначала одним боком, потом другим. «Дышите». «Задержите дыхание». «Еще раз. Дышите…» Было очень темно, только красная лампа горела у двери, но самой двери не было видно. Внук, упущенная рыбалка и даже хвойные ветки были где‑ то далеко. Заныло брюхо, боль была тянущая и требовательная. Тут зажгли свет, в дверях показалась медсестра и сразу протянула ему крестик.
Ощутив кожей знакомый гладкий холодок, Максимыч осмелел и спросил:
– Теперь куда же?
– Ванна, потом в палату, а дальше – как доктор скажет. Вот и кресло ваше.
Он приготовился сказать, что ноги, слава Богу, здоровые, но вспомнил длинные коридоры и передумал. Кто знает, где у них ванна эта.
Ванная оказалась просторней, чем в его больнице, и почти уютной. Старик с удовольствием вытянулся в теплой воде, и даже брюху вроде полегчало. Сестра ушла за ширму, потом вернулась, деликатно постучав, и сложила на табуретку твердо заглаженное казенное белье.
В палате было огромное окно, и Максимыч обрадовался. Три кровати пустовали; на единственной занятой лежал рыхлый мужик лет сорока и листал мятую газету с цветными рисунками. Старик кивнул; тот в ответ неопределенно мотнул головой и перевернул страницу. Хорошо, что Ирке дали отпуск, а то как же ребенок в таком тарараме. Из тумбочки пахло лежалым хлебом. Сосед глянул без интереса, буркнул:
– Устраивайтесь.
– Что пишут? – спросил Максимыч, хотя было все равно.
Мужик приподнял массивные плечи и ответил странно:
– «Крокодил» старый. – Потянулся к своей тумбочке за банкой, отвинтил крышку, азартно харкнул прямо в банку и вновь завинтил.
Старик поспешно отвел взгляд. Сам ты крокодил… молодой, такое паскудство делать; в коридоре на каждом углу плевательницы. Лег так, чтобы видеть сосну, и закрыл глаза.
Вспомнил, Мать Честная, вспомнил! Когда его в армию призывали, перед той, первой, войной! Тоже крест за пуговицу зацепился, и никак не распутать было. И фельдшер тот, дай ему Бог здоровья, може, и на свете уже нету… Без года сорок лет назад…
В отличие от Феденьки, доктор Ранцевич нисколько не нервничал.
– Опаздывает – это хороший знак, – говорил он вполголоса, хотя в коридоре никого не было, – опоздание есть первый симптом настоящей дамы. – Твердо помня роковое «тройка, семерка, туз», поляк поставил, однако ж, на даму, которая и должна была с минуты на минуту появиться.
Ничего не было удивительного в том, что пан Ранцевич «убей не помнил», как выглядела прима‑ балерина стоматологии: «козырная карта» оказалась весьма невзрачной на вид. Да так ли важно, какого достоинства карта выходит в козыри? Дефект прикуса только и помог: вошедшая улыбнулась. Назвать ее дамой мог только куртуазный пан Ранцевич. И ведь что поразительно: когда он почтительно взял ее руку и галантно поцеловал, а потом, слегка наклонив голову к плечу, начал о чем‑ то негромко расспрашивать, потрясенный Федор Федорович наблюдал ошеломительную метаморфозу. Мелкость и невзрачность на глазах превращались в хрупкость и робкую прелесть, прикус уже не казался мышиным, а улыбка и без того была удивительно милой. «Да она молодая совсем! »
Разговор продолжался в кабинете у Серой Шейки, как мысленно окрестил ее Федя, хоть пан Ранцевич представил благодетельницу:
– Доктор Долгих, Марина Павловна, наш добрый гений.
Тоненькая история болезни тестя, разбогатевшая на несколько вклеенных листков, лежала на столе. Доктор Долгих раскрыла ее, и поляк, чуть прищурившись, начал читать:
– «Травма гортани… хлебной коркой» – ну, это мы от супруги знаем. А где заключение отоларинголога? Он смотрел гортань?
Серая Шейка покраснела до самого прикуса. Пан Ранцевич продолжал:
– «…температура 37. 4, аппетит снижен. Жидкое питание…»
Феденька осведомился о рентгене.
– Легкие совершенно чистые. Я могу снимки…
Но оба дантиста замахали руками, и пан Ранцевич со смехом пояснил:
– Снимки ниже челюсти не читаю.
Отсмеявшись, он очень доверительно задал «шановной пани» несколько прицельных вопросов, вертя в пальцах янтарный мундштук.
Женщина кивала, записывая что‑ то в блокноте, и Феденька поразился обратной метаморфозе. В «шановной пани» опять проглянуло что‑ то мышиное: робкое треугольное личико, мелкие глаза – рублем не подарит, нет; узкогрудость, зато полтора носа. Серая Шейка подняла глаза на Феденьку и улыбнулась милой, не меняющейся улыбкой:
– Вы ведь хотите повидаться с отцом? Пойдемте, я провожу, – и ему стало так неловко от своих мыслей, что рубашка прилипла к спине.
Тесть лежал у окна, спиной к двери, и был похож на худого, облысевшего подростка. Он повернулся и, увидев Феденьку, сел на кровати. Больничная рубаха была ему сильно велика, сползала с одного плеча и выглядела белей гипсово‑ желтоватой кожи.
– Сынок, – обрадовался Максимыч, – ну что там дома? Мы с Левкой сегодня на рыбалку собирались, – и виновато улыбнулся, вспомнив внука с удочкой.
Присев, Феденька заговорил негромко, уверенно и спокойно, как и полагается в таких случаях, пытаясь в то же время решить, что необходимо сделать прямо сейчас и в его ли это силах. Не уйду, пока не переведут, и чтобы при мне; диагносты чертовы. Взглянув на часы, поднялся и разгладил одеяло:
– Нам с доктором Ранцевичем пора, а то поздно уже, мне ж перед мамашей отчитаться надо…
К его удивлению, старик, пощипывая усы, повернулся к поляку:
– Пшепрашам пана, вы не из тех Ранцевичей будете, что на Малоцерковной улице жили, перед войной? …
Доктор чуть не выронил мундштук.
– Так, проше пана, – улыбнулся озадаченно, а дальше разговор шел преимущественно по‑ польски, и чаще всего повторялось слово «несподзянка».
«А вот сейчас и скажу», решил Феденька. Он приветливо помахал тестю: «Завтра увидимся»; выходя, пропустил Серую Шейку вперед. В коридоре он придержал ее легонько за локоть, с ужасом думая, не заразителен ли пример пана Ранцевича, и начал: «Коллега, я хотел бы…»
…Коллега хотел бы узнать, какая сволочь водворила ослабленного старика в палату, где находится больной с открытой формой туберкулеза. Коллеге очень хотелось бы повидать врача, принимавшего его отца – да, отца, а кем же еще Максимыч ему приходился? – познакомиться и спросить, с каким диагнозом его госпитализировали, если в легких ничего не обнаружили? Интересно было бы осведомиться у этого коллеги, знает ли он о желудочных кровотечениях? …
Все это Федор Федорович изложил доктору Долгих, изложил очень корректно, тщательно отфильтровав владевшие им паникуй остервенение.
– Если же сегодня, прямо сейчас, перевод в другую палату по каким‑ то причинам не возможен, я настаиваю на выписке. Под мою ответственность.
Что‑ то, наверное, прорвалось, потому что Серая Шейка поморгала невидными ресницами:
– Я ведь не всех фтизиатров знаю… – но в это время из палаты вылетел пан Ранцевич и увлек обоих к лифту.
– Кто здесь у вас мажордомит?! Желаю вызвать на дуэль немедленно. Шановна пани Марина…
Но Серая Шейка, прямо на глазах превращаясь в «шановну пани», оставила их ждать в кабинете и скрылась.
– Не удивлюсь, если благодаря этой милой даме вашего папеньку поместят в отдельный номер, – очень серьезно заметил поляк, – клянусь туалетным столиком! Подумайте, ведь шановны пан узнал меня! Он и бюро для отца делал; оно у меня теперь. Непременно расскажу матери, отожне‑ сподзянка…
Неожиданное предсказание доктора сбылось: ошарашенный Максимыч оказался в новой палате совершенно один. Лампа в белом, как у медсестры, колпаке отражалась в широком окне, сейчас графитно‑ сером. Рядом с кроватью стояла новехонькая тумбочка. На пыльном дне такого же новенького графина скучали опилки. Даже темно‑ синее одеяло, девственно‑ пушистое, пахло новой мануфактурой. Федор Федорович удовлетворенно покивал, подергал раму окна, которое открылось легко и бесшумно, впустив ошеломляюще‑ дачный аромат хвои, снова кивнул. Про себя, тем не менее, решил завтра с утра позвонить в Еврейскую. И хирурга, сразу же хирурга…
Прощаясь, пан Ранцевич грациозно поклонился доктору Долгих и произнес свое «целую ручки», что Феденька неожиданно для себя и проделал.
Стемнело.
Лелька лежала на Максимычевом диване, уткнувшись носом в нагретую солнцем подушку и закрыв глаза. Подушка пахла бородкой Максимыча, его картузом и немного – табаком. Она уже спрашивала бабушку Иру, скоро ли Максимыч выплюнет корку и придет домой, но бабушка только улыбалась: «Скоро сказка сказывается…», и Лелька подхватывала: «Да не скоро дело делается». Вздохнув, обе возвращались к начатым делам: Ира озабоченно прикидывала, что сыну понадобится на первое время; Лелька снова и снова укладывала свой портфель – вдруг в школу возьмут?! Через месяц и неделю – можно сказать, через месяц – ей будет уже пять лет, и уж что‑ что, а портфель у нее есть, вот так!
Между тем, вопреки предположениям бабушки и внучки, дело делалось как раз скоро: оттого, должно быть, что туберкулезная больница – не сказка. Дело делалось с такой скоростью, что Максимычу некогда было приклонить голову, чтобы вздремнуть днем. То и дело в дверях возникали санитары, помогали ему улечься на носилки и везли по широким и светлым коридорам, уставленным плевательницами и фикусами.
Толстого доктора он больше не видел. Приходили другие, слушали трубкой, глядя внимательно, но бессмысленно мимо Максимыча, щупали горло, живот. Расспрашивали про рану; бедро тоже снимали рентгеном. Часто забегала щупленькая докторша, что с поляком тогда приходила. Зубки кривые, сама неказистая, а улыбается так славно, что старик сам не замечал, как рука к усам тянулась. Иногда и не заходила даже, а только улыбалась и на часики показывала: спешу, мол, и осторожно закрывала дверь, а он долго еще лежал и ждал: може, забежит?
Под вечер появлялся зять – один, без поляка; усталый, под глазами мешки. Садился, снимал очки и тут же прикрывал глаза пальцами, словно стягивая их к переносице.
– Потерпите, папаша. Скоро вас должны перевести, поближе к дому.
– Мне бы домой. А то совсем замордовали, каждый день тягают – то туда, то сюда. Что ж не сразу домой?
– Надо подлечиться, – серьезно, без улыбки, говорил Федя. – Печень должны проверить как следует, желчный пузырь. Надо питание наладить. Вы опять вон не ели? – Зять кивнул на чашку с остывшим бульоном.
– Да ну; похлебал сколько. Я ж от такой еды отвык. Кормят, что на убой.
Еда и в самом деле была отменная – как в мирное время. Глотать Максимычу было трудно, будто и впрямь корка застряла. Ему приносили только жидкое: сливки, кисель, бульон; что‑ то дрожащее в розетке. Спросил; оказалось – куриное желе. Ма‑ а‑ ать Честная, куриное желе! Вот Лельку бы сюда – она курей только на базаре видала, а чтоб в тарелке… разве что у Тони в гостях. И тут же спохватывался: куда?! Сюда, к чахоточным, ребенка?! Феденька не говорил, но старик и без того понимал, что никому сюда ездить не надо: чахотка и есть чахотка, хоть как назови; а уж Лельке…
По вечерам, когда суета и гам затихали, старик подолгу стоял у окна, глядя на сосны и вдыхая смолистый запах. Стоять было легче, чем ходить: можно было опереться на широкий подоконник. Те, что помоложе, устраивались на подоконниках в коридоре и часами лупились в карты. Что они знают в картах, недоумевал старик, такие молодые? Шлеп да шлеп, точно воблу в трактире. Разве к картам можно без почтения? …
Мать никогда с ними не расставалась, но детям – даже ему, старшему и, чего греха таить, любимцу – играть не давала. Иногда, бывало, быстро раскинет их – на себя, должно быть. Карты у матери были совсем другие, не такие, как у парней в коридоре: очень плотные и такие гладкие, что отливали тускловатым блеском, как загорелая кожа. Ловкими стремительными движениями она бесшумно выдергивала их из колоды, меняла местами, останавливалась, пристально рассматривая и шевеля иногда губами. Точь‑ в‑ точь как Лелька над книжкой, подумал неожиданно. Что мать читала по своим картам, он никогда не спрашивал: дозволялось только смотреть. Временами она оживлялась, говорила ему что‑ то по‑ польски, и мало‑ помалу он привык к этим таинственным знакам, как много раньше привык к шершавым польским словам. Сам он карт не трогал, только любовался на усы пикового короля: совсем как у отца. Мать покачала головой и вытащила червонного: вот отец.
…Как странно она приснилась тогда, с этими пустыми, точно забеленными, картами! И с чего он взял, что на Калужской? – То Ростов был, отцовский дом, где он трогал тогда остывшую печь, а на пороге нашел оброненную трефовую шестерку. Какое там «оброненную»: Максимыч давно понял, что мать весточку ему оставила. И как он, дурачина‑ простофиля, глупо распорядился тем сном! Это сколько ж можно было сказать, а он в карты уставился. Обнять бы да руки целовать – ведь так и не довелось больше свидеться с того дня, как отца забрали; ни разу. А во сне седины у нее не было, нет. Зато точно такая же яркая белая дорожка теперь в волосах у Иры: это серебро она привезла из эвакуации, после второй войны.
Максимыч, в отличие от жены, не держал поминального листка. Имена братьев и сестер, общим числом одиннадцать, и отца с матерью каждое утро произносил тихо и отчетливо, твердыми привычными губами.
Лукавы и прельстительны сны. Старик знал, что никого из них в живых не осталось, никого. Всех истребил ростовский морок – не тифозный, а другой, кровавый, в котором вырезали всех казаков, «с чадами и домочадцами». И карточек фотографических не осталось – ни одной, да и не снимались, поди, мать с отцом на карточку. Не то чтоб он лица их забыл, нет; а вот правнучке показать бы… Осталась одна карта со щепотками черных слезинок в два ряда на плотном шелковистом прямоугольнике. Тогда, в 19‑ м году, вернувшись в Город, они со дня на день ждали приезда своих, всей родни. Появился один Мефодий, старухин брат. Он только‑ только схоронил жену и говорил мало, да и что он мог рассказать? …
…Ночью в коридоре загорался какой‑ то слепой свет, тусклый, как овсяный тум. Старик лежал и думал, какая Матрена счастливая. Если б он знал, где лежат мать с отцом, мог бы прийти к родным холмикам. Посидеть, никуда не торопясь, разровнять песок грабельками и расспросить, и досказать все, что не успел тогда. И что во сне не сказал. «От земли тленной взят и в землю отыдеши», а земля‑ то вечная. Выходит, и человек никогда не пропадает бесследно, остается крохотным бугорком… если бугорок этот не сровняли с пустой землей. Ирина, старик знал, терзалась тем же – невозможностью прийти на могилу мужа. Если больше не суждено обнять человека, припасть к родному теплу, отвести упавшие на лоб волосы, остается холм земли. Убрать осторожно сухой лист с могилы, словно пушинку снять с плеча. Еловыми ветками потеплей укутать холмик, чтобы не померзла рассада. Преломить свяченую пасху в Великое Воскресенье и оставить щедрую россыпь ярких шафранных крошек; не надо и говорить ничего, благодарные воробьи доскажут. А то простой букет поставить в банку с водой – не в изголовье, нет: в головах. Холм земли, к которому можно – припасть, как припадут когда‑ нибудь дети к нашим могилам.
Если бы у Максимыча спросили, часто ли он вспоминает мать, он удивился бы несказанно: вспоминают только забытых, а его мамаша, Царствие ей Небесное, забыть себя не давала, даже и захоти он. Внучка перед зеркалом поправляла волосы, а из зеркала смотрела на него мать. С колотящимся сердцем, придирчиво всматривался он в Таечку: как есть цыганка, недаром с ней цыгане на улице заговаривают. Зашел как‑ то в комнату, когда она ногти мазала, и чуть не ахнул, узнав руки матери: очень маленькая, сильная кисть, и ногти выпуклые, с полукруглыми лунками, точь‑ в‑ точь… На кой закрашивает? Ухоженные, конечно, руки, гладкие, ни шершавинки; ну да это понятно – Тайка пеленок не стирала. Смуглость эта цыганская, руки и волосы, которые внучка завивала и поднимала высоко, отчего сходство с матерью размывалось и почти пропадало, хотя в зеркале все так же отражалось Тайкино лицо, но уже – только Тайкино, не матери. Старик вглядывался в него, но сходство ускользало, дразня похожестью отдельных черт: Федот, мол, да не тот. Понял он, только когда правнучка вылезла из‑ под швейной машины, подошла к Тайке и тоже уставилась в зеркало счастливыми улыбающимися глазами. Что‑ то словно сдвинулось в зеркале, будто из кусков сложилось лицо матери с такими же точно глазами, и он, с чуть слышным восхищенным «Ма‑ а‑ ть Честная! » даже прикрыл глаза ладонью, чтобы удержать родной образ.
…Его отец, Максим Григорьев Иванов, подобно своим отцу и деду, был донским казаком. Полк, к которому он был приписан, в то далекое время стоял в Польше, в предгорье Западных Карпат. Казак Иванов службой не тяготился, амбициями, как некоторые из его товарищей, не маялся – в офицеры выйти не мечтал, и снились ему не погоны хорунжего, а родной дом да широкий Дон, то серый, то синий, как новенький мундир. Службу нес исправно, коня держал – дай Бог каждому и у сотника был на хорошем счету. Из двадцати пяти лет службы Богу и великому государю отсчитал уже почти четырнадцать; теперь‑ то быстрей должно пойти, ровно под горку. За одиннадцать оставшихся лет и невеста подрастет, на хуторе хозяйничать. И то – тридцати трех лет от роду достиг уже казак. Прежде, когда в самой Варшаве стояли, насмотрелся на столичных красоток, да только красотки те показались ему какими‑ то вылинявшими, что ли. Видать, смотрел не на тех, а может, сравнивал со статными смуглолицыми казачками, но только варшавскими барышнями не пленился. А в горах и вовсе красавиц не было – до тех пор, пока однажды утром не появился, как черт из табакерки, цыганский табор и стал неподалеку. Просторные палатки с округлыми крышами казались – ни дать ни взять – выросшими за ночь грибами, а от дальнего конца тянуло дымом кузни, и в утреннем воздухе звонко разносились редкие удары молота. Подножье горы расцвело яркими платками и юбками, и диковинно было смотреть, как дерутся и мирятся ребятишки – не один казак украдкой подавлял вздох, – как сходятся группами, переговариваясь о чем‑ то, мужчины, как стремительно скользят по траве цыганки. Они не ходили и не бегали, а быстро и плавно словно перетекали от кибитки к костру, даже те, что были увешаны гроздью ребятишек. Не диво поэтому, если кто‑ то из казаков, не дочистив шашку, застывал, припав к раздвинутым ветвям, а другой, напротив, все усердней нажимал щеткой на круп волнующегося коня. Забегали хорунжие и сотники, а есаул, как назло, не мог отыскать свой бинокль, именно сей момент для чего‑ то потребный.
Такая сумятица, впрочем, царила только в первые дни; вскоре привыкли, а на исходе второй недели уже казалось, что табор стоит тут со времен царя Гороха. Бинокль свой есаул нашел и теперь с ним не расставался, а главных сердцеедов вызвал к себе особо для нравоучительной беседы: это, мол, не Варшава, а сам шомполом поигрывает и хоть бы раз улыбнулся. «Не сноситься с цыганами никоим образом», – подтвердил приказ по полку, да что уж там «не сноситься», когда на водопое твоего коня похвалят. Сноситься не сноситься, а табаком нельзя не угостить: даром что нехристи бродячие, а никто, кроме них, в лошадях досконально толку не знает. Вот он и сам кивает: «досконалы, досконалы», только серьга раскачивается. Говорили цыгане по‑ польски, а к этому языку казаки были уже привычные.
Несмотря на полковой приказ, многие проявляли такой же горячий интерес к дочерям свободолюбивого народа, как сам народ – к казацким лошадям. Женщины держались независимо, но в них и следа не было от показной робости варшавских паненок, зато было – достоинство. Записные сердцееды пышней обычного выпускали из‑ под фуражки кудрявые чубы да томно вздыхали, не отводя взора от смуглой шеи. Что ж? – Перехватит взгляд, затянет шелковый платок потуже, да только глаз не опустит, но и посмотрит не в глаза, а куда‑ то в кокарду, так что самомуже и неловко сделается. Иные пробовали через цыганят подъезжать: кому орехов в подол рубашонки, кому гильзу стреляную. «Дзенкуе, дзенкуе пана», – так и звенит, точно горсть мелочи рассыпал, а дальше ничего и не было.
На исходе лета начались грозы. Ветер поднимался такой, что крушил деревья; испуганные кони беспомощно ржали. Табор исчез так же внезапно, как и появился, словно и его унес грозовой вихрь. Начальство вздохнуло было с облегчением, но тут выяснилось, что вместе с табором пропало несколько добрых коней. Цыгане, в свою очередь, недосчитались одной из своих земфир, однако назад не вернулись, так что и эту каверзу пришлось расхлебывать войсковому старшине.
Самое ошеломительное заключалось в том, что никто из прославленных полковых донжуанов тут замешан не был. Земфиру привел к есаулу за руку образцовый казак Максим Иванов. Привел – и повалился в ноги, прося снисхождения и дозволения жениться. Понятно, что столь сложный вопрос есаул самолично разрешить не отважился, а потому, отложив ненужный теперь бинокль, отправился с докладом опять‑ таки к войсковому старшине.
Земфира не могла – или не хотела – ответить, куда направился табор, а если бы и ответила? Что, сниматься всем полком, мчаться искать ветра в поле, чтобы выменять капризную беглянку на пропавших лошадей, которые могли уже быть то ли перекрашены, то ли проданы, а скорее, и то и другое вместе? Э‑ э‑ э… Капризной, впрочем, барышня не была и выражала полную готовность кочевать с полком так же, как прежде с родным табором, но только в качестве мадам Ивановой.
Получив, наконец, дозволение начальства, счастливая пара отправилась прямиком к полковому батюшке – венчаться, но тут выяснилось, что невеста‑ то некрещеная! Валиться в ножки, однако же, не пришлось: опытный отец Порфирий принял решение цыганку крестить, а потом переходить к венчанию. Земфиру звали Ланой. «Елена, стало быть, – творчески вдохновился батюшка, – именины будешь праздновать одиннадцатого июля».
Alaguerre, как известно, сотте alaguerre. Сразу после крестильной купели невеста встала под венец, после чего была отправлена в обоз, а через год с небольшим отец Порфирий окунал в ту же купель младенца мужеска пола, нарекши его Григорием.
С тех пор население обоза – а значит, и полка, да и всея России – увеличивалось каждый год на одного Иванова, отчего круг обязанностей батюшки расширился. Это, впрочем, нимало не тяготило отца Порфирия и даже нравилось, что каждый младенец крепко вцеплялся смуглой ручонкой в рукав его рясы. Гордая и счастливая мать неизменно обвязывала запястье новорожденного красной шелковой лентой – от сглазу. Трудно представить, как эта миниатюрная, ловкая, очень молчаливая женщина, будучи постоянно беременной, умудрилась не только устроиться в обозе без помех, но и за десять с чем‑ то лет мужниной службы произвести на свет восьмерых детей! Не этой ли генетической закваской объясняется молчаливое умение ее потомков ужиться в советских коммунальных квартирах? … Но это – в далеком «потом», а детскую свою жизнь среди казаков, благословение отца Порфирия и возвращение в Ростов первенец Максима Иванова помнил: в свои восемь лет он был матери по плечо.
…В палате было темно, и только из‑ под двери лениво тек этот неживой свет. На теплом августовском небе густо толпились звезды, и казалось, сосновая ветка вот‑ вот сметет их одним взмахом.
Максимыч пытался вспомнить, когда он в последний раз видел сразу так много сосен. Надо Лельку взять на взморье и гулять, просто гулять… Как в той книжке, у самого синего моря. Пустить босиком по воде, а там, небось, и янтарик найдет, с такими‑ то глазищами.
Вспомнился янтарный мундштук у доктора. Сам он и не изменился почти, только полысел.
Свою мебель старик всегда помнил; заказчиков быстро забывал. Эту пару запомнил. Начать с того, что очень не хотелось браться: он терпеть не мог ремонтировать чужую работу. Однако просил старый заказчик, уверяя, что в накладе мастер не останется, словно только в этом было дело. Сам и отправился на Малоцерковную: если небольшой ремонт, так чтоб сразу сделать, и к месту.
Оказалось, что при переезде повредили цветочный столик. Хозяйка сняла вазу и так стояла с вазой в руках, но Максимыч не торопился вынимать инструмент. Ведя твердым квадратным ногтем вдоль трещины, объяснил, что починка бессмысленна. Новый сделать – могу. Колыхнулась дверная портьера, и вышел хозяин. Он курил папиросу и сказал что‑ то жене по‑ польски прямо сквозь дым. Знакомые шелестящие звуки уютно плыли в сиреневой струе, и Максимычу вдруг тоже стало тепло и уютно. Хозяин перевел на него выпуклые голубые глаза: «Нельзя ли склеить? …» Старик тронул усы и спросил, наливает ли пан вино в бокал с трещиной? Склеить – можно, но куда пани поставит цветы?
Ответил – и сам удивился, как легко выговорились слова, спасибо матушке, Царствие ей Небесное.
Необъяснима власть родного языка! Самое простое слово становится паролем. Его произносят губы, а слышит – и отзывается – сердце. Что будет потом, окрепнет ли душевная связь между говорящими или все исчезнет, как только в воздухе растает последнее слово, неважно; пароль назван.
…Столик получился на славу или, как выразились хозяева, файный. Пан Ранцевич заказал письменный стол и даже старательно нарисовал его, жестикулируя папиросой. Для жены он попросил смастерить туалетный столик, но рисовать уже не стал, развел беспомощно руками. Она сама взяла карандаш, покрутила в руках эскизик и объяснила, что хотела бы столик «таки сам», только поменьше и с зеркалом. Они говорили вместе, и старик изумился, насколько муж и жена были похожи, не имея внешне ничего общего, кроме худобы. Сходство было в манере улыбаться, чуть наклонив голову к плечу, и в самой улыбке, а также в привычке жестикулировать, разговаривая, причем жесты были так похожи, будто принадлежали не двоим, а одному человеку. Но больше всего Максимыча поразило, что они произносили одновременно одни и те же слова, и когда это случалось, улыбались тоже одинаково, чуть прикусив нижнюю губу.
Оба заказа он делал сам, и хоть вначале хмыкал скептически, вспоминая «таки сам», но вещи непостижимым образом получились похожими. На крышке туалетного столика, в уголке, старик попросил Фридриха сделать маленькую инкрустацию, инициалы польки: FR. Как же ее звали? … Забыл.
Да, а младшего Ранцевича увидел, когда привозили готовые заказы; увидел и сразу понял – сын: такие же выпуклые глаза и улыбается, наклонив голову к плечу. Молодой Ранцевич первым сел за новый стол и, одобрительно кивая, стал выдвигать ящики. Справный вышел стол, старик был доволен. Стойка для мундштуков, которых у хозяина было немало, и вертикальные гнезда для писем и бумаг привели его в восторг; естественно, что на рисунке ничего этого не было. Когда же Максимыч нажал под крышкой плоскую стальную педаль и сбоку плавно выскользнула дополнительная панель, поляк восхищенно присвистнул. Точно такой же педалькой выдвигались ящички для драгоценностей в туалетном столике. Поляк поспешно начал расставлять мундштуки; и янтарный там был, совсем как у сына. А может, тот и был? Янтарь долго живет…
Вот на море поехать – и идти по песку, а то прямо по воде: ракушки светятся розовые, промытые, волна сразу след зализывает, будто и не прошел; а янтарик нет‑ нет да и встретится.
Он отрывал глаза от сосен и опять ложился – если лежать, тошнило меньше.
Днем старик иногда выходил в коридор, надев на исподнее линялый байковый халат. Ходить было неудобно: тросточка осталась дома, а полы были гладкие и блестящие, ноги скользили. Халат попался на редкость тяжелый и давил на плечи, точно вязанка дров. Да и не с руки было отлучаться: несколько раз его принимались искать, чтобы опять везти куда‑ то на носилках. Уж хоть бы спокой дали.
«Дали спокой» через два дня. Накануне Феденька, сняв очки и спрятав за пальцами усталые глаза, уговаривал, что все делается на диво быстро. Впрочем, никакого дива здесь не было, кроме расторопной обязательности Серой Шейки, той самой обязательности, которая сама по себе уже становится дивом.
На привычных носилках Максимыча привезли в тесную комнатушку без окон со смешным названием «бокс», где позволили переодеться. Это было особенно приятно: свое – оно и есть свое, хотя уже пахло больницей. Надо будет Иру попросить пуговицы на рубашке перешить, чтоб воротник не болтался, а то куда это… Санитар позвал его дальше, где были окна и двери с матовыми стеклами, а за столом сидела не то сестра, не то докторша, у которой помады было больше, чем рта. Удивляться было некогда. Докторша назвала его по фамилии, потом сложила картонные створки, завязала ленточки – точно младенца спеленала – и сказала вроде по‑ русски, но старик ничего не понял:
– Тэбэцэ мы исключили. Вы не наш больной. Вас переводят. – Она вильнула вбок, будто Максимыч ей кого‑ то заслонял: «Сопровождающий! »
Сзади вынырнул санитар, который и принял в руки завязанную папку. Ну да, Федя же говорил – в нашу повезут, догадался Максимыч и поблагодарил, но докторша уже сомкнула помаду и не ответила.
Глядя в наполовину замазанные белой краской окна медицинской машины, Максимыч не успевал увидеть, где ехали: машину трясло, и он почувствовал дурноту. Закрыл глаза и увидел крышку туалетного столика с буквами. Фелиция, вот как ее зовут!
Старуха была недовольна зятем: если доктора ничего у Максимыча не находят, чего ж держать? Ни дай ни вынеси. Если б еще тут, рядом, а то загнали, куда ворон костей не заносил. И ведь знала, что Федя что ни день ездит туда, но брови держала наготове.
Обе дочери и Мотя тоже хотели проведать отца, но Феденька запретил категорически: туберкулез, страшный риск. Интересно, что никому не приходила в голову мысль о его собственном риске; точнее, не думать об этом, конечно, не могли, но как‑ то само собой разумелось, что медицинская профессия обеспечивает ему надежный иммунитет. Дети и племянники тоже донимали Федю, пытаясь увязаться в компанию, чтобы навестить деда. Изменив своей обычной мягкости, он раздраженно посоветовал сыну думать об экзаменах, а всем остальным прочитал лекцию о туберкулезе, который в его описании сильно смахивал на средневековую чуму.
Единственный человек, не выказавший охоты отправляться по следам ворона с костями, была мамынька. Лекция ей не понадобилась: старуха и впрямь боялась чахотки, и само желание добровольно тащиться туда, где люди мрут от этой заразы как мухи, вселяло в нее могучий страх здорового человека перед болезнью.
– К тому же, – говорила она Тоне, – еще не известно, кому труднее, больному или здоровому. Он там лежит, прохлаждается, а я что, двужильная?! Сейчас у Симочки была. Дети в соплях; Валька совсем замучивши, под глазом синяк, все ко мне другим боком поворачивалась. Я и говорю: «Ты что, с кондуктором говоришь, что ли? Или я тебе чужая, что морду воротишь? Лохмы‑ то убери; а то я не вижу, что глаз подбит».
Мамынька помолчала, давая Тоне осмыслить нарисованную сцену; продолжала:
– Плакала, плакала, я уж думала, родимчик с ней сделается. Что, спрашиваю, опять поспорили? А она чуть не заходится: «Не до знесеня, не до знесеня…» Это Симочка такой пьяный пришел, что через губу не плюнет; как спать завалился, она в карман полезла, достала с бумажника деньги, хотела, говорит, взять всего ничего – дети не евши. А он увидел, что в карман лезет, ну и отметелил: вся в синяках. Може, он и когда читый колотит: первых‑ то двух кормила, а на Сабинку молоко пропало. Я смотрю, в кухне пусто, дети макароны твердые грызут. Что ж ты, говорю, не сваришь эти макароны? А она все: «Не до знесеня, не до знесеня». Хорошо, у меня пышки были спечены, я как знала: дай, думаю, пышек напеку, снесу туда. Они хватают пышки исть, а сопли так и текут. Я говорю, дай платок, надо вытереть, на кой с соплями исть, а она…
Мамынька достала из рукава собственный вышитый платочек, словно для иллюстрации; потом с негодованием подвела итог:
– Ты подумай, у ней платка чистого – итоне было!.. Если бы не Юрашины экзамены, из‑ за которых весь дом трясло как в лихорадке, Тоня негодовала бы вместе с матерью. Теперь же старухин рассказ вызвал у нее не сочувствие, а раздражение. Сколько же можно, в самом деле. Тебе домой пышки приносят, а ты и сама в истерике рассопливилась, и детям нос вытереть нечем! Она знала, что мать наверняка сунула невестке какие‑ то рублишки да велела в чулок спрятать, не иначе. Знала, что брат придет опохмеляться – тут уж не надо к гадалке ходить – и что она Бог знает в какой раз начнет его вразумлять, а следующий раз совпадет со следующим похмельем. Знала, что сегодня начнет перебирать старые вещи – слава Богу, на антресолях все сложено, чистое и целое, и завтра же заглянет с тючком к Вальке. Не забыть что‑ нибудь из еды, что хранить можно, печенья там, вафель… О Господи, да разве вафли – еда для детей?! Тоня раздражалась все больше. Как можно допускать, чтоб он столько пил? Вот мать рассказывала, что папаша в молодости тоже любил выпить; так не сравнить с Симочкой! Кто, наконец, в доме главный – женщина или мужчина?!
Тонино раздражение разгоралось в праведный гнев – не против невестки, нет, а против ее бестолковости. Как же можно настолько не уметь жить, Господи! В гневе Тоня олицетворяла собой всех праведных жен, уже нагнувшихся за камнем, чтобы бросить в жен неправедных, и никого не было рядом, кто простер бы руку: помедли. Пока еще не поздно, пока не брошен праведный камень, попытайся увидеть не ее, а – себя, запудривающую синяк на лице и, чтобы успокоить плачущего малыша, дающую ему пудреницу поиграть; себя, вынимающую непослушными пальцами пятерку из бумажника и тут же отброшенную в угол мощной рукой твоего… не мужа, нет: твоего освободителя, отца твоих детей. Помедли…
Она остановилась и прислушалась: из кабинета доносились шаги сына. Потом шаркнул стул; упала книга. Завтра физика. Когда Левочка рядом, Юраша нервничает меньше, да тот и с физикой поможет. Не то чтобы знал лучше, спохватилась она ревниво, но требовали с них в училище как следует – иногда объясняет лучше, чем Федя.
– Раз ты меня не слушаешь, так я домой пойду, – недовольным голосом сказала мамынька, но с места не двинулась, только расправила юбку на стуле. – «Эта» в деревню поехала. Отпуск у ней.
«Этой» старуха называла Надю, и указательное местоимение вместо обычного «Надька» всегда обозначало спад в температуре отношений.
Матрена, легко забыв оригинальный сценарий, была свято убеждена, что «пустила эту в дом» только по своей ангельской доброте, а значит, «эта» должна быть по гроб благодарна и постоянно свою благодарность выказывать. То, что невестка не валилась в ножки и не благодарила поминутно за оказанную милость, старуху гневило постоянно.
– Мало что спасибо не скажет, так ведь нахратная какая: то дверью хлопнет, то надерзит. Ну а дети – известно: как матка, так и они. Я тебе говорила, что Генька в мой шкаф лазил? Ничего вроде не пропало; а только я думаю на замок запирать, на кой мне такое надо – в моем доме, за мое добро?! Раз я ее пустила, она должна жить «нагнись да поклонись»; а она фыркает и морду воротит. Геньку ты видала, он вон какой бугай стал! В наше время отец с матерью таких женили.
Обернувшись к трюмо, поправила платок. Вдруг вспомнила:
– А про Левочку слыхала? – Мамынька оживилась и, глянув на дверь, продолжала вполголоса: – С барышней гуляет. Кто такая, не скажу – не знаю; они все друг дружке письма писали. Еще со школы знакомые. Она училась в женской школе напротив, а сейчас где‑ то в институте, в России. Теперь на каникулы приехала. Ирка ходит именинницей, а я думаю, что не вовремя: молодой совсем.
Тоня с досадой передернула плечами. Она тоже была уверена, что племянник влюбился совсем не вовремя, потому что завтра у Юраши экзамен, и пусть бы Левочка лучше занялся с ним физикой, чем с барышнями гулять. Конечно, рано. Задело ее и то, что принесла такую новость мамынька, а сам племянник ни гу‑ гу, хотя живет‑ то у нее, крестной… Странно даже. Что ж я ему, чужой человек? …
– Вот я и говорю, – неожиданно резюмировала мать, – еще не известно, кому труднее: больному или здоровому? …
Вопрос был чисто риторический, ибо по законам Матрениной логики труднее было, как ни крути, здоровым, что она и доказала с блеском.
* * *
Новости были такие хорошие, что Феденька летел домой со всех ног. Во‑ первых, сын сдал физику на четыре балла; на днях будет известно, примут или нет, но похоже, что примут. Во‑ вторых, тестя перевели в Еврейскую больницу, о чем ему сообщил очень довольный пан Ранцевич, которому сразу же и позвонила Серая Шейка.
Еврейской больнице было не привыкать к тому, что пациентов навещали часто, заботливо и многолюдно, однако больного Иванова Г. М. только‑ только перевезли из приемного отделения в палату, а посетители уже нагрянули в таком количестве, что казалось, он вселился сюда со всеми родственниками. Они текли густым потоком, так что врач махнул рукой и скрылся в ординаторской.
Не пришли только Надя с детьми, уехавшая в деревню, и Тайка, которая не уезжала никуда, но едва ли знала, что дед в больнице, ибо давно не появлялась дома. Младший сын пришел вместе с Тоней и явно не без ее помощи как в деле похмелья, так и в посещении больницы. Глаза у него сильно опухли и покраснели, но выглядел он вполне прилично и даже пахнул не водкой, а французским одеколоном. Этот запах Феденька с удивлением узнал, не признав, впрочем, на Симочке ни своей рубашки, ни галстука. Об одеколоне, который тот глотнул для куражу, почему‑ то побаиваясь встречи с отцом, Тоня решила не говорить.
У Феденьки тоже были красные глаза – от недосыпа, то есть от физики.
Молодежь толпилась у окошка, Лелька громоздилась на кровать и уже расшибла коленку; Матрена громко требовала, чтобы старик поел яблочного пирога, у которого она даже корку срезала.
Федор Федорович, потоптавшись несколько минут в палате, пошел знакомиться с врачом.
Остальные, как это обыкновенно бывает в больнице, то набрасывались на старика с разными по форме, но одинаковыми по содержанию вопросами, то вдруг одновременно замолкали. Наконец, Тоня с Павой устроились поговорить на свободной кровати. На другой, тяжело привалившись к спинке, маялся Симочка, а рядом переминался с ноги на ногу Мотя, решительно не зная, что сказать брату.
– Хватит галдеть, – строго одернула детей Тоня, подымаясь, – вас тут целых семеро, пойдите лучше в парк.
– Там каштанов пропасть, – проговорил старик, чуть приподняв голову и с тоской глядя вслед Левочке. Не успел про ножик… В другой раз, когда один придет.
Матрена твердо сидела на табуретке, чуть раздвинув колени для устойчивости, и обмахивалась платочком. В ноябре ей стукнет семьдесят, но если бы не огрузневшее тело, то ни по гладкому, почти без морщин, лицу, ни по прямой осанке ей невозможно было дать больше шестидесяти. Ровно и строго повязанный платок скрывал седину, а Феденькины зубы делали улыбку молодой и уверенной. Она старела красиво и с достоинством. Зорко и строго вглядывалась в мужа: нет, чахоточным он не выглядел; разве что мелким каким‑ то и серым. Лицо, руки и грудь, видневшаяся в вырезе рубашки, – все было нездорового серо‑ желтого цвета. Она испугалась, заметив крупные, выпирающие ключицы, и вспомнила, какими большими и чужими выглядели ногти на руке, когда он спал. Перевела взгляд на руки – ногти показались ей еще крупней. Что ж его там, не кормили, что ли?
В ординаторской Федя задержался. Уже была послана в архив и вернулась медсестра, и они сидели с доктором, склонившись над пыльной, жесткой от плохого клея историей болезни, поминутно заглядывая в новую, привезенную из туберкулезной больницы.
Врач Феденьке понравился. Средних лет, спокойный, без гонору; из тех тягловых лошадок, которые работают многие часы за малые деньги. Он быстро и привычно отыскивал нужные листочки, сверял; пробегал глазами абсолютно нечитаемые, на Федин взгляд, записи; вынимал упругие, пружинящие в руках рентгеновские снимки и внимательно рассматривал их на свет.
– Молодцы фтизиатры, – сказал он наконец. – У нас такая работа заняла бы месяца два, и то не наверняка. Он часто жалуется на боли?
– Он вообще не жалуется, – ответил Федя.
– Я почему спрашиваю: я не уверен, что у вашего тестя язва.
– А что тогда? Ему давно уже язву диагностировали!
– Федор Федорович, если язва подтвердится, это в нашу пользу. Боюсь, однако, вас обнадеживать, но это очень похоже на бессимптомный рак, и весьма запущенный. Да, симптомы есть, только… Не хочу каркать, но это уже другая симптоматика. Будем проверять на метастазы.
– Но его смотрел профессор… – Федя хрустнул орешком фамилии; доктор кивнул.
– Да, вот его запись: хроническая язва желудка, вопрос; CANCER, вопрос. Профессор рекомендовал консультацию хирурга и операцию в обоих случаях. Больной отказался; потом у нас перерыв… значительный. Он в поликлинике наблюдался? Ну да, я так и думал; а жаловаться, вы говорите, не любит.
Доктор быстро набросал план диагностики. На среднем пальце у него было чернильное пятно, как у сына, и это почему‑ то немного успокоило Федора Федоровича.
– Хирургов у нас не хватает, – закончил врач. – Если есть возможность, постарайтесь выйти на кого‑ то – одна голова хорошо, а две лучше.
Сразу возвращаться в палату Федя не стал: по лицу догадаются. Он посидел в парке, выкурил папиросу. Чтобы оттянуть время, вошел в здание через другую дверь. Пусть поговорят, давно не виделись, малодушно уговаривал он себя.
В чужом отделении запах антисептики был особенно пронзительным и резким. Хирургия, что ли? Он подошел к стенгазете. Один нижний угол был прикреплен не кнопкой, как другие, а пластырем. Бросался в глаза написанный то ли тушью, то ли зеленкой крупный заголовок: «ВНЕДРИМ ОПЕРАЦИЮ НЕФРОПЕКСИЮ ПО РЕВОИРУ ПРИ НЕФРО‑ ПТОЗЕ В МОДИФИКАЦИИ ПИТЕЛЯ‑ ЛОПАТКИНА». Ниже шел обильный текст. Прочитав гордый заголовок, Феденька не мог сдержать смеха. Так, смеясь, он двинулся к выходу, останавливаясь, чтобы вытереть очки и глаза.
Из палаты выходила Ира, держа за руку внучку.
– Дядя Федя, – сказала девочка, сияя, – а мне дедушка Максимыч обещал рака поймать!..
Старик был недоволен язвой: за что ты меня мордуешь?! Терпел сколько мог и еще потерплю – только отпусти, не тяни нутро! И сам себя одергивал: ишь, до чего дошел! Уязвы, у гадины, жизни прошу, точно милости. Нельзя мне помирать; как же баба одна, ни пришей ни пристегни, у разбитого корыта останется? Ни поругаться с кем, ни почваниться…
В этой больнице время текло медленней, за окном вместо сосен росли знакомые высокие каштаны. Время текло медленней, но его оставалось все меньше, и старик хотел думать только о самом главном, чтобы успеть. Ему было отпущено совсем мало – это Максимыч знал. Ни о чем ни у кого не спрашивал, не заглядывал жалко и пытливо в глаза докторам – сам понял: победила его язва, сожрала заживо. Не может человек остаться живой, если утроба ничего не принимает, а только вон выталкивает. Не может.
Жалко было умирать. Жалко и страшно. Оказывается, что все когда‑ то уже было – то ли еще до него, то ли во сне, то ли в мирное время. Вот так же страшно ему было идти на войну – как на первую, что миновала его, прошла стороной, так и на вторую, когда он метался с винтовкой в руке, чтоб, сохрани Господь, не убить кого. Чуть сам не помер тогда и ногу покалечил. Теперь – иначе: от язвы, болячки паскудной, суждено смерть принять.
А как же они, все четыре поколения? Мужиков‑ то всего двое, Федя да Мотя, и то – у Моти своих четверо, да перед женой кругом виноватый, глаз не поднимет. Сколько один Федя может? Баба‑ то попросит; Ира – никогда. У кротких другая гордость: молчание.
Время от времени старик задремывал. Его лихорадило, сны путались и рвались, оставляя обрывки странных видений. Вот он входит в море и плывет, но вода в море несоленая и горячая, неприятные частые волны толкают в лицо – это пароход горит, потому и вода нагрелась. А то, наоборот, зима, но ему отчего‑ то жарко. Он стоит, прижимаясь лбом к обледенелому окну, и смотрит вниз на булыжную мостовую, только это не мостовая вовсе, а огромная мороженая рыба, занесенная снегом; как же он раньше не догадался, думает Максимыч и просыпается.
О главном надо, о главном.
Внуки тоже разные. Тайка – из гордых, Левка – кроткий. У Моти только один гордый, не зря его Мамаем прозвали; а Тонькины оба кроткие. Задумался о Симочкиных: кто знает, совсем крохи; а старший в батьку пошел, гордый. Уже видно.
Осторожно поднял голову: из капельницы перетекало в него какое‑ то розоватое снадобье. На кой добро переводят, Мать Честная? Оно капает, а мое время летит.
Что ж, Андря, скоро встретимся. Сын – в женку твою, таким же раскорякой живет; Людка другая – там нет‑ нет да и тебя видать.
Лелька, Лельця моя! Не поймал тебе дед золотую рыбку, не свозил к морю за янтариком. Усмехнулся и прошептал в усы: «Впредь тебе, невежа, наука, не садися не в свои сани». Только санки я тебе и смастерил; будешь кататься да меня вспоминать.
Через месяц Лелькины именины, спохватился он, а я без подарка, срам какой. Дождаться бы. Он промокнул краем простыни потный лоб и прикрыл глаза…
В прошлом году правнучке исполнилось четыре года. Таечка принесла куклу с косами из пакли и глазами, которые то открывались, то закрывались. Лелька гордо носила лупоглазую красавицу по всей квартире, пока, наконец, не усадила с другими куклами, где новая утомленно обрушила веки. Тогда Ира протянула имениннице пакет в оберточной бумаге.
Из жесткой, корявой завертки был извлечен… рыжий портфель. Небольшой, с блестящим веселым замочком и упругой ручкой, в Лелькиной руке он почти касался пола. Внутри были аккуратно сложены книги и одна тоненькая тетрадка. Схватив все это богатство в охапку, Лелька со щенячьим визгом бросилась к бабушке.
– Мама, зачем это? … – недовольным голосом протянула Тайка и пожала плечами.
Старуха и Надя, обменявшись красноречивыми взглядами, одновременно направились в кухню. Максимыч же захромал к сараю, где пробыл недолго, а после обеда попросил у Лельки портфель – проверить, в порядке ли замок.
Замок оказался в полной исправности, а когда девочка снова открыла портфель, внутри лежал новенький пенал. Присев на корточки, она стала сосредоточенно начинять обновку карандашами; только маленькие пальцы дрожали. Гулкая глиняная копилка, разрисованная под кошку, осталась в сарае, за поленницей.
Из‑ под окна за девочкой снисходительно наблюдала кукла, которая, кстати, так и не получила имени, а только длинный титул: «кукла‑ с‑ закрывающимися‑ глазами».
От шалопутный, рассердился на себя Максимыч, так мало времени, и о чем – о кукле! Нет, о Лельке. О четвертом поколении.
Пришла медсестра, поменяла бутылку в капельнице. Кивнув на пустующие кровати, спросила:
– Не скучно? Никто летом болеть не хочет, – и сама засмеялась.
Так ведь и я не хочу, подумал старик. Разве болезнь спрашивает?
В этой палате никто не задерживался. Вначале поселили маленького, сгорбленного старичка. Он двигался короткими шаркающими шажочками, а за ним шла, стараясь не обогнать, румяная сестра в тесном халате и несла узелок с вещами. Старичок едва кивнул, но было видно, что не от спесивости, а просто берег силы. Присев на кровать, он сипло и тяжело дышал, а потом начал развязывать узелок. У него так сильно тряслись руки, что Максимыч хотел было помочь, но постеснялся: мало ли, свое есть свое; прикрыл глаза и незаметно задремал. Когда проснулся, было уже темно и соседа слышно не было – спал, свернувшись в бесшумный комочек, сам похожий на узелок.
С утра Максимыча повезли куда‑ то в лифте на носилках, причем пожилой санитар ругал второго, помоложе: как ты завозишь, разве так можно? … Головой разверни, головой вперед!.. Вернувшись в палату, Максимыч увидел на кровати старичка серьезного мужчину лет пятидесяти, с полными, как у женщины, руками и прозрачным зачесом на плоской лысине. Казалось, вчерашний старичок каким‑ то чудом помолодел, так что Максимыч даже машинально поискал взглядом узелок. Новый сосед решительно повернулся к нему:
– Пижама, говорю, полагается или нет?
Тот же вопрос он задал санитарам, раздраженно приглаживая ладонью зачес, и старику показалось, что от приглаживания лысина становится все более плоской.
Потом опять была пытка запахами: развозили обед. Старик отвернулся к окну, а сосед наставительно объяснял раздатчицам, что в Республиканском госпитале ему полагалась пижама и здесь полагается. Ловкая рука поставила Максимычу на тумбочку чашку с бульоном, и он, сдерживая дурноту, с нетерпением ждал, когда тележка отъедет.
Это было для старика самое мучительное: завтрак, обед и ужин. Язва стала капризной и отторгала все, что пахнет. Улегшись в кровать после очередного приступа рвоты, он вспомнил, что и такое уже было раньше: чужие запахи. В Ростове, когда мамынька лежала в тифу, а он каждый день приходил в больницу, его сразу охватывал тревожный, пронзительный запах. Больничный воздух был так насыщен им, что нечем было дышать, и когда милосердные сестры проходили мимо быстрыми шагами, от их платьев тоже шел этот запах.
Или вот: удушливый, горький дым от горящего парохода, когда бомбили. Первый запах войны. Очнулся – точно в Ростов попал: молодой доктор, от которого пахло так же резко и пронзительно, аж в горле щипало. Удушливая пыль и тяжелый дух от потных, раненых, страдающих людей в эшелоне; второй запах войны – запах боли. Потом, в военном госпитале, уже перестал его замечать, принюхался; да и доски привезли, чтоб нары сколачивал. А чище, чем свежее дерево, разве что ребенок пахнет.
В доме у Калерии был, как и во всех домах, свой дух. Тоже поначалу непривычно казалось: то ли не хватает чего‑ то, то ли что‑ то лишнее, только не понять, что. Потом перестал замечать, привык. Даже хлеб иначе пахнул, Мать Честная!
Когда мучают чужие запахи – это и есть тоска. Ведь и старичок тот приносил вместе с узелком свой запах, вспомнил Максимыч. И унес.
Новый сосед, в борьбе обретя вожделенную пижаму, удалился в коридор вместе с фабричным уксусным запахом новой ткани. Интересно, что он так и не вернулся, словно лег в больницу из‑ за пижамы. Зашла санитарка, сдернула белье с его кровати и унесла, свернув вместе с одеялом.
А как пахнут свежие стружки! Деревом, смолой, теплом, солнцем…
Был доктор, послушал трубкой, что‑ то записал в тетрадку и посоветовал гулять. Славный доктор, спокойный.
Теперь еду приносить перестали, только чашку с питьем ставили, но даже воду глотать стало трудно.
– А бабе худо будет, – вслух сказал Максимыч, открыв глаза. Он лежал в палате один. – И сны не с кем будет гадать. Да что сны – и дрова, и топка, все самой; а зимой как? …
В окне было ярко‑ голубое небо и густая зеленая крона дерева. После обеда больница затихла. Максимыч долго ловил ногами жесткие дырявые тапки, закапанные почему‑ то белой краской, встал на ноги и надел халат. Попрошу, пусть мои принесут, что ж я чужую рвань таскаю.
Тапки оказались непослушными, поминутно соскальзывали. Старик медленно шел по коридору, стараясь не оступиться. За полураскрытой дверью громко разговаривали две женщины: одна неуверенно, другая авторитетно и жестко. «А тут чего писать? » – «Где? » – «Вот: причина смерти…» – «Пиши: отек легких. Остальное патологи впишут». Что‑ то упало со звоном, и тут же запело радио:
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Помер кто‑ то, Царствие Небесное рабу или рабе Божией. Старик перекрестился.
На лестнице тоже висел репродуктор, и лукавый голос втемяшивал Максимычу:
Самая нелепая ошибка –
То, что ты уходишь от меня…
Хирург, которого Федя нашел не без помощи всесильного пана Ранцевича, был похож на пожилого Буратино. Колпачок из старого носка давно износился, и его сменила белая крахмальная шапочка. Из‑ под шапочки торчали соломенного цвета стружки. На остром носу сидели старомодные очки, явно перешедшие по наследству от кроткого шарманщика. Наблюдая угловатые, шарнирные движения Буратино, Феденька изумлялся, как он завоевал славу блестящего хирурга. Буратино дернул его руку своей жесткой деревянной ладонью и кивнул носом:
– Очень приятно.
Его звали Теодор Карлович Бубрис.
– Очень рад, – улыбнулся Федя. При других обстоятельствах такое хорошо подогнанное имя его бы развеселило, но сейчас смешно не было.
Круглые усталые глаза Буратино смотрели деловито и серьезно. Говорил хирург так же, как двигался: короткими рывками, словно экономя фразы и слова. Кивок носом обозначал точку.
– Видел снимки. Обширная карцинома. Пальпировал. Желудок. Плюс двенадцатиперстная.
Федя ждал продолжения, хотя куда уж. То ли от бессильной злости, то ли заразившись римской лаконичностью собеседника, он спросил:
– Операция?
– Застарелая. Поздно. Неоперабельна.
– Метастазы? – не унимался Феденька.
– Пищевод. Кишечник не обследовали. Но. – Хирург пожал острыми плечами.
– Сколько? … – голос у Феди сел, но врач понял.
– Зависит как организм. Метастазы множественные. Месяц. От силы.
– Я вам очень признателен, доктор, – Федя перешел на нормальный язык и вынул из кармана приготовленный конверт.
Буратино резко мотнул головой.
– Коллега. Адаму кланяйтесь. Однокашник. Звоните, если. – И встал, упрямо не глядя на конверт.
Что – «если», ломал голову раздосадованный Федор Федорович; «если» – что? Но ничего придумать не мог, тем более что мешало радио, из которого назойливо пел развязный мужской голос:
Самая нелепая ошибка –
То, что ты уходишь от меня…
* * *
Хлопот прибавилось: начался учебный год. Тоня часто и гордо произносила непривычные строгие слова: «факультет», «конспект», «семинар». Крестник возвращался поздним вечером, охотно вступал в беседу, энергично кивая рассыпающимся пробором, но по счастливым голубым глазам становилось понятно: ничего не слышит и вообще не здесь он. Все так же улыбаясь, тыкал разлохмаченной щеткой в зубной порошок, проводил по щеке первым попавшимся полотенцем и валился с закрытыми глазами на раскладушку; с утра исчезал. Признался матери, что Милочка приедет к нему в Севастополь, как только окончит институт, и спохватывался, что не зашел к деду; завтра. Ирина тихо радовалась, да и как не радоваться, если сынок счастливый, а Милочка не только на редкость мила – вот магия и власть имени! – но и умница. Дай им Бог…
Труднее всех приходилось Лельке. Утром она завистливо наблюдала, как Людка с Генькой уходят в школу. Утешало одно: портфель.
Они с бабушкой ходили проведать Максимыча, и Лелька нашла в траве каштаны в игольчатой кожуре. От Максимыча пахло больницей, но если обнять за шею крепко‑ крепко, закрыть глаза и принюхаться, то все‑ таки Максимычем тоже.
– Ты скоро домой придешь? Мы с бабушкой Ирой твои чибы принесли и носки тоже, но ты лучше в них дома ходи. Вчера мне бабушка Матрена бусину подарила, насовсем: смотри! Она такая драгоценная, я ее в пенале держу.
Девочка вытащила из кармашка продолговатую темно‑ красную бусину.
– А Генька и Людка в школу ходят, – грустно добавила она, – и там за партой учатся. Я в книжке такую картинку видела. В школу все дети носят синюю форму и портфель. Бабушка Ира мне такую форму сошьет. Потом. Хочешь, я тебе бусину оставлю? …
Он машинально взял тяжелую кругляшку, нагретую детскими пальцами, и сидел, держа Лельку на коленях. В своих тапках, которые в семье все называли уютным словом «чибы», Максимыч приободрился.
– Бог даст, выйду отсюда, наберусь силенок, смастерю тебе парту. – К именинам не управиться; може, хоть к Рожеству. «Помоги, Царица Небесная», просил старик и ясно видел эту парту, и знал в то же время, что – нет, не успеть.
– Поедем с нами домой, Максимыч, сядем на диван и будем книжки читать. Меня во дворе цыганкой зовут, – продолжала она без перехода. – А ты мне расскажешь про бывало, и как ты цыганом был?
– Чего ж – «был». Я и есть цыган. – Старик тщательно разгладил усы. – Моя мамаша цыганкой была.
– Бабушка Матрена?! – Лелька в изумлении вытаращила глаза.
– Да не! Моя мамка. Она уж покойница, Царствие ей Небесное, – Максимыч перекрестился.
– А баба Матрена тебе не мама? Старик засмеялся:
– Нет. Она ж твоей бабы Иры мамка, вон сама спроси у ней.
– А почему ты ее мамынькой зовешь?
– Да привык. У нас пятеро ребят было, и все: «мамынь‑ ка» да «мамынька», ну так уж и пошло.
– Ты посиди сама или каштанчики поищи, – встревожилась Ира, – дед устал тебя держать. Ему полежать надо, да и лекарство пить пора.
Она поставила Лельку перед скамейкой и поправила платьице. Только сейчас Максимыч заметил обручальное кольцо на левой руке дочери. И старуха будет на левой носить, догадался он. Называться будет не жена, а – вдова. А снимет как, ведь больно? Он представил полные, красивые руки Матрены. Разве с мылом, и то… О чем я думаю, Мать Честная?! О главном надо, о главном!
В своих чибах идти было намного легче, хоть ноги все равно дрожали. Совсем никудышный стал, подумал с досадой. Толкнул дверь в палату и чуть не зашиб долговязого прыщавого парня. Новый. Молодой совсем, как Левочка. Болезнь‑ то не спрашивает.
Старик ждал внука и очень надеялся, что тот придет один. Попрощаться тихонько, и к месту; до Черного моря далеко, когда еще приедет. В том, что Левочка придет в больницу с ножиком, дед не сомневался. Сначала спросить, а потом… а то сам нипочем не догадается.
Что ж такой молодой в больницу попал, думал Максимыч, вытянувшись поверх одеяла. Лицо парня было скрыто книжкой.
– Это к вам, наверно, приходили, – новенький отодвинул книжку. – Вы Иванов будете?
– Кто? – старик привстал на кровати, словно парень мог знать.
– Не знаю, летчик какой‑ то. И с ним еще одна, такая… с косами. Медсестра сказала, что вы в парке.
Ах ты, Мать Честная! Знать бы, так подождал бы, суетился Максимыч, запахивая халат. Бог даст, встречу; посидим на воздухе.
Больничный парк пустел – люди спешили к ужину. Со стороны улицы послышался звон трамвая. Поблизости никого не было видно. Гасло небо. Над входом зажегся фонарь, устроив сумерки. Кусты сразу стали темнее и гуще. От скамейки донеслись негромкие слова. Фонарь, легко покачиваемый ветерком, нарисовал на песке два увеличенных силуэта и отчеркнул широкой полосой скамейки. Старик узнал голос внука, но подходить не спешил; остановился. Девушка откинула голову и сказала: «Я тебя здесь подожду. Ты скоро? » Тот слегка наклонился к спутнице и тихо‑ тихо, как очень счастливые люди, засмеялся: «Сейчас», но не шевельнулся.
Осторожно ступая по песчаной дорожке, Максимыч двинулся обратно. Хорошо, что в своих, хоть с ног не сваливаются. Шел и улыбался, зачем‑ то выравнивая усы, и опять улыбался. «Вот оно как, – произнес негромко. – Вот как! » – повторил с торжеством кому‑ то – не иначе как Царице Небесной. Он и парню в палате хотел сказать, по‑ видимому, то же самое, но парня, как и следовало ожидать, там не оказалось, только лежала примятая подушка и книга, перевернутая домиком на постели.
Когда старик снял халат, что‑ то твердое упало и медленно покатилось по полу. Он нагнулся, держась за спинку кровати, и поднял Лелькину бусину. Осталось лечь и согреть ее в ладони.
Трамвай долго не приходил. Зажглись фонари и, покачиваясь, тускло отражались в рельсах.
– Бабушка, – обернулась Лелька, – а во‑ о‑ он моленная наша, смотри! Ты плачешь, бабушка Ира? У тебя голова болит?
Плохие вести расходятся быстрее добрых, растекаются злыми едкими ручейками. Федор Федорович здесь ни при чем, ибо никому, кроме пана Ранцевича и Тони, о беседе с хирургом не рассказывал.
Мамыньке решили не говорить. Ире – тоже:
– Не слепая, – раздраженно бросила жена, – видит отца каждый день; сама должна понимать, к чему идет.
Братьям? Ну, о младшем и говорить не приходилось: его трезвым и застать‑ то трудно. Хотя отец есть отец, нерешительно вступился Феденька, который своих родителей не помнил, а когда хоронил тетку, извещать было некого.
– Я говорю, нет! – высоким, напряженным голосом воскликнула Тоня, и муж замолчал.
– А вот Мотяшке обязательно…
Но печальный этот разговор был прерван длинным звонком. Это пришел Мотя, прямо с работы: узнать, что врачи говорят. И посмотрел на Феденьку с боязливым ожиданием.
Конечно, его приход был вполне объясним логически: отец болен, сын переживает, а муж сестры – человек знающий, сам доктор, хоть и зубной. Но ведь Мотя позвонил в дверь, как раз когда говорили именно о нем! Да и не принято было являться к Тоне без предупреждения, всегда заранее сговаривались через мать, которая единственная была абсолютным исключением из этого правила и служила надежным и безотказным диспетчером. Опять‑ таки, ситуация экстремальная: это не Симочка в поисках спасительной рюмки, так что даже и гостем не считался, тем более что жил в двух шагах. Однако рассказчик качает головой: нет, это передалась мысль. Старший брат услышал непостижимым образом, что речь идет о жизни и смерти – вернее, теперь о смерти, – и постиг это не в тот момент, когда было названо его имя, а раньше, когда супруги только начали тяжелый разговор; потому и сел в трамвай, идущий не к дому, а в противоположную сторону, к сестре.
Детям, конечно, знать ни к чему; с этим согласились все. А вот мамынька… Тихий, всегда уступчивый Мотя упрямо покачал седеющей головой:
– Мамаша должна знать. Проститься надо, а то не полюдски получается.
– К чему ей целый месяц душу мотать? … – возмущалась сестра.
– Месяц от силы, – поправил муж, – а если раньше? Он же на глазах тает. – От какого момента следовало начать отсчет гипотетического месяца, и сколько от него осталось, Федор Федорович и сам не очень понимал.
– Пускай Ира скажет, – настаивал брат, все и всегда безоговорочно доверявший старшей сестре.
– Она ничего сама не знает, – обронила Тоня не то чтобы высокомерно, а – недовольно.
– Сестра – знает, – Мотя сделал паузу, – ей говорить не надо.
Условились, что мать Тоня возьмет на себя и осторожно, не сразу, но скажет… Проститься надо.
Тонина миссия, как ни странно, смягчила ее собственную реакцию: нужно было самообладание и хладнокровие для двоих. Она объяснила матери, что Федор Федорович беседовал с докторами и что доктора весьма обеспокоены папашиной болезнью. Федор Федорович вызывал… разговаривал… проконсультировался… Дочь умышленно наградила обоих консультантов профессорским званием, потому что с лица мамыньки не сходила скептическая недоверчивость.
– Что ты мямлишь, – рассердилась старуха, хотя Тоня говорила четко и уверенно, тщательно подготовившись к нелегкому разговору. – Что ты плетешь?! Да и что они знают, твои доктора, – продолжала Матрена, одним махом разжаловав мнимых профессоров в их истинную должность, – что они знают?! Ну ты сама посуди: то к чахоточным свезли, то теперь здесь держат! На кой человека в больнице гноить, если вылечить не могут? Пустили бы домой, я бы его враз подняла!.. Ты скажи Феде, – наставительно продолжала мать после возмущенной паузы, – пусть спросит там: може, его не так лечат? Тогда к свиньям собачьим таких докторов! А если язву резать надо, так пускай режут: надо, так надо.
Даже если судить только по «свиньям собачьим», старуха разъярилась не на шутку. Слово «черт» в семье было под строжайшим запретом, и даже такой допустимый эквивалент употребляли нечасто.
Дочь напомнила, что резать надо было раньше, может быть, несколько лет назад, а теперь время для операции упущено. Что язва вовсе не язва, говорить не стала, – к чему?
– Он ведь крепкий был всегда, – горячилась мать. – Помню, я в Ростове тифом болела, – ты не можешь помнить, ты трехлетняя была, – так он ко мне каждый Божий день ходил – и хоть бы хны! Ирка один раз прибежала – и свалилась, а он… По сколько лет, говорят, люди с язвой живут!
Какие «люди», кто ей такое сказал, изумлялась дочь, но хорошо уже, что дело начато. Постепенно, постепенно; сразу нельзя.
С протяжным звоном хлопнула дверь парадного, и Матрена вышла на улицу. Ласковое сентябрьское тепло не смягчило ее гнева. Брови напряглись и сблизились, румянец молодил лицо, походка превратилась в поступь. Не сбавляя решительного шага, она свернула на Столбовую, но не направо, к Симочке, а в противоположную сторону. Через полчаса удивленно чмокнула больничная дверь: хлопка не вышло.
Дверь же в палату была и вовсе без пружины, да и хлопать как‑ то расхотелось: старик спал. Он лежал, запрокинув голову и чуть приоткрыв рот, как очень усталый человек. Матрена с недоумением смотрела на торчащую бородку, синие губы, точно чернику ел, и странно побледневшие рыжеватые усы, пока вдруг поняла: поседели. Под горлом, между торчащими ключицами, тихонько пульсировала маленькая ямка – будто слабый родничок. Старуха задела ногой табуретку, и муж открыл глаза:
– Мамынька? …
– Что ж тут понаставлено хламу под ногами, – она пыталась недовольным голосом замаскировать растерянность. Деловито придвинула охаянную табуретку к кровати; села. – Ну? – требовательно обратилась к мужу, – сколько ты тут будешь казенные тюфяки пролеживать? Точно дома уже и делов нету. Ручка от буфета, знаешь, левый ящик, где Надька вилки держит? – ручка расколовши, так она веревку привязавши и так, за веревку, ящик тягает, слыханное дело! Потом, стуло дальнее, что у окна стоит, шатается; я могу Мотю попросить, да у него своих делов…
Помолчали. Матрена расправила сбившееся одеяло, и Максимыч, взглянув мельком на правую руку с венчальным кольцом, еще раз подумал, как трудно будет его снимать, и о том, что надевал‑ то кольцо он, а снимать – ей.
– Матреша, – начал он, и старуха испугалась: это когда ж он ее так называл? Давно… когда? Когда папаша мой померши был, вот когда. И после Лизочки, на кладбище уже. – Ты прости меня, Матреша, – просто и серьезно сказал муж. – Столько прожили, никого у меня роднее нету.
– Бог простит, – строго ответила мамынька.
Это старик знал сам. Он ждал прощения от нее, слова или знака, но лицо жены, как всегда при упоминании Бога, сделалось вдохновенно‑ неприступным. Максимыч дернул с досадой кончик уса, но старуха молчала. Это тоже было, подсказала память, когда на коленях стоял, и палка рядом валялась. Тогда, после войны. А для нее – после Кемерова.
Максимыч ухватил тощую складку одеяла, словно держался за нее обеими руками.
– Матреша, – снова произнес он, – ты свози Лельку на море… после меня. Помнишь, как мы с ребятами там жили, в мирное время?
…Дачу снимали сразу за дюнами, чтобы не тащиться караваном к пляжу, а выйти за калитку – и море. Снимали сразу целый дом, чтобы хватало места для взрослых детей и внуков. Старуха мечтательно улыбнулась, не вспомнив даже, а – увидев все сразу: нежные струйки клубничного сока на взбитых сливках, хрупкие плечики внуков, на глазах покрывающиеся загаром, «бабушка‑ можно‑ мы‑ пой‑ дем‑ купаться» и счастливый визг. Вспомнила – увидела, как они со стариком входят в серо‑ зеленую воду и терпеливо идут до третьей мели, где, наконец, и начинается купанье. Для них с Ириной это означало дальний и долгий заплыв туда, где вода была намного холодней и угрожающе отблескивала тусклым угольным цветом. Потом, бодрые и освеженные, они плыли назад, спокойно переговариваясь и вспоминая глубокие воды Дона. На песке кутались в толстые махровые халаты и лежали, наслаждаясь отдыхом и любовно наблюдая за детьми. Тайка в свои… сколько ж ей было тогда?., десять? нет, одиннадцать, – была таким же прирожденным пловцом, что и доказала как‑ то раз, паршивка эдакая. Ира целый день пролежала пластом в темной комнате.
– Ты помнишь? – домогалась Матрена. – Ни говорить, ни исть не могла. Я ее святой водой кропила; помнишь?
– Да… – Старик подумал: а сам вспомнил бы? Навряд. Вот если б море приснилось, тогда бы вспомнил.
– Пора мне, – заторопилась старуха, – что ж рассиживаться. Надо еще в хлебную лавку по дороге зайти.
И мне пора, Матреша, чуть не сказал старик в дверной проем.
* * *
Дома никого не было. Положив на буфет коричневую буханку, Матрена направилась прямо к шкафу и, встав на коленки, вытащила из‑ под него жестяную коробку. Пыли на крышке не было, ибо на днях старуха что‑ то уже искала. Нашла, нет ли – неизвестно, однако ж бусина Лельке от щедрот досталась.
Сначала она пробовала приподнимать верхние слои с угла в надежде найти искомое; куда там. Промокнув концом головного платка верхнюю губу, отдышалась и стала методично перекладывать свои реликвии в крышку. На флердоранжевой диадеме несколько лепестков скрутились, как фитильки, и старуха бережно их расправила. Морщинистая папиросная бумага облекала елочного ангела – увы, даже ангел не ведал еще о полиэтилене, – а под ним лежала матовая коричневая фотографическая карточка. Матрена вынула ее и стала долго и пристально рассматривать.
Небольшой, как уменьшенная открытка, снимок был сделан с необыкновенной четкостью, хоть предмет изображения не поражал оригинальностью. На больничной кровати очень прямо лежал пышноусый старик, в изголовье и в ногах стояли медицинские сестры. Удлиненные платья, строгие, прямые передники и небезучастные лица возвращали к эпохе сестер милосердия. Все трое смотрели в объектив, смотрели внимательно и спокойно. Их взгляды, а также безукоризненная геометрическая правильность постели, возможная только, когда человек не озабочен уже потребностью двигаться, делали кровать одром смерти, чем она и была. Отец смотрел прямо на Матрешу, смотрел обреченно и тоскливо, будто стараясь насмотреться и запомнить навечно.
Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего Ионы. Старуха перекрестилась на иконы и поцеловала твердую картонку.
Воспоминания, как это часто случается, потекли от смерти в живое прошлое, словно нитка клубка разматывалась. Там, в клубке, таилось плотное ядро жизни, а снаружи только запыленный, разлохмаченный конец нити. Могучая фигура Ионы Спиридонова уже возникла однажды в этом повествовании, и за ней даже показался на миг силуэт его тихой, кроткой жены с хлопотливым именем Сиклитикея. Да как не хлопотать: четверых сыновей и столько же дочерей родили и всех, слава Богу, вырастили, что по тем временам бывало ох как нечасто. Жену Иона называл Тишей, да она и была такой: тише всех. Старшим сыном был Феодор, старшей дочерью – Ксения, очень рано выданная замуж и до времени овдовевшая. Больше всех помогала матери в доме Матрена, потому и привыкла она командовать как братьями, так и сестрами, а перебравшись с мужем сюда, к самому синему морю, позаботилась о том, чтобы переехала ее семья. Отец, долго проработавший бакенщиком на Дону, сменил без лишних слов одну реку на другую, а бакены – они и есть бакены. Тиша дождалась внучки и даже понянчила ее немножко, а других Матрешиных деток не увидела: занемогла и слегла, да больше и не встала. Сохранилась фотография, где она сидит, приобняв рукой трехлетнюю Ирочку, а слева стоит младшая дочка Акулина, коей на вид никак не больше одиннадцати.
Когда гроб с женой опустили в ярко‑ желтый сыпучий песок, – послушно разматывался Матренин клубочек, – Иона остался жить с незамужними дочерьми. «Девки, – хмурился он, – хорошенько стирайте мне рубахи, как мамаша покойная! » Да только незамужние дочери были обеспокоены своим затягивающимся девичеством и все усилия затрачивали не на стирку отцовских рубах, а на поиски женихов, что в перспективе сулило им все ту же стирку рубах. У Матрены уже было двое детей, так что стирки и кипячения куда как хватало. Нет‑ нет да и забегала замужняя дочка Ксения – не столько помочь, сколько ужаснуться и попенять сестрам. «Смотрите, – сердился отец, – не будете как следует ухаживать за мной, возьму да женюсь! »
Как уже упоминалось раньше (тоже клубочек нитку раскручивал, только в мирное время, обернувшись нарядным и праздничным серпантином), Иона всегда был немногословен, да и те немногие слова не привык бросать на ветер. Не успели дотрепетать на ветру запоздало выстиранные льняные рубахи, как отец женился.
Несмотря на то что все слышали его угрозы, изумлению детей не было предела. Сколько ему тогда было лет? Родился он в год смерти Пушкина, не подозревая, впрочем, о смерти поэта, как и тот, во гроб сходя, не узнал о рождении Ионы Спиридонова; стало быть, второй раз шел под венец в шестьдесят девять лет, а это вам не фунт изюму, как говаривала Матрена, играя соболиными бровями. Более того, женитьба отца явилась предметом особой семейной гордости, ибо взял он за себя девушку. Старую девушку, поправляли те, кто не понял пока, как относиться к этой женитьбе, хотя двух мнений быть не могло: вот они, венчальные свечи, а девушка хоть и «старая», так ведь далеко не старуха – Марфуше еще тридцати не было.
Соскучившись от долгого девичества, Марфуша любовно стирала, гладила и просто, но сытно кормила мужа, а через год счастливые родители стояли над купелью; дочь была крещена Руфиной. Других детей от этого брака у Ионы не было, но скептики и так пожимали плечами: принято было считать, что старик женился ради стирки, а тут… Несмотря на уговоры дочери, отец в эвакуацию не поехал и пережил смутное антихристово время, деля свою жизнь между домом и рекой, где бакены никто не отменял, а значит, их следовало зажигать и гасить вовремя. С Марфушей и подросшей дочкой встретил вернувшихся из Ростова и молча выслушал их скорбный рассказ.
Матрена смотрит на старую карточку и удивляется, что на смертном одре отец почти не изменился лицом, но куда девалась исполинская фигура, размах плеч? Ну, да карточка маленькая, приходит успокоительная мысль. Разматываясь, нитка клубка несколько раз запутывалась, но потом выравнивалась, а самого клубочка‑ то осталось всего ничего – так, смятый комочек, искривленный наподобие почки. Папаша ничем никогда не болел, и Матрена силилась припомнить, от какой же болезни он помер? Что‑ то доктор говорил о почках, но это всплыло сейчас, а тогда… Тогда она дохаживала с Лизочкой, Царствие ей Небесное, и была уверена, что помер он от старости. Шутка сказать – восемьдесят три года. Да и никак это не было похоже на болезнь, убеждала она кого‑ то. Пришел вечером с работы, рассказывала Марфуша, умылся и начал делать свою излюбленную тюрю: лук порезал, хлеб покрошил, да только оставил почему‑ то, крошки на столе сдвинул холмиком и – лег. Наутро подняться не смог, а в больнице… Сколько он в больнице лежал? Клубок размотался до конца, оставив куцую нитку… Вот тебе и вся жизнь, додумывала она уже без клубочка, снова опустилась на колени и задвинула коробку под шкаф.
И вовремя: хлопнула входная дверь, брошенная Генькой и радостно подхваченная сквозняком, и сразу же затараторила Надька. В собственном доме спокою нету, с досадой подумала старуха. Так хотелось закрыться, запереться и никого не видеть, остаться наедине с укатившимся клубком… Она зачем‑ то открыла дверцу шкафа и бесцельно передвинула несколько вешалок. Нету спокою, нету… Внизу лежали сложенные «на всякий случай» вещи, или, вернее было бы сказать, черновики вещей: нечто раскроенное, но по какой‑ то причине не сшитое, перевязанное ленточкой из той же ткани; или, наоборот, распоротое и заботливо сложенное; дежурная стопка одежды на починку, нитки… Все клубки давно пора собрать в мешок, вдохновилась старуха, а то катаются по углам, что ежики. Нашелся и мешок. Она собирала клубки и клубочки, как картошку, и уже мысленно прикидывала, из чего можно связать жилетку на зиму, как тусклое семечко упало на пол, но не осталось лежать, а неуверенно запрыгало и опять плоско закрутилось в воздухе. Моль. От‑ т паскуда! Весной все упихала нафталином; это теперь нафталин такой делают. Она решительно сдвинула брови. Хочешь не хочешь, весь шкаф перебирать надо. Снова мелькнул в воздухе прерывистый золотистый штрих, резко пресеченный властным хлопком. Завтра же все проверить, не то сточит… как язва какая.
Хоть Симочка отродясь не знал, кто такой Симеон‑ летопроводец, это не мешало ему гордиться, что начало бабьего лета приходится на его именины. Мать обязательно зайдет поздравить, а ближе к вечеру и Тоня… со своим индюком. Сестра щечкой дернет, будто графиня у пивного ларька, а индюк руку пожмет и торт на стол поставит. Чем на такой торт деньги выбрасывать, лучше бы хоть раз бутылку «беленькой» принес… Это ж почти две выходит! Да где там, держи карман шире. Тонька еще в кухню пройдет, так это, бочком, чтобы крепдешины свои не загваздать, и начнет из сетки харчи доставать. Чай, консервы всякие, детям лакомства. Подачки. Конечно, у нас паркетных полов нету, детей на пианино не учим, зато угостить – угостим. И портвейн есть, и водка припасена (он взглянул на початую бутылку), и закусить найдется. Мы живем по‑ простому, а только ни у кого милостыню не просим. Именинник гордо расправил плечи.
Ирка не придет; оно и лучше. «Грех, Сеня, грех: женись, чтоб перед Богом и людьми…» Дочка у ней – та совсем другая: забежит, папироску‑ другуто с ним за компанию выкурит, а то и рюмку выпьет.
В кухне что‑ то булькало. Валька уронила крышку от кастрюли, и было слышно, как она со звоном покатилась по полу. Безрукая, пся крев.
– Папа, там копейка, – Сашка, гундосый, как всегда, протягивал руку под стол.
Отец посмотрел вниз.
– Во‑ первых, не копейка, а двадцать копеек, это разница. А во‑ вторых, – продолжал он, разогнувшись и держа в руках раздавленную алюминиевую крышечку от «маленькой», – уйди из‑ под ног, не мешай.
Налил рюмку. Семен‑ день! Беззвучно выпил. Посмотрел на возившихся детей в линялых, застиранных одежках, на тусклые стены, захватанные и лоснящиеся на высоте детского роста. Встал и потянулся за пиджаком. Чем сидеть, лучше мамыньке навстречу пойти. Мол, так и так, пригласить хотел. Минуя кухню, глянул исподлобья: Валька резала лук, вытирая плечом слезы. Швырнул дверь: поплачь, поплачь.
Она плакала сегодня два раза: сначала получила письмо от матери, а затем «получила» от Симочки, который не успел перехватить конверт и, разорвав, спустить в уборную. По‑ польски Симочка не читал, и письма были ему не нужны, а только и ей без надобности, что он Вальке и демонстрировал, швыряя в унитаз голубые клочки. Вот так‑ то. Сегодня она встретила почтальона на лестнице, когда шла за молоком, поэтому на протяжении короткого пути в магазин, а потом в очереди она была счастливой Вандой и на обратном пути тоже чувствовала себя Вандой. Улыбаясь, Ванда спрятала голубой конверт, потом спрятала улыбку, но мысль спрятать не успела: жалко было расставаться с нею так быстро. Между тем мысль‑ то передается, даже если люди думают на разных языках. Впрочем, нужен ли вообще язык для передачи мысли, если эта мысль ярко эмоциональна, если живущий ею счастлив или, наоборот, скорбит? … Однако же эти рассуждения принадлежат целиком рассказчику, а Ванда, переступив порог квартиры и все еще светясь от полученного письма, была встречена Симочкой. Она поставила бутылку с молоком и сняла жакетку, а когда обернулась, увидела твердую вытянутую ладонь: давай. Ну!.. Ванда растерянно выгребла сдачу из кармана жакетки и протянула ему, а через несколько минут опять стала Валькой: кофта была растерзана, щека горела. Победитель смял письмо, и шум спускаемой воды был почти заглушён детским плачем.
Старухин маршрут именинник знал наизусть. На подходе к родительскому дому выкурил папиросу и приготовился к мамынькиному угощению.
Дверь открыла Людка и сказала: «Здрасссьть», а поздравить не поздравила; племянница, называется. Когда Симочка в последний раз приходил сюда с гостинцем, он запамятовал; так ведь не о нем речь – о воспитании.
Он мазнул костяшками пальцев по Ириной двери – вроде постучал – и сразу же дернул за ручку:
– Мамынька? …
Ответила сидящая на горшке Лелька:
– Бабушки Матрены дома нету.
Симочка знал, что мать держала в шкафу настойку из черной смородины; хорошая настойка, крепкая. Он шагнул к шкафу, но был неприятно удивлен: дверца оказалась заперта, однако ключ, против обыкновения, в скважине не торчал. Озадаченно и с досадой подергав дверцу, он раздраженно спросил у девочки:
– Что ж у вас все заперто, воров боитесь?
– Это чтобы каждый лайдак не шнырял, – пояснила Лелька, не прерывая главного занятия.
На лестнице Симочка опять закурил. К Тоньке зашла, не иначе; не к Мотяшке же. Этот, небось, тоже вечером придет, со своей колодой вместе. Или не придет. Правду никто не любит; он сам в этом убедился, когда назвал Мотю дезертиром. На мамынькиных, что ли, именинах… Да нет! У Мотьки в гостях и было, в прошлом году. Так в глаза и сказал, ему стыдиться нечего. Выпил, конечно; так ведь правду сказал, и не за спиной, а в глаза. А правду‑ то и не любят.
Кепки чередовались с платками; ближе к центру замелькали дамские шляпки. Чаще и настойчивей звонили переполненные трамваи: люди ехали с работы. Лошадиные копыта извлекали из брусчатки ксилофонный звук, стучали колеса телег. Рванула пулеметная очередь: с грохотом промчался на самокате мальчишка с застывшей в воздухе ногой.
– Пора на стол накрывать, – нерешительно сказала Валька.
Она принарядилась и завила волосы. Дети, умытые и одетые во что‑ то немыслимо красивое и яркое, присланное польской бабкой, жевали печенье. Симочка медленно выцедил полную рюмку и, расстегнув ворот рубашки, еще раз окропил шею одеколоном. Семен‑ день!
А вот и первый звонок: идут.
– Сам открою.
Он шумно отодвинул стул, распахнул широко дверь и увидел зятя. Одного, без Тони и без торта.
– Что ж вы по одному, – именинник выставил нижнюю челюсть, вроде улыбнулся. – Ну милости просим!
Федя ошарашенно вдохнул водочные пары, глянул на нарядных детишек и праздничный стол.
– Отец умер. Похороны послезавтра.
Твердо отцепил Симочкины пальцы от своего рукава и вышел.
День похорон приходился на среду. Все печальные и необходимые хлопоты: панихиду, похороны, поминки – под знаком буквы «П», отчего, должно быть, она и зовется «покоем», взяли на себя Тоня и Мотя. Старшая дочь неотлучно была с мамынькой: слава Богу, от отпуска оставалось еще два дня.
Матрена не плакала, не убивалась, а пребывала все время в стойком недоумении, даже брови не выдавали смятения, а как приподнялись 14‑ го сентября, так и остались приподнятыми, словно в ожидании чего‑ то. Она молча и упрямо крутила венчальное кольцо, плотно и преданно льнувшее к привычному пальцу; намыливала и трудилась опять. Надя посоветовала смазать постным маслом, и теперь казалось, что у старухи два кольца: на левой выпуклое золотое, а его глубокий оттиск – как тень – на правой. Все это старуха проделала в полном спокойствии.
– Шок, – непонятно объяснил Феденька, – блокада. Может быть, вначале и лучше.
Ира видела, как мать медленно достала из шкафа черное платье, черный платок и так же хладнокровно переоделась. Повернулась было к завешанному зеркалу, потом к дочери:
– Поправь мне платок сзади.
По дороге в моленную она подробно рассказала, как изничтожила моль, а то ведь какую шкоду могла сделать! Пришли, наконец. Всю панихиду старуха отстояла с такими же выжидающими бровями и очень спокойно; свеча в руке не дрожала.
Лельке тоже дали свечечку. Максимыча ей видно не было: он лежал очень высоко в гробу с серебряными кружавчиками, а на полу были набросаны еловые ветки. Пахло Рождеством. Бабушка Ира поставила ее рядом с лесенкой, которую сделал Максимыч. Лелька с удовольствием забралась бы на лесенку, чтобы увидеть деда, но боялась, что заругают: сегодня все очень строгие, да и лесенка выше ее самой, а в моленной падать – это грех. За Максимыча Лелька была спокойна, потому что он воскреснет, как Исус Христос. Она нарочно поставила его чибы прямо к дивану. Может, они вернутся, а Максимыч уже дома!..
Мама взяла ее за руку:
– Пойдем, Ляля.
Гроб закрыли, и он стал похож на дом под крышей, только без окошек. Жалко, что не стеклянный, а то качался бы на цепях.
Дорога шла в гору, и гроб несли очень бережно, чтобы не оскорбить торопливым толчком или резким наклоном. Пересекли серую брусчатку Большой Московской, про которую никто, кроме Максимыча, не знал, что она похожа на рыбу, только сейчас она была не замороженная, а выброшенная на мель и занесенная песком, но все равно – рыба. Все, кто отстоял панихиду, двигались следом. Первые ряды были совсем ровные, черные и безмолвные, дальше от гроба группки становились пестрее и озвучивались, люди перетекали из одной в другую, негромко переговариваясь.
Семейное кладбище располагалось на пригорке. Старуху держали под руки сыновья, и было видно, что держат крепко. Ира и Тоня с мужем стояли рядом. Гроб, казалось, отдыхал после извилистого пути по улицам и кладбищенской тропе. С противоположной стороны встали невестки; пространство между ними заполнили внуки. Только двое самых младших не пришли проводить деда: Ванда оставила их на соседку. Остальные одиннадцать, похожие и разные, взрослые и подрастающие, смотрели то на гроб, то на высокую горку ярко‑ желтого тяжелого песка. Здесь же стояла маленькая правнучка. Песок уже набился в обе туфли, но снять их и вытряхнуть она не решалась. Другие родственники деликатно рассредоточились позади плотными неровными рядами.
Кадило в руке батюшки было похоже на тяжелый послушный маятник. Звучащие слова отличались от привычных так же, как запах ладана от коптящей лучинки, но что‑ то нет‑ нет да и проникало в уши.
Приидете на гроб, братие…
Был только полдень, третий день бабьего лета, очень светлый и теплый.
Воистину суета всяческая житие се, сень и сон…
Густая сень деревьев почти не шевелилась, словно для того, чтобы не мешать словам, медленно плывущим в ароматном дыму:
Господня есть земля, и исполнение ея, вселенная, и ecu, живущие на ней…
Неожиданно для себя самой заплакала Надя. Слезы лились по румяным щекам, и батюшка читал дальше, а она долго еще слышала это: «Господня есть земля…»
Левочка слушал не столько звучные слова, сколько смиренный голос. Казалось, это дед говорит ему: «Вот так отпусти пружину, видишь – крючок. Это когда лошадь захромает, ты первым долгом слезь и проверь копыта: бывает, камешек попадет, ей ступать больно. Ты этим крючком камень подденешь, и к месту! Я так и знал, что ты сам не догадаешься». И потом, задумчиво: «Самолеты самолетами, а там как знать. Може, и на коне оказия будет когда».
В недрах Авраама, и Исаака, и Иакова…
Не один Лева, вслушиваясь в отпевание, слышал другое. В ушах Федора Федоровича звучал изумленный голос патологоанатома: «Подумайте, какое сердце, какое сердце богатырское! Да он с таким сердцем прожил бы еще двадцать пять лет! » Почему двадцать пять, а не двадцать или не тридцать, откуда он это взял?! И сам патологоанатом, и юбилейная цифра двадцать пять Феденьку безмерно раздражали; примиряло только скорбное изумление в голосе врача. А сейчас он стоял над открытой могилой и думал теми же словами: какое сердце, Господи, какое сердце…
Куда‑ то пропало легкое облачко, и желтизна холма сразу утратила свою яркость. Солнце ринулось на рыхлый песок широкой, щедрой струей, чтобы согреть его влажную тяжесть. Точно так же когда‑ то солнце, которое так любил Максимыч, падало на ворох стружек, и он от безграничного счастья мог только вымолвить: «Мать Честная!.. » То же самое солнце ровно залило кладбище, превращая черный цвет в серый, обесцвечивая дымок ладана и заставляя щуриться не только от слез.
Рабу Божию преставлешемуся, Григорию, ему же погребение творим. Вечная память…
Матрена вздрогнула, словно ее окликнули громко, и внимательно посмотрела на батюшку.
…прости его и помилуй. И вечныя муки избави. Небесному Царствию причастника учини. И душам нашим полезное сотвори.
Маятник кадила послушно качнулся еще раз, батюшка перекрестился и легонько кивнул. Из‑ за кустов вышли четверо в кепках, деловито продвинулись к могиле и каждый ухватил конец бесконечно длинного полотнища. Не переговариваясь, а только обмениваясь взглядами, начали ровно опускать гроб в яму.
И Матрена закричала, запрокинув к небу гладкое лицо в черной оправе платка, закричала сильным, высоким и совсем беспомощным голосом. Не в открытое море, а в разверстую землю, в желтый плотный песок уходила старухина золотая рыбка. Уходила, ничего не сказав и не простив ее… Оба сына, большие и сильные, крепко держали мать под руки, но старуха не билась, не рвалась: она тянула ввысь свой долгий отчаянный крик, надеясь, что сам Царь Небесный услышит и – сжалится, отпустит раба Божия Григория.
Тоня рыдала, чуть заметными движениями поправляя черную кружевную мантилью. Ира стояла, не отводя глаз от песка, сложив руки замком и словно оцепенев. Левочка полез в карман за платком, нащупал нож и вдруг заплакал, пряча лицо в новенькую фуражку.
Были брошены первые горсти земли, давно усыновившей старика, и казенные люди в кепках ловко швыряли лопатами песок вслед ему, а Лелька так и не сумела заглянуть в яму, откуда Максимыч будет воскресать, поэтому ей тоже стало грустно.
Третьим днем бабьего лета началась суровая старухина зима. Они прожили вместе пятьдесят лет и три года.
Теперь следует продолжение – рассказ о старухе.
Жила‑ была старуха.
Она осталась жить, держа на коленях – или в жестяной коробке, что хранится под шкафом, или в памяти, неважно, – все еще не размотанный клубок. Он лежит, съежившись, и нужно просто потянуть за конец нити… Но нитка легко обрывается, отслаивается от клубка, как обрывается и остается в пальцах следующая, и опять… Он источен молью, этот небольшой уже клубок, и рассказчику – да и старухе – предстоит связывать надсеченные концы.
История не окончена. Старик умер, но осталась старуха, и не в радость ей ни новое корыто, ни соболья душегрейка… Они жили долго, но не умерли в один день. Не всегда жили они ладно, это правда; но только став вдовой, Матрена поняла, что была счастлива. Да‑ да: пятьдесят три года под одной крышей, семеро рожденных детей, боль и страх друг за друга только таким словом и можно назвать. Другие властные три «К»: кровля – кровать – кровь связаны не этимологией, но общей судьбой, и надежно связаны; а треугольник – самая жесткая фигура…
Старуха осталась жить, плохо представляя, как это делать, но смутно зная, что так нужно.
А на следующий день Лева уехал в Севастополь. Долгая дорога в поезде не оставила ему времени, чтобы познакомиться с попутчиками за картами, домино или пивом: лежа на верхней полке, он потрясенно думал о мгновенности – и бесконечности – своего отпуска и впервые уезжал с сосущей тревогой в сердце.
Ира проводила сына на вокзал, вернулась домой и легла на кровать, не откинув даже покрывала. Когда мать пришла из моленной, она все еще спала. Зная аккуратность дочери, старуха изумилась, что на одной ноге был надет тапок, а вслед за этим удивилась самой себе, как она обратила внимание на такой пустяк. Подошла к кровати и похолодела: Ира тихо говорила что‑ то по‑ немецки, а в полуоткрытых глазах светлели одни белки.
Матрена забыла перекреститься. Она велела Лельке быстро обуться и через бесконечные полчаса, бормоча: «Господи, помилуй, Господи, спаси и сохрани» уже звонила к Тоне в дверь.
– Так надо было «скорую» сразу, – растерянно заметалась дочь.
– Чтоб опять к чахоточным свезли, – старуха устало опустилась на стул. – Дай спокой…
Здесь нитка опять невесомо повисла в воздухе, но это не беда: дальнейший ход событий мало чем отличался от недавно описанных: шляпка, зеркало, сумочка, щелчок замка.
Вечером, приехав из Республиканского госпиталя, Федор Федорович сказал, что пока ясно только одно: необходимо срочно оперировать. Будут делать трепанацию черепа.
– Это что ж, голову трепать будут?! – не поняла мамынь‑ ка.
Зять принялся было осторожно объяснять, но Тоня решительно перебила:
– Лелинька останется у нас; может, и ты, мама? … Но старуха опустила ладонь на стол:
– Нет, поеду. – Безымянный палец был ровно перерезан глубокой канавкой. – Нет, – повторила она, – мне домой надо.
По пути она вышла у моленной, где поставила две свечи: одну за упокой раба Господнего Григория, другую – за здравие рабы Господней Ирины; домой шла пешком.
В Андрюшиной комнате было тихо: ушли. Она села за стол, сложив руки на скатерти и глядя то на огоньки лампадок, то на их отражения, растянутые боками самовара. Это уже было, вспомнила Матрена. Сидела вот так же одна, и лампадки теплились; ждала старика с войны. Сейчас она одна не была: вот‑ вот появятся невестка и внуки, но нечем было верить, что повернется его ключ в замке; а все остальное – так, как было тогда…
Теперь нужно было ждать дочь.
Завтра первым долгом – в больницу… Нет, сначала к Тоньке: и ребенок там, и ехать в такую даль лучше вместе.
Интересно, что, думая и говоря о правнучке, старуха, как правило, употребляла нейтральное слово «ребенок». Иногда, впрочем, появлялись другие слова, окраски отнюдь не нейтральной и рассчитанные на взрослого собеседника, – да и то, разве ребенок в таком возрасте может знать, к примеру, слово «ублюдок»? Нет, конечно; откуда. Нет, Матрена нечасто роняла такие поганые слова: ребенок‑ то не виноват; и гневно крестилась. Называть, однако, правнучку по имени отчего‑ то избегала – во всяком случае, делала это редко. Может быть, она так и не простила любимой внучке произвольный выбор имени, а скорее, не до конца простила обиду, которую та причинила старухе самим фактом появления на свет такого ребенка.
В корзине с чистым бельем лежали только вещи мужа, выстиранные и выглаженные. Надо проверить шкаф, отобрать что осталось и снести в моленную, пусть отдадут в богадельню. Собрать все в узел – не являться же в храм с корзинкой. Старуха вдруг увидела себя в коридоре моленной – растерянную, с узлом в руках: «Вот… вещи моего мужа… покойного. Може, кому Христа ради…» и явственно услышала чужой шепот сзади: «Вдова мастера Иванова…»
Как чудно, думала старуха, он – муж, а я – вдова. Никогда раньше она об этом не задумывалась. Когда сестра Ксения схоронила мужа и тоже стала называться вдовой, Матрена нисколько не удивилась, однако думать о себе: «вдова», более полувека проживши женой, было диковинно. Вдова – это как сирота, вдруг поняла она.
В комнате на полу валялся платок дочери – соскользнул с головы, когда увозили. Швейная машина замерла, подавившись клетчатым ломтем. Ирка уже двенадцать лет вдовствует, да и эта… Надька вон тоже. Молодые бабы; что ж мне Бога гневить. Чуть дрогнул маленький твердый рот, но слез не было. Нагнувшись за платком, она увидела под креслом газетный сверток и догадалась: из больницы.
Тоня сложила вещи второпях, и старуха зачем‑ то стала разглаживать их руками, но вначале поставила у порога сапоги, на которых осела пыль Большой Московской и двух больниц, а за рант набились песчинки с последней рыбалки. Из‑ за того, что Максимыч приволакивал ногу, набойка на правом износилась сильнее; короткие голенища были чуть темнее по бокам, где старик хватался за них сильными пальцами, когда натягивал на ноги. Они стояли, почти соприкасаясь побелевшими бугорками на месте больных косточек, а глубокие складки кожи выглядели морщинами на усталом лице. С усилием отведя глаза, старуха вернулась к свертку. Когда она легонько встряхнула жилетку, из кармашка выпал желудь. Откуда, подумала с недоумением, там ведь каштаны, но уже видела, что никакой это не желудь, а продолговатая бусина, точь‑ в‑ точь, как та, что она подарила правнучке. Господи, ведь только на днях!..
Да это она и была, но почему у него в кармане? … Може, ребенок играл и оставил, а он держал на тумбочке; Тонька и прибрала, не иначе.
…Только одна эта бусина и осталась от ожерелья сестры Кати, да, в сущности, и от нее самой. Матрена была старше сестры на восемь лет, но глядя на них, никто бы не признал их сестрами. Катя была узкоплечей и сероглазой барышней, со светлыми волосами цвета латуни и такими же блестящими, что среди блондинок редкость. Достигши восемнадцати лет, она заболела скарлатиной и хворала так тяжело и долго, что вернее было бы сказать: помирала. Сколько недель так пролежала, уже забылось; однако встала и осталась жить в полном безмолвии, ибо слух потеряла начисто. Как все почти люди в такой ситуации, отчаянно конфузилась, научилась читать по губам, но инстинктивно стала громче говорить, отчего все испытывали неловкость и раздражались на нее, уже здоровую. Кроме того, стало очевидно, что невзирая на свою редкую миловидность, останется она вековухой: кто ж глухую‑ то возьмет? Ксения была замужем, Матрена уже с Андрюшей дохаживала. Женились сыновья, оставшиеся в Ростове, но тоже подумывали о переезде. Даже Павлина, которая была только на год младше Кати, поглядывала на сестру немного снисходительно, потому что напротив их дома начал прогуливаться студент и, встречая сестер, снимал фуражку и кланялся. Павля, барышня строгого воспитания, но смышленая, смиренно опускала глаза, но словно бы забывала о не стертой с лица улыбке, которая сопровождалась у нее очаровательными ямочками на щеках. Студент даже зачастил в моленную, хоть был православным. Как Павлина, с глазами долу, разглядела троеперстное знамение, неведомо; а вот ведь…
Что же касается Кати, то никаких иллюзий на свой счет не имея, она даже подумывала о монастыре, и серьезно подумывала. Однако стала прихварывать мать. Акулине, младшей, едва минуло двенадцать, так что все хозяйство легло на плечи Павли и Кати. Студент все так же прогуливался и так же почтительно кланялся, теперь уже не только барышням, но и неразговорчивому их отцу. Что ж, поклон – не разговор; Иона спокойно кивал в ответ. Замужние сестры начали поддразнивать Павлину: хорош, дескать, жених, так и до второго пришествия кланяться будет. Павля огрызалась, хотя втайне гордилась: студент – это вам не фунт изюму.
Схоронили мать. Не заметили, как осень обернулась зимой. Отец выговаривал, что щи простыли. В окне маячила студенческая фуражка. Катя подкинула дров в печку. Павля села под окном со штопкой: темнеет рано. Два раза стукнули в дверь, и отец отпер.
Из рукава шинели студент вытащил посиневшие то ли от холода, то ли от сумерек подснежники и с поклоном протянул… Кате. Она смешалась, залилась румянцем и все показывала рукой на Павлю, застывшую с постылой штопкой в руках, на Павлю, которая сразу все поняла, и даже улыбку не пришлось убирать – откуда ей было взяться, улыбке‑ то?!
В тот же день студент попросил Катиной руки. Ее глухота не была для него ни секретом, ни препятствием к женитьбе, чем он крепко озадачил Иону, но отныне был принят в официальном статусе жениха. Отцу понравилось и достойное имя Иннокентий, позволявшее надеяться, что православный он только наполовину (что и подтвердилось), и серьезная специальность мостостроителя, с которой через год жених должен был кончить курс в институте; тогда же намеревались и свадьбу устроить.
Через реку как раз достраивали мост, поэтому Ионе часто доводилось встречать мостостроителей. Все они были люди основательные и так же основательно делали свою работу. Иначе и нельзя было: на строительстве моста пьяниц и шалопутов не держали. Понял Иона и то, что коли будущий зять сейчас заканчивает институт, то на работе он не тачку покатит в фартуке, а будет одним из тех, кто с карандашом за ухом командует фартуками. Да только все это вторично, а тронул Иннокентий отцовское сердце преданностью его увечной дочери, вот что главное.
В отличие от Кати жених говорил очень тихо; но, не слыша собственного голоса, девушка так и не научилась модулировать им. В апреле они вместе ходили на открытие нового железнодорожного моста, где Иннокентий пылко объяснял невесте особенности конструкции, словно она видела этот мост. Какое там: доверчиво и чуть напряженно Катя смотрела только на его губы, выговаривающие непонятные слова. Жаль, конечно, что мост был построен без Иннокентия. С другой стороны, мало ли рек в мире, да и здесь еще возникнет нужда в мостах; разве не так?
Оказалось – нет, совсем не так. 14‑ го июля, все еще в своей студенческой фуражке, Иннокентий оказался на призывном пункте, а спустя несколько дней – на войне. Прощаясь, он подарил невесте бусы, некогда принадлежавшие его матери. Катя срезала тонкую блестящую прядку своих волос, похожую то ли на струйку меда, то ли на текущую по сосне смолу, и, зашив крепко‑ накрепко в ладанку, повесила ему на шею.
Иннокентий с войны не вернулся. Может быть, тоже оглох от рвущихся снарядов, или был отравлен газами, или потерял память – кто знает? Катя по‑ прежнему жила в безмолвии, но теперь это было другое, враждебное безмолвие. Ожерелье она не снимала никогда и часто перебирала продолговатые тяжелые бусины, похожие на желуди. Они были выточены из каких‑ то уральских самоцветов; Иннокентий называл их гранатами, но Катя этого слова боялась: гранаты – это на войне, они‑ то и убивали людей.
Шло время, менялась власть, язык, деньги, но для Кати не менялось ничего в мировом безмолвии. Сестра Павлина, снова заиграв ямочками, давно вышла замуж и растила детей; Матрена нянчила первых внуков.
В глубине соседнего двора притулилась крохотная постройка – уже не сарай, но еще не домишко; там и поселилась Катя. Звали ее на форштадте Катя‑ гусятница. Она действительно разводила гусей, но привязывалась к ним так сильно, что трудно было расставаться; однако жить‑ то надо.
В то смутное время перед второй войной, когда исчез хозяин дома, но старик еще работал в своей мастерской, пришли – и смех и грех – национализировать Катиных гусей. Птицы растревоженно кричали, хозяйка ничего не могла понять по чужим губам, но когда представитель власти загреб переполошенного гуся, Катя замахнулась на него хворостиной. Красный от злости, он схватил и дернул ее за руку так резко, что от рывка порвалась нитка и тяжелые темно‑ бордовые градины запрыгали по булыжнику. Проходивший мимо Коля услышал необычно громкий гусиный клекот и Катин вой. Как ему удалось урезонить солдат, Бог весть; скорей всего, тем просто надоело выдергивать свои галифе из цепких клювов. Они ушли с несколькими гусями, национализацию которых дружно отмечала вся казарма. С яблоками.
Катя долго ползала по горячим летним камням; да где там! Должно быть, укатились в канаву или спрятались в лопухах, закутавшись в пыль и песок; а может, кто‑ то из детей нашел: славная игрушка! Сохранилась одна‑ единственная бусина, которую она, надев на суровую нитку, упрямо носила на груди.
Между тем дивные, латунного блеска волосы превратились в седые космы, а глаза, точно такого же цвета, как море – скорее серые, чем синие – стали обыкновенными старушечьими, бесцветными. Катя заходила к сестре, да и та ее проведывала, а в последнее время и правнучку посылала «снести бабе Кате пирогов», хоть и подозревала, что большую часть сестра скармливала гусям. Лелька медленно шла с теплым узелком по бугристому булыжнику прямо к «избушке на курьих ножках» («не на курьих, а на гусиных», поправлял Максимыч) и боязливо приостанавливалась у Катиной конурки. Первыми выходили гуси, потом Катя. Лелька ее побаивалась: баба Катя говорила очень громко, громче бабушки Матрены, и слушая, смотрела не в глаза, а в рот.
Теперь уж полгода, как некому стало посылать пироги: померла Катя, о чем известили, понятно, гуси.
Можно сказать: война – безвременная гибель – изуродованная судьба. Но может быть, это могучая сила и власть имен? Не утратив своей девичьей чистоты, старухой ушла в могилу Екатерина. Иннокентий, намного опередив ее, лег в чужую землю – невинным.
А мост, на открытие которого они ходили смотреть, пережил обе войны, да и посейчас стоит. Мосты прочнее людей, даже и мостостроителей.
…Когда Катю обряжали, Матрена подержала ненужную бусину в руке – вот как сейчас, – но выбросить отчего‑ то не смогла, убрала в коробку; а потом отдала правнучке. Кто же мог знать, что она вернется к ней, храня прикосновение ладони мужа?
Если бы старуха узнала, какая вставная новелла родилась в ее теплой руке, согревшей тяжелую одинокую бусину, она ответила бы одной бровью: бздуры. Бусина, монетка ли с маленьким злым орлом или же флакон от духов, лет тридцать назад забывший их аромат – все это было нитями клубка, а если из‑ под белой вдруг выглядывала блестящая нитка цвета густого меда, то ни одна Матренина бровь не шевелилась: так надо, и к месту.
Утро мало чем отличалось от старухиного настроения. Порывами налетал ветер, забрасывал пылью все еще пышную зеленую листву, взбалмошно трепал ветки из стороны в сторону. «Трепанация», – вспомнилось единственное понятное слово.
Самовар не ставила – что ж одной‑ то. Налила воды в тру‑ муль Максимыча, который отличался от ее собственного крохотной вмятиной в боку. От того, что на плите стоял его чайник, она почувствовала себя немного уверенней. Чай отправилась пить в комнату: здесь стул Максимыча был плотно придвинут к столу, и Матрена не могла ни отодвинуть его, ни перестать смотреть в ту сторону.
Что ж так тихо? Ну да, Надькино радио не играет. Внуки в школе, а ребенок остался у Тони.
– Так и надо, – громко произнесла она вслух, – кто ж тут будет цацкаться с ним.
Сказала – и поймала Ирин взгляд. Дочь смотрела прямо на старуху с большой фотографии в овальной деревянной раме. Снимок заказал Максимыч на дочкино восемнадцатилетие. Старуха – в который раз! – поразилась, насколько Ира была похожа на нее в молодости.
– Одно лицо, – опять сказала она громко, – одно лицо.
Портрет обладал странной особенностью: казалось, девушка улыбается, а между тем на лице улыбки не было. Как фотографу удалось такого добиться, уму непостижимо. То ли улыбка притаилась в уголках рта, то ли жила в глазах, спокойных и чуть лукавых, и значит, ничего такого особенного добиваться и не пришлось, но ясно одно: улыбка была, хоть ее и не было. Недоверчивым рассказчик советует обратиться к портрету Моны Лизы, чья улыбка вызывает целый взрыв эмоций на протяжении нескольких веков. В отличие от Джоконды (какое все‑ таки змеиное имя для женщины! ) Ира на портрете улыбалась без улыбки; так чья загадка сложней? …
Матрена перевела взгляд на детский стульчик, такой сегодня пустой и маленький. Квартирная тишина не нарушалась ни Лелькиным топаньем, ни шелестом страниц, ни тихим сопеньем над рисунком, которое иногда прерывалось покаянным зовом: «Бабушка Матрена, у меня сопельки текут! »
Бережно подобрала со скатерти крошки и перекрестилась. Хватит рассиживаться. Она привычно собрала нехитрый реквизит: черный кожаный ридикюль, потертостью изображающий замшевый, такой же потертый кошелек, хранящий за отвисшими щечками трамвайную мелочь и несколько бумажных купюр, сложенных фантиком, носовой платок, ключи… Где ключи? Вот ключи, где ж им быть. И – отдернула руку: это были ключи мужа. Дура старая, выругала себя Матрена, ну так что ж, что его? И возьму!
Странная мысль, виноватая и вороватая, промелькнула мышью: не простил, а ключи оставил – точно позволил остаться жить. Она подержала их в ладони: ярко‑ желтый, латунный, и второй, потоньше и построже, стальной. Первый долгое время был единственным: наружную дверь не запирали. Это уже потом, после войны, когда в доме завелась, по выражению мамыньки, «всякая шваль да голытьба», пришлось поставить замок на дверь с табличкой. И с тех пор оба ключа, желтый и серый, обрученные надежным колечком, весело позванивали то в кармане, то в ридикюле, то в таинственном, неожиданном месте «где‑ мои‑ ключи?! ».
А сколько раз пытались содрать с двери табличку, горько вспоминала Матрена, сворачивая на Садовниковскую и минуя богадельню, шумную и кишащую народом, давно из тихой богадельни превращенную в детскую поликлинику, сколько раз сдирали! – и хоть бы хны: держится, как заговоренная.
Старуха нарочно не пошла привычным коротким путем мимо кладбища: туда – на обратном пути. Трамвая долго не было, и Матрена, сердясь и раздражаясь от нетерпения, торопила себе навстречу уличные повороты, горбатый булыжник, а тут еще переходить надо; нуда уже скоро.
У Тони, однако же, выяснилось, что можно было не торопиться. Как?! – А вот так.
– Сейчас туда нельзя, не пустят к ней, – терпеливо объясняла дочь, – ты ж сама видела, какая она, – и быстро обернулась на Лельку.
Крестница, впрочем, была слишком занята: сидя на корточках под пианино, она давила обеими руками на блестящие желтые педали и взрослым разговором ничуть не интересовалась.
– Разве ж Федя не может сделать, чтобы… – недовольным голосом начала старуха, но Тоня ее перебила.
– Что ж вы хотите, – возмущенно заговорила она, обращаясь к матери, но в то же время включая ее в неведомый коллектив, обозначив его общим и безликим «вы», – что ж вы хотите, чтобы Федор Федорович бросил институт? Чтобы мы все положили зубы на полку? Чтобы Федор Федорович поминутно кричал «караул», а кусок хлеба ему чужой дядя будет зарабатывать, этого вы хотите? …
Тоня так распалилась, что не заметила даже, как Лелька, оставив педали, завороженно ждала, не вылезая из‑ под пианино, как крестная и бабушка Матрена будут складывать на полку зубы. Наверно, в буфет, за стекло, к тем маленьким чашечкам – из них все равно никто не пьет, но играть с ними почему‑ то не дают. Чашечки золотые – и зубы золотые; очень красиво получится, и гости смогут любоваться.
– Не пыли, – на диво спокойно встретила эту тираду Матрена, – я у тебя не милостыню прошу. Что за отца хлопотали – спасибо и низкий поклон; теперь сестру спасать надо.
Старуха давно заметила, что после суеты вокруг Юрашиного студенчества дочь полюбила слово «институт» и в особо важных моментах заменяла им привычное «клиника», где работал зять. Кроме того, раздражаясь, Тоня всегда поминала кусок хлеба, хотя в этом доме, слава Богу, кусков не считали. А что своим помогаете, так кто ж поможет, как не имущий? И да не оскудеет рука…
То ли Тоня услышала нечаянный упрек – мол, хлопотали, да не спасли, то ли пожалела о своей вспышке, как уже не раз бывало, а только поспешила поправить сеточку‑ паутинку на строгом перманенте и засуетилась у стола.
– Пойми, мама, – продолжала она почти на две октавы ниже, – нас все равно не пустят. Федор Федорович уже поставил на ноги все отделение, они и так бегают вокруг нее, а операция завтра.
Старуха чуть привстала, и Тоня поняла.
– Нет, сидеть там нельзя и не надо: на то сиделки есть. – Заметив угрожающий излом брови, торопливо закончила: – Ни ты, ни я выхаживать не умеем, особенно после такой операции; Федор Федорович договорился, – дочь произнесла это слово с нажимом, и Матрена поняла, – договорился с самой опытной сиделкой. Будет дежурить всю ночь.
И продолжала, продолжала говорить, ругая себя немилосердно за «такую операцию» и всей душой надеясь, что мамынька не заметила. Тоня деловито сновала от окна к кладовке, хотя стол уже был заполнен. Сев, обнаружила на старухином приборе две ложечки, но с места не двинулась.
– Куда ж ты, как на Маланьину свадьбу, – нахмурилась мать на обилие закусок, и, перекрестившись на икону, оглянулась: – Ребенка кормили?
– Утром завтракала, а теперь ей рано еще, – строго ответствовала дочь.
– Ну да, – усмехнулась бровь, – у вас же все по расписанию. Кипятку долей мне. Хватит, хватит, куда столько!
Старухина насмешка совсем не означала ни презрения, ни несогласия. Даже наоборот, ей нравился Тонин уклад: тщательная сервировка, непременные крахмальные салфетки, слово «порция» – ничего оставлять на тарелке было нельзя, но «хватать куски» между обедом и ужином просто не допускалось, и к месту.
– Смотрю сегодня на папашино стуло, и так мне коломытно сделалось, – неожиданно вырвалось у нее. – Передвинуть его надо бы; не догадалась я.
Про трумуль говорить почему‑ то не решилась.
– Ключи свои куда‑ то дела, – продолжала она, – може, потеряла? Так я взяла его, как раз лежали рядом. Потом найду, – закончила, твердо зная, где ее собственные ключи, и не совсем твердо – зачем она плетет эти нелепости.
Дочка услышала это сиротское смятение. Она подозревала, что никуда мать свои ключи не «дела», но поворот разговора восприняла с облегчением.
Можно не объяснять, что причина Тониной вспышки крылась в страхе и бессилии помочь сестре. Накануне Феденька рассказал ей про абсцесс мозга, и хоть сделал это в самой щадящей форме, заснула она лишь после пяти, а проснулась словно бы только затем, чтобы вспомнить в прозрачной ясности сентябрьского утра все сказанное мужем. Обширный абсцесс мозга. Застарелый; возможно, многолетний. Кома. Операция тяжелейшая. Пункция.
Он присел на край постели, сбросив пиджак, и осторожно, с паузами, выговаривал непонятные слова, изредка глядя на нее, а Тоня смотрела на подтяжки, и ей почему‑ то хотелось поправить, чтоб они не сползали, хотя пора было ложиться спать.
– Последствия операции непредсказуемы, – добавил муж, высвобождая шею из воротника сорочки.
Это непредсказуемое пугало Тоню еще сильнее, чем беспощадное слово «трепанация», потому что Федя так же скупо, остановив руку с галстуком на отлете, и назвал возможные последствия: паралич, слабоумие, эпилепсия. Самое красивое слово «эпилепсия» означало падучую болезнь, и это было единственное, что она не то чтобы знала, но видела. Видела несколько раз.
…В мирное время Васюта держал маленькую скобяную лавку на Песках, в конце Полтавской улицы, за еврейским кладбищем. Это был расторопный человек веселого и легкого нрава, а его лавочка – бойким местом, ибо продавая всякую хозяйственную всячину, Васюта постоянно занимался мелким ремонтом. Ему приносили самовары, страдающие недержанием кипятка, разболтанные замки, в которых бессильно прокручивались ключи, старые будильники, а в углу толпилась гулкая груда кастрюль, кротко ожидающих своей очереди на лужение. У Васюты были золотые руки и безотказный характер, а в довершение обнаружилось полное незнакомство со святым принципом «не обманешь – не продашь». Из‑ за этой непонятной в торговом человеке странности к Васюте относились безо всякого уважения, но снисходительно‑ любовно.
Было у него две особенности: страсть к жилеткам и брезгливая неприязнь к накрашенным женщинам. Первая выражалась, например, в том, что, одеваясь после бани, Васюта менял не только белье, но непременно и жилетку тоже, что вызывало тихое веселье и беззлобные пересуды. Наиболее азартные бились об заклад, пытаясь угадать, какую именно жилетку он наденет. Вторая Васютина странность, вообще‑ то говоря, таковой не была: женщины‑ староверки ни к пудре, ни к помаде сроду не были приучены, как мужчины – к табаку и вину. Правда, именно «сроду», потому что городские мужчины мало‑ помалу сначала стали заглядывать в кабак, а потом и папиросы курить, особенно молодые. В свою очередь женщины, искушаемые лукавым стеклом – зеркалом и встречая других, нарядных и не только от природы румяных да чернобровых, посмотрели в зеркало более взыскательно, а после, вздохнув, обратили свой взор на краски. Случаются ведь в жизни такие дни, когда выйти на улицу, не подправив слегка недоданное – или отобранное – природой означает нанести тем самым оскорбление окружающей действительности. Мужья, как правило, смотрели на это снисходительно, а может, подозревали, что и в мужья‑ то попали не без содействия лукавого стекла. Ведь если разобраться, так берутся же откуда‑ то все эти реснички да бровки! И щечки, вдруг принявшие на диво персиковый оттенок, а тут еще прядка волос выскользнула из‑ под платка – случайно, должно быть.
Жене Васюты терзания по поводу косметики были решительно не понятны, и ее страсть наводить красоту перед зеркалом была вполне сравнима с благоговейным трепетом мужа при виде новой жилетки. Интересно, что обитатели форштадта его всегда ласково называли Васютой – может быть, причина коренилась в его наружности, столь же располагающей, как и натура. Никакой парикмахер не мог победить русый хохолок надо лбом: было похоже, что Васюту и впрямь лизнула корова, да так ласково, что он аж сощурился от удовольствия. Привычка щуриться осталась после той коровы у него на всю жизнь, но прищур был не хитрым, а добрым, как и круглое улыбчивое лицо с ямочкой на подбородке.
Зато его жену называли только Анфисой, а за глаза не иначе как Анфиска‑ Криворотая. Она отличалась какой‑ то трудно уловимой асимметрией в лице: левая щека немного выпирала, так что казалось, будто у Анфисы не то зреет флюс, не то что‑ то вкусное не дожевано и спрятано за щекой. В сущности, женщину следовало пожалеть: украшать и доводить до совершенства свое лицо Анфиска‑ Криворотая могла только в отсутствие мужа, что она и делала. Так, щедро насурьмившись, обсыпав асимметричные щеки дешевой пудрой и накрасив губы, она в полном одиночестве суетилась по дому. Когда Анфисе надо было выйти в лавку, она себя раскрашивала в более щадящем режиме. Кстати, не любили Васютину жену именно из‑ за ее страсти к косметике и всюду встречали с поджатыми губами, особенно женщины; она же, по своей простоте и недалекости, сделала торжествующий вывод: завидуют!
Между тем смешки перешли сначала в насмешки, а потом – в слушки: гуляет, мол, Криворотая от Васюты. А и правда: только гулящие так мажутся, кто ж еще.
Анфиса радостно шла домой, стряпала мужу обед, а незадолго до его прихода тщательно и с сожалением умывалась. Придя, Васюта первым долгом снимал жилетку, мыл руки… но это неинтересно, это рутина бесхитростной Васютино‑ Анфисиной жизни, и погружаться в нее глубже не входит в задачи автора. Важнее рассказать о другом. Смешки и слушки довольно быстро дошли до Васюты – мужья все узнают последними, если есть что узнать, а на сплетни да на слухи ближний не поскупится, это уж будьте благонадежны.
Васюта отреагировал самым типичным образом: ничего не ответил, но помрачнел. Запер лавку, тоже по классическому сценарию, раньше обычного и отправился домой, где и застал жену за самым целомудренным занятием: она вытаскивала из духовки пышный пирог, но в каком она была греховном виде! Ох, не от кухонного жара разрумянились ее щеки, да и мушка на другой, нормальной, щеке наводила на раздумья, а когда Васюта увидел, какой широкий и дерзкий разлет приняли Анфискины куцые брови, он оцепенел. Жена тоже застыла с широко раскрытыми глазами, и что‑ то сатанинское было в ней… а впрочем, не надо забывать о горящей плите и бликах огня по всей кухне.
Отметелил ее Васюта от всей души. Соседи ликовали. К зеркалу Анфиса долго не подходила, а когда подошла – отшатнулась. И принялась исправлять ущерб, нанесенный ее красоте, тем же старым способом – благо, ее красок муж не нашел.
С тех пор так и повелось: когда у Васюты зарождались, не без помощи очередного доброхота, сомнения в Анфискиной нравственности, он являлся домой, требовательно брал жену за подбородок и, послюнив палец, тщательно выискивал следы косметики. Если румянец оказывался гуще отмеренного природой, Васюта гонялся за женой по всему двору, а она, с разной степенью ловкости увертываясь от ремня и бельевых веревок, громко и жалобно кричала: «Ва‑ а‑ ся, я не кра‑ а‑ асилась! Ва‑ а‑ ся, я не кра‑ а‑ асилась! », и жалобное «ась‑ ась‑ ась» долго летало в воздухе, пока не оседало в листве.
Нет, не надо думать, что Васюта был тираном: он часто и охотно покупал жене обновки, никогда не попрекал бесплодием; одним словом, любил свою Криворотую – только ненакрашенной.
Потом пришли немцы, и никому уже ни до кого не было дела, и меньше всего людей интересовало, красится ли Анфиска‑ Криворотая или сколько жилеток прибавилось у Васюты. Про них забыли, а сам Васюта пропал. Но пропадали многие: кто на войне, кто вне войны, кто после войны; а кто и находился потом – вот счастье‑ то было!
Криворотая никуда не делась, но краситься перестала, выходила из дому редко и ни с кем разговоров не вела; да и не до нее было.
До конца войны оставалось года полтора, когда вернулся и Васюта, вновь появившись у себя на Полтавской. Впрочем, счастье то было или нет, Анфиске виднее, ибо вернулся совсем другой Васюта, и выражение «появился у себя», таким образом, звучит весьма двусмысленно, ведь появился он у себя прежнего, а теперешнему Васюте до того, настоящего, было, как Анфиске‑ Криворотой до Марлен Дитрих. Вновь появившегося стали звать Глумой Васюта. Он передвигался длинными, неровными бросками, сильно выгибаясь всем телом и хватаясь через каждые несколько шагов за пятку правой рукой. Левую он плотно прижимал к боку, словно держал под мышкой градусник и боялся выронить. Но самое страшное было то, что каждые несколько минут он с силой выталкивал язык – так, будто хотел выплюнуть его совсем. Глумой мог говорить, но лучше бы он этого не делал. Речь была протяжной и невнятной, потому что язык Васюте мешал, он давился им, толстым и страшным. Иногда он выгибался вдруг очень сильно, валился на землю и, впиваясь зубами в язык, исходил пеной. Он узнавал всех, и его узнавали, но скрыть брезгливый страх умели немногие, хотя глумому‑ то все одно. Одни говорили, что Васюта отказался что‑ то делать для немцев. Другие уверяли, что не отказался, а делал что‑ то во вред; так или иначе, попал в лагерь – тут же, на другом конце города. В лагере его и покалечили: то ли били много, то ли заболел; а скорее, и то, и другое.
Когда Тоня проведывала мать на форштадте, она нет‑ нет да и встречалась с Глумым Васютой. Впрочем, узнавая издали его изнурительное вихлянье, она торопилась то свернуть, то зайти в любую лавчонку, только чтобы не встретиться и не слышать это мучительное приветственное клокотание. Однажды она видела, как Васюту скрутила судорога прямо у входа в парк, и он, пружиня насильно выгнутым телом, бился в пыли, сползая на серый булыжник. В другой раз, заглянув в новую кондитерскую у Маленького базарчика – мать побаловать, – с трудом пробилась через толпу: все сгрудились вокруг сотрясающегося Васюты, а у него изо рта текла пена, текла и не кончалась. Рядом на коленках стояла Анфиска и придерживала голову мужа. А на кладбище в Троицу кто‑ то дал ему хлебнуть водки, ну и… Федя говорил, что вина совсем нельзя, если падучая. Анфиса сорвала с головы платок и вытирала пену, как тогда в магазине, только один раз подняла голову, чтобы посмотреть на того, с бутылкой, и такая мука была в ее глазах, что никто не остался праздно глазеть, ни один.
Тоня рассеянно надкусила сухарик, не замечая другого, уже надкусанного. Не зная, как освободиться от страшных образов, она неожиданно спросила:
– Мама, а Анфиса жива?
– Тетка Анфиса? Жива, слава Богу; недавно младшего сына женила. Он у ней дурковатый какой‑ то, но услужливый. Нашли ему то ли девку, то ли бабу, но я на свадьбу не…
– Да я не про тетку Анфису спрашиваю, я про Анфису «Вася‑ я‑ не‑ красилась»!
– Криворотая? Жива, жива. Пару лет, как Васюту схоронила… или больше? Помнишь Глумого Васюту? Помер, Царствие ему Небесное. Куда ж было мучиться, убогому; прибрал Господь. В мирное время он совсем другой был. Придешь, бывало, к нему в лавку – всего чего! Да ты сама должна помнить? … Он тогда глумым не был. Все в жилетках разных щеголял.
– Помню, – кивнула Тоня, и ей стало намного легче, когда мать произнесла страшное слово.
– Его могилка прямо по аллее и вниз, за Бобышевым. Их‑ то и нету никого, только он да Анфиска; она за могилкой ухаживает, как за ним за живым ходила.
– А на что они жили после… когда он вернулся?
– Да на Анфискины краски‑ замазки, – ответила Матрена, водя ребром ладони по скатерти. – Тебе чего? Исть захотела? – это уже к Лельке, которая подошла и уткнулась ей в колени. – А‑ а. Сходи в прихожую, там у меня в сумке платок лежит; неси сюда.
– Как… на краски?
– Так. Это ж война была, – терпеливо, словно Тоня не пережила то время, объяснила мать. – На черном рынке что сало, что какао, что ваши пудры‑ помады с руками отрывали. Я почему знаю, мне ж Симочкина Настя каких только диковин не таскала! Вот и Анфиса приноровилась: она‑ то в мирное время столько накупила!.. Ну и знала, какой товар подходящий, какой никудышный. Людям‑ то все надо, хоть и война: кому гвозди, кому свечи, а кому краски да помаду. Оба с этого и кормились. Хоть бы она и хотела пойти работать, так его, убогого, одного оставлять нельзя было. Она, бывало, как на базар бежит, так его в доме на замок закрывает.
– Вроде не любили ее, – нерешительно произнесла дочь, отлично зная, что никакое «вроде» здесь не уместно.
– А на кой ей надо, чтоб ее любили? – подняла бровь мамынька. – Что морду все мазала, так и ты ведь мажешь, – она спокойно посмотрела на Тоню, – а только мужа глумого держала в чистоте и в сытости. Нянчила, точно ребенка. Сам‑ то он ни поисть, ни одеться, ни… Много вы знаете… – Давай нос сюда! – Старуха требовательно ухватила в платок девочкин нос правой рукой и приступила к привычной процедуре, в то время как Тоня ломала голову, случайно или нарочно мамынька вернула ее «вы». – Ну, все? Ступай!
И Лелька, схватив платок, с наслаждением заскользила по паркету.
– Я высчитывала, когда девятины стоять. Получается двадцать третьего, в среду; надо панихиду заказать.
– Я уже договорилась, мама; утром батюшка в моленной отслужит, в десять часов.
В прихожей на подзеркальном столике Лелька играла ключами:
– Смотри, бабушка Матрена, вот этот желтый, толстый – это как будто тетя. А вот этот серебряный – это дядя. Или как будто они старик и старуха, правда? Тетя Тоня, правда?
«Скоро уже, мамынька, скоро», – торопливо приговаривает Максимыч. Рукава у него засучены, а жилетка надета какая‑ то нарядная. «Что ж ты выходную жилетку у верстака треплешь? » – Матрена говорит строго, хоть радуется, что он живой, и Бог с ней, с парадной жилеткой: вот он стоит, здоровый и крепкий, опустив правую руку с коловоротом, а левой расстегивает верхнюю пуговку рубашки. «Моя в шкапу висит, – отвечает уверенно, – а это Васютина, он мне проспорил: мол, не сделаю. А я уже почти сделал, делов‑ то… резьбу осталось кончить».
Живой, Господи! Живой! Да что я молчу, надо же спросить. «Гриша, ты простил? …» Он разравнивает усы свободной рукой и улыбается: «От‑ т… Мать Честная! Сделай поисть». Старуха голову потеряла от радости: сам просит исть, оголодал – и бросается к плите. Огонь погас, а в дровяной корзине ни одного полешка нету. Муж подходит, прихрамывая: «Я принесу. Только там всего ничего, гроб‑ то маленький». И тут же, никуда не уходя, бросает в корзину какие‑ то чурочки – ровные, чистенькие, хоть сейчас детям в игрушки. «Гриша? – удивляется она, – кому ты гроб работаешь, ты ж никогда гробы не делал? »
Максимыч выпрямляется с лучинкой в руках и произносит укоризненно: «Она же вдова. Если я не сделаю, кто тогда?
Для Лизочки смастерил, смастерю и ей», – и отворачивается. Матрена понимает и пугается, но все же спрашивает: «Кто помер, Гриша? Скажи! » Муж стаскивает сапоги, ставит у порога ровненько и, не подымая глаз, кивает коротко в сторону комнаты. Не помня себя, старуха бежит, но не может найти Ириной комнаты: квартира стала намного просторней, чем была в мирное время, и свету нет, одни лампадки горят.
На столе стоит гроб, но совсем крохотный, как для младенца. Матрена наклоняется: Лизочка. Ах, пустомеля… Старик кивает: «Смотри», и тогда она видит в гробу… Иру. Глаза закрыты, дочь улыбается – чуть‑ чуть, уголками губ, но старуха все равно понимает: мертвая. За что, Господи?! Вернул мужа, а дочку… дочку отнял…
Матрена начинает рыдать в голос, от слез трудно дышать, а они льются и льются. Кухонное окно уже светлеет, но старуха глаз не открывает, только всхлипывает глубоко и протяжно. Это сон, и муж простил ее. Слава Богу, простил. Что‑ то хотела… он ведь исть просил, и она хотела его накормить… чего ж не кормила? И еще – что еще во сне хотела? Ах, да, хотела по имени звать его: Гриша, а то что ж я – все «ты» да «ты». Да, это правильно. Лежа со смеженными веками, повторила несколько раз: «Гриша», а когда открыла глаза, поняла, что никогда уже не назовет его так. Поздно. И страшное что‑ то было, вот наволочка мокрая. Гроб. Ирка?!
Сколько нужно времени, чтобы вернуться из того мира в этот – секунды? Миг – или вечность, но в этом мире было раннее воскресное утро; значит, сон вещий, и дочь жива. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Царица Небесная!..
К Ирине поехали на следующий день, с Тоней и с Лелькой, – с кем же оставить ребенка? Обе, прабабка и правнучка, рассматривали больничный город – ибо такое название подходило к Республиканскому госпиталю более всего – почти с одинаковым интересом. Здесь по‑ русски почти не говорили; ну, да мамынька не рассусоливать приехала. То ли Тонина уверенность, то ли внушительная фигура старухи в строгом трауре помогли отыскать в лабиринтах больничной крепости нужное отделение и палату сравнительно быстро и, главное, вовремя, потому что Лелька заговорила про горшок, куда она, оказывается, стремилась еще в троллейбусе. Тоня только успела бросить через плечо: «Подожди меня, мама» и помчалась с крестницей предотвращать бедствие.
Чего ждать‑ то? Мамынька недовольно поднялась со стула и нажала ручку двери. Радио молчит, слава Богу; трое спят – это среди белого‑ то дня! У ближней стенки – не то баба, не то мужик, не понять, лицо желтое и опухлое, точно тесто поднялось, а голова вся в бинтах. Чуть подальше баба на койке лежит одетая, одно ухо под толстыми бинтами, над ней медсестра склонилась. Медсестра почти не смотрит на шприц, а только на старуху. Больная, с интересом наблюдавшая за иглой в своей руке, тоже отвлеклась. Иры не было. Наконец резко запахло спиртом, сестричка сгребла свое хозяйство на поднос и повернулась к Матрене:
– Вы к кому?
Выслушав ответ, кивнула на кровать у стенки:
– Вот она, – и тут же бросилась за нашатырем: мать сомлела.
Дочкиного лица она не узнала: не могла, не хотела узнать его таким. Узнала – руки, лежащие поверх одеяла, и долго рассматривала маленькие кисти с состиранной кожей, как‑ то посветлевшие от болезни, твердые ногти с лунками и тонкое венчальное кольцо.
В дверях столкнулась с Тоней и решительно взяла руку правнучки в свою:
– Пойдем, золотко. Спит баба Ира, ей спокой надо, чтоб скорее здоровая стала. А ты своди меня, куда вы с крестной ходили, хорошо? – твердо зная, что ребенку лучше туда, чем в палату.
Уговорились с Тоней ездить в больничное царство‑ государство по очереди. Сидеть там необходимости не было, а вот питание… Что ж – больница. Выбирая в мясном павильоне кусочек телятины с косточкой, старуха радовалась, что и девочке супец будет – от матки‑ то, что бегает, хвост задравши, не дождется; вернувшись, дома как раз застали Таечку. Она сидела надутая после беседы с крестными и тут же сказала дочке, что устроит ее в детский садик, а пока они будут вместе ходить «к маме на работу».
Мама работала в высоком сером доме, где душно пахло бумагами и дымом, а люди очень быстро ходили по лестнице вверх и вниз. Мама все время здоровалась, сильно дергая Лельку за руку и сердито шепча: «Поздоровайся». В одной из комнат мама печатала на машинке, а Лельке дала много бумаги, карандаши и резинку – рисовать. Иногда мама отрывалась и спрашивала: «Тебе никуда не надо? », а когда стало надо, долго шли по коридору к двери с надписью «ТУАЛЕТ». Слово было знакомое: тетя Тоня, открывая в спальне шкаф, часто говорила: «Пора туалеты проветрить. Собирайся гулять, курносая! » Но здесь был совсем не шкаф, а просто нужник. Зачем такое красивое слово написали на двери, непонятно. Лучше бы проветрили.
Рисовать Лелька быстро уставала, и ей хотелось спать. Тогда она забиралась под стол и думала о детском садике. Он, наверно, похож на тот парк, в который они с Максимычем ходили, но только без взрослых. Тогда можно будет рвать желтые цветочки, из которых большие девочки умеют плести венки. И она научится. Максимыч всегда разрешал их собирать, а бабушка Матрена ругалась, потому что руки делались черные. Уходя с мамой «на работу», она по‑ прежнему ставила чибы Максимыча около дивана.
К маме пришла какая‑ то тетенька, и они заговорили тихо, но неинтересно: «А он? … Иди ты!.. А она что? … С ума сойти…» Мама вдруг сказала:
– Познакомься, Ляля: это моя подруга, тетя Капа. Не успела Лелька удивиться, как подруга спросила:
– Конфетку хочешь?
Кто ж не хочет; но надо отказываться и говорить: «Нет, спасибо». Конфетку она все равно дала и села с мамой курить. Лелька под столом была занята сразу двумя делами: надо было отлепить «Тузик», приклеившийся к зубу, и проверить, что капало из маминой подруги. «Так она у тебя Оля или Леля? » – «Спрашиваешь!.. Ольга, безусловно. Это моя матушка ее Лелей зовет…» – «А ты? » – «Ну что за старомодное имя! Она у меня – Ляля, Лялька».
А детского садика надо было ждать и ждать.
Вот неделя, другая проходит. Миновал Покров. Старуха сменила черное старенькое шелковое манто на черное же суконное: известно, что пар костей не ломит. Она немного похудела от беготни: базар, кладбище, моленная, больница. Девочка затосковала и по утрам вставала очень неохотно. Матрена подозрительно обнюхивала ее волосы и платьица; узнав, что ребенок сидит целыми днями в табачном дыму, вспылила и запретила Тайке «таскать ребенка в этот вертеп», именно так и выразившись. Та задрала подбородок и объявила, что на днях получает отдельную квартиру, после чего забирает ребенка к себе. Надя при этих словах громко произнесла: «Слава Богу! », но дверью хлопнула еще громче.
…Уже отстояли сороковины, когда Иру выписали. «Непредсказуемые последствия», которых опасался Феденька, ее, слава Богу, миновали, однако мучили головные боли, хоть не опасные, но свирепые. Матрена каждый день возносила молитву Иоанну Предотече и была твердо уверена, что именно эта молитва подняла дочь.
Иногда октябрьские дни бывали совсем теплые, и старуха могла задержаться на кладбище. Ровный прямоугольник из песка уже утратил свою яркую желтизну. Мало‑ помалу она убрала засохшие венки, разровняла землю маленькими граблями. Только здесь можно было делать то, чего так хотелось во сне: называть мужа по имени, но не как в поминании: рабом Божиим Григорием, а просто – Гришей. Она часто повторяла его имя, удивляясь со стыдом, что не помнит, когда звала его так. А ведь больше полувека вместе прожили, это вам не фунт изюму.
Сон, в котором муж ее простил, не забывался. Старуха незаметно начинала говорить вслух. И сон рассказала, но не весь: про гроб не упомянула.
– Не зря ведь, – обращалась она прямо к ровному прямоугольнику, – не зря у меня вечером глаза свербели: ночью‑ то плакать пришлось… А Тайка говорит, что квартиру получает. Отдельную. Заберет ребенка. Уж как она жить будет, Бог знает. Ирка ведь не двужильная! Скоро, Бог даст, с больницы выйдет; так сразу и впряжется, ты ее знаешь. А я на днях обедать села; одна, с кем же мне теперь? … Ну, так режу хлеб, смотрю – а у меня кусок недоеденный лежит. Кто ж, думаю, у меня голодный? А тут как раз тот сон, и будто ты поисть просишь…
Она вставала, доставала из ридикюля белейший платок и шла прощаться, по очереди дотрагиваясь рукой со сложенным платком до могилы: «Прости, мама… папа… Ларя… Лизочка» и наконец останавливалась у холма без надгробия: «Прости, Гриша». У выхода крестилась, низко кланяясь, и к воротам шла не оборачиваясь.
У колонки, где брали воду, женщина нагнулась за ведром, повернувшись к Матрене обильным задом. Из‑ под юбки видны были грубые бумажные чулки; на одном ярко желтел березовый листок. Она неловко развернулась, и ведро звонко выплюнуло часть воды.
– Ох, искушение, – закудахтала женщина, – чуяло мое сердце, надо было… Матрена Ивановна? – И тут же зачастила: – Доброго здоровья вам! Могилку проведывали? Я и Тоню вашу встречала пару раз, а больше никого.
В словах вопроса не было, только в глазах любопытство, точно спичкой чиркнула и ждет, загорится беседа или нет.
И зря чиркала: старуха не имела ни малейшего намерения говорить о дочкиной операции.
– Так все работают, – ответила коротко.
– Я уж и не припомню такой панихиды, – чиркнула следующая спичка, – полная моленная. А похороны!..
Внезапно сдавило горло, и Матрена торопливо полезла за платком.
– Ох, искушение, – жалобно протянула та, пока старуха шарила в ридикюле, – теперь только и осталось, что за могилкой смотреть. Летом грабельками пограбишь – и хорошо, а зимой уж как Бог даст. – Сделала уважительную паузу и снова спичкой чиркнула: – Редкий человек покойник был, Царство ему Небесное. А только я никого из его родни не признала. Ваших‑ то всех в лицо знаю, а ихних? …
– Никого и не было. Померши все, Царствие им Небесное, – ответила Матрена и решительно простилась.
У высоких кирпичных ворот кладбища зачем‑ то незаметно оглядела свои чулки: нет, листья не пристали.
Что ж всякому за дело, гневно думала она, до чужой родни?! И ладно бы свой кто был, а то – нашему забору двоюродный плетень. Привычная дорога: вниз к Маленькому базарчику и поворот на Большую Московскую – немного утишили ее волнение. У Тоньки тоже небось выспрашивала; у таких язык без костей.
Старуха досадовала на ненужную встречу, сбившую ее разговор с мужем. Вовсе она не собиралась вспоминать покойную свекровь, а та уже стоит перед глазами как живая, Царствие ей Небесное. Это ж сколько лет, как померши? Считай, тридцать. Да нет, какое: больше, уж тридцать пятый год. Сколько теперь ей было бы? Девяносто два – девяносто три; ну да. Она попробовала представить свекровь древней и немощной, но не выходило ровным счетом ничего, зато в памяти сразу высветилось узкое, очень смуглое лицо с глубоко посаженными глазами, черные, без сединки, волосы с поминутно соскальзывавшим платком и точная, бесшумная быстрота движений.
Тогда, в Ростове, ей было уже под шестьдесят, но не верилось нипочем, хотя выросли все двенадцать детей, а уж сколько внуков вынянчено, Матрена не считала. В глубине души она была уверена, что не обошлось без цыганской ворожбы, а то как же? Баба – она и есть баба; где ж это видано, чтоб родить столько ребят, и живота не было?! А его не было – фигура у свекрови была такая, что хоть сейчас к Тоньке в буфет ставь. Там одна уже есть такая: руки в стороны, ногу отставивши, точно полетит сейчас. Одно слово: иноземка, хоть и крещеная. И мужа, Матрена была уверена, приворожила картами своими цыганскими, или как уж там они умеют.
Свекор всегда вызывал у нее восхищение и жалость одновременно. Она любовалась его стройностью, ловкой посадкой на коне, кудрявой шевелюрой и усами, еще более блестящими и ухоженными, чем у мужа; обращалась к нему не только «папаша», но и «Максим Григорьевич», с уважительной отчетливостью выговаривая отчество. Одно ей было не понятно: как он мог жениться Бог знает на ком, на цыганке этой, разве ж больше никого не нашлось бы? И сама отвечала на риторический вопрос, задаваемый не один десяток раз: еще бы! Конечно, нашлись бы, и много лучше… А вот поди ж ты. Кого, впрочем, она имела на примете, оставалось ее тайной… Эти ненужные, хоть и от доброго сердца, мысли вызывали сочувствие к свекру, о котором тот и не подозревал, а если б узнал, то безмерно бы изумился, потому что считал себя одним из счастливейших мужей, когда‑ либо живших на земле.
Конечно, опять упрекала Матрена покойницу, жила как у Христа за пазухой – на всем готовом. Исть захотела, сама или ребяты, – пожалуйста: из солдатского котла! Ни тебе на базар бежать, ни в очередях давиться. Ей только и дела было, что ребят одного за другим рожать. Да эдак жить любая согласится!
Знала ли старуха, что упреки ее несправедливы, неизвестно: брови напряглись у переносицы, а губы были плотно сжаты. Наверное, догадывалась, и когда утверждала, что «любая согласится», сама не согласилась бы ни за какие коврижки. Хоть Максимыч никогда не служил, она смутно подозревала, что жизнь в обозе действующей армии несколько отличается от таковой у Христа за пазухой. «Иноземка» легко рожала, чему невестка тоже завидовала, хотя этой легкости верила не вполне, помня по своему семикратному опыту, что значит родить ребенка. Сама о том не догадываясь, она горько завидовала ровному, ничем не нарушаемому ладу в том доме, а особенно – нежности, с которой свекор смотрел на жену, и старалась убедить себя, что это смешно и неуместно, как неуместно ласковое имя «Ленушка», когда этой «Ленушке» под шестьдесят.
Это тогда шестьдесят, добавила удовлетворенно, а в девяносто три‑ то, небось, звал бы иначе… кабы дожили. Да только не осталось никого: ни свекра, всю жизнь обожавшего жену, ни свекрови, которую Матрена мысленно называла то «копченой», то «головешкой» за цыганскую смуглость.
…Они жили на новой квартире, но дом Максимыч нарочно не продавал: ждали родню. Считая по многу раз, чтоб не сбиться, предполагали встретить и устроить шестнадцать человек, не беря в расчет детей; старик присматривал недорогое жилье поблизости – на первое время, пока осмотрятся.
Приехал Мефодий, старухин брат. Один. Матрена смотрела с радостным нетерпением и недоумевала, зачем он закрывает дверь – другие‑ то идут следом, идут? … Мефодий стащил шапку с заиндевевших волос и перекрестился на икону. Потом обнял сестру и шурина, но как‑ то безучастно. Есть отказался, только пил торопливо чай стакан за стаканом; наконец, отодвинул, вытащив зачем‑ то ложку.
Матрена с тревогой рассматривала брата. На исхудалой фигуре висела старая вязаная фуфайка, составляя нелепый контраст с почти новыми черными брюками. От фрачной пары, догадалась она, в которой венчался. Борода и волосы давно нуждались в стрижке, а иней на висках все не таял, потому что оказался совсем не инеем. Глаза немного запали и смотрели без интереса, а пышные усы неряшливо топорщились. Эта недавняя неухоженность, когда человек к ней еще не привык и не научился ни скрывать, ни игнорировать, особенно бросалась в глаза.
Он заговорил так же торопливо, как только что пил чай, и слова обжигали.
– В Ростов холера пришла, еще перед Рождественским постом. Кто говорил, от большевиков, другие – оттого, дескать, что гнилье всякое ели. Жена, будучи сказать, родить скоро должна была, ждали к Николину дню. А как схватило, Ульяше худо стало. Колотило, точно в горячке; все пить просила. Пьет и еще воды просит, будучи сказать.
Брат подержал стакан, рассматривая вялые чаинки на дне.
– Три дня промаялась; так и отдала Богу душу, не разродившись. Брат Петра, будучи сказать, тоже холерой помер. В три дня, Царствие ему Небесное.
Как ни старался Максимыч встретиться с ним глазами, не получалось: Мефодий переводил взгляд с озябшего стакана на сестру, но и ей смотрел не в глаза, а куда‑ то поверх бровей. Он продолжал говорить, и старуха ошеломленно крестилась после каждого имени.
Неожиданно гость повернулся всем корпусом к старику, но глаз по‑ прежнему не поднимал.
– Ты, Григорий, своих не жди. Забрали всех, будучи сказать, тогда… с казаками. Как раз как вы уехали.
Старуха начала было недоверчиво:
– Да как же ты знаешь… – и замолкла, наткнувшись на гневный взгляд мужа.
Он слушал напряженно и чуть недоверчиво, как слушают глухие, всем лицом. Мефодий как раз знал, о чем говорил, недаром работал он у шорника, где казак – первый клиент: ведь хорошая сбруя для коня – не меньшей важности дело, чем мундир и штаны с лампасами для хозяина. Матрена запомнила весь его рассказ, с нелепым этим «будучи сказать», как запоминают слышанную в детстве страшную сказку.
– …Форму совсем запретили носить, даже фуражки. Велели сразу оружие сдать, с обысками ходили: двое, будучи сказать, прикладами в двери стучат, а уж другие под карнизами хоронятся, только фуражки кожаные, что грибы, торчат. Ну вот. У кого винтовку найдут, тех сразу, будучи сказать, стреляли. Не‑ е, не только в Ростове – по всему Дону. Потом хлеб начали отнимать, по всем станицам разом; ссыпать велено было в кучи. Другие припасы тоже отбирали подчистую, чтоб людям исть было нечего. Лошадей, конечно. А кто, будучи сказать, бежал, так про них особый приказ пустили: расстреливать. Бежать‑ то бежали, да за каждого, кто бежал, убивали пятерых. А и кто убежит, круглым сиротой сделается: они ж всю семью – и баб, и стариков, и детей – всех, будучи сказать… Вот и побежи… Баб‑ то с детями за что?! Так я тебе скажу: хотели, чтоб казаков больше не было. А то: дети подрастут, а дед с бабой и расскажут… Так всех и перебили, весь Дон как чужой стал. Прежде‑ то были хутора да станицы, а нынче не хутор, будучи сказать, а – деревня, не станица, а – волость. Кого только не навезли туда, спаси Христос! На все готовое, будучи сказать, вот вам – живите! Оборванцы, голь перекатная да беспорточная. Собрали Бог знает откуда: и с Воронежа, и с Самары, и с Пензы какой‑ то. Босота да нагота, будучи сказать. Може, и холера от них…
Мефодий сжал кулак и так сидел, сосредоточенно глядя на торчащий черенок ложечки с монограммой. Чужие слова «перебили», «расстреляли» прозвучали здесь впервые, и никаких других слов не было, чтоб назвать антихристово действо, учиненное над казаком Максимом Григорьевым Ивановым и сотнями тысяч других невинно убиенных. Они не захотели – или не успели – бросить свою жизнь, с которой срослись, как с казачьей формой, и бежать куда глаза глядят, хоть бы и к самому синему морю. Да только глядели бы их глаза на белый свет после всего виденного, и если так, белым ли остался бы для них белый свет и синим ли – море? …
Едва ли Матрена думала такими словами. В ее представлении ни свекор, ни свекровь просто не соединялись с антихристовыми словами; да разве ж такое возможно для людей?! Она не заметила, как брат перестал терзать чайную ложку и сидел, ссутулившись и втягивая заношенные манжеты в рукава фуфайки.
– Она, люди говорят, вроде тифа, холера эта, – негромко заговорил Максимыч. – Как один сляжет, так непременно и другие. Може, и мои? От холеры? …
Придвинув к себе стакан, Матрена повернула кран самовара.
– А ну‑ ка, горяченького, – и протянула брату дымящийся чай, – выпей, выпей, ты же с морозу!
Все это она говорила громко и настойчиво для того только, чтобы заставить Мефодия посмотреть на нее. Тот машинально потянулся за стаканом и удивленно поднял глаза. То ли сестра едва заметно кивнула, то ли чуть повела бровями, на одно неуловимое мгновение, только ложечка послушно завертелась в стакане, и Мефодий, наблюдая игрушечный водоворотик, согласно кивнул:
– Холера и есть холера. Сколько людей полегло… – и все размешивал, размешивал сахар, которого в стакане не было.
…Хлопнула дверь бакалейного магазинчика, выпустив тоскливый запах хозяйственного мыла и терпкий – селедочного рассола. Вышла женщина с ребенком. Матрена равнодушно смотрела, как та поправляет матросскую шапочку на детской голове, ищет перчатки в оттопыренном кармане и сворачивает в переулок, ни разу не оглянувшись на незнакомую старуху в черном, которая зачем‑ то запоминает эти ненужные мелочи навсегда.
О Ростове никогда больше с братом не говорили.
Ждать стало некого, и дом № 44, единственную свою недвижимость, продали. Продали поспешно, невнимательно и не дорожась. Бог с ним; на кой… теперь‑ то.
С тех пор миновала вечность, то есть тридцать четыре года и несколько трамвайных остановок, пройденных торопливым шагом. И Матрена вдруг поняла: восемьдесят, девяносто или девяносто два – все равно он называл бы ее Ленушкой. Усмехнулась – и тут же увидела себя в больнице, как прямо восседала на табуретке, и почти услышала желанное: «Матреша…», а под самым горлом у него пульсировала нежная ямка. Прости меня, Гриша. Гришенька, прости!..
По старому стилю старухины именины приходились на Филиппов день – канун Рождественского поста, да только где тот уютный старый стиль? В моленной да в церковном календаре, а каждодневное бытие давно уже текло по новому стилю, бестолковому и несуразному, когда январь, к примеру, уже к концу идет, а Крещение только завтра. Не раз Матрена путала, сколько надо прибавить, двенадцать или тринадцать, чтобы, упаси Бог, не ошибиться. Новый численник, что висел на кухне, только усугублял путаницу. Документы совсем уж откровенно лгали, поскольку честно указывали старые даты, а выданы были в новое время новыми казенными людьми, которые понятия не имели о юлианском календаре, да и о григорианском тоже, руководствовались все тем же численником и увековечивали ложь черной тушью.
В этом году, полном больниц, тревоги и скорби, Матрене исполнялось семьдесят. Траурную одежду после похорон она не снимала. Строго говоря, это не был траур в полном смысле слова, когда все, от головного платка до туфель, должно быть черным, нет; однако обе пары туфель, по скудости обувного ассортимента, так или иначе были черными, а в небогатом гардеробе наличествовали одно черное платье и черная же юбка – и то, и другое такой консервативной длины, что о цвете чулок можно было не беспокоиться.
Что касается платка, то здесь возникло затруднение, которое Матрена, недолго подумав, разрешила не хуже Гордия. В итоге бесхитростного пасьянса получились две ровные прямоугольные стопки: одна, из пестрых и светлых ситцев, была отправлена в узел для моленной, другая, с платками темных тонов, вернулась в шкаф. И к месту.
Простыни, закрывавшие зеркала, были сняты, и комната освобожденно вздохнула, снова сделавшись просторной и яркой. Осторожно, чтобы не пылить, старуха скрутила простыни и мельком увидела в зеркале угол дивана, под которым ровно стояли чибы Максимыча. Она машинально обернулась, словно проверяя, не насмехается ли лукавое стекло, соскучившись в потемках. Нет, стоят; словно кто‑ то нарочно приготовил. Тихонько сотворила молитву и медленно повернула голову: стоят. Я же их в богадельню… – Гриша? – сказала одними губами и опустилась на диван. Что ж сердце так закудахтало? И сплю плохо. Надо у Феди капель каких попросить.
Подняла тапки и подивилась, как спрессованы задники, кои выправить не могла бы уже никакая сила. Стало трудно дышать. Подержав и ничего не придумав, бережно опустила на пол, чуть задвинув под диван. Не забыть про капли. Там, в шкафу, лежал еще один небольшой тючок; и чибы туда же, на кой тут… пылиться. Подумала ли этим словом или назвала его вслух, но взгляд послушно устремился к дверной вешалке. Пыльник.
В зависимости от настроения хозяина этот плащ именовался либо макинтошем, либо пыльником; при неопределенном настроении обозначался по родовидовому признаку: «плащ, тот, серый», хотя никакого другого у Максимыча не было.
Пыльник тоже надо завернуть. Матрена решительно протянула руку. Вешалка, словно давно этого ждала, стремительно перекосилась и выдернула костлявое плечо; макинтош немощно осел, как человек, которому внезапно стало дурно. Поднять его и сложить – дело одной минуты, да напрасно она поспешила: из кармана выскользнул пятак и, почувствовав свободу, покатился, описывая неторопливую дугу, под шкаф, в бесконечность.
В карманах обнаружилось немного мелочи, пара красных ботиночных шнурков, ключ с затейливой бородкой… Матрена замерла. Таких ключей было всего два; второй у Фридриха, где уж он сам‑ то… Ключ от мастерской. Держал, поди ж ты… Ключ блестел, словно был хорошо начищен, и старухе почудилось на миг, что он хранит тепло мужниной руки. Еще нашлось свинцовое грузило, какие‑ то бумажные комочки и сложенный носовой платок в табачных крошках. Она хватилась было портсигара – где он, надо Феде отдать, он курящий, – но взгляд упал на внутренний карман. Там и лежит, наверно; для того и застегнул, чтоб не выскользнул; достала, однако же, портмоне.
Сколько ж ему лет, подумать только, ведь с мирного времени таскает, забыв на секунду, что – нет, уже не «таскает», да и шестнадцатилетний возраст для хорошей кожи – не век.
…Поехали с Тоней в Старый Город, чтобы выбрать отцу подарок: шестьдесят исполнялось. Почему тот день запомнился? Она любовалась дочерью, одетой, как всегда, модно и строго, в новой шляпке, сидящей на голове так косо, что непременно должна была бы свалиться, однако же и не помышляла падать, и под неласковым ноябрьским ветром ни Тоня, ни другие дамы в кривых шляпках за голову не хватались, а только кидали друг на друга такие же косые, как их шляпки, взгляды. Она как сейчас помнила, что вышла из дому без перчаток, и дочь хотела купить ей перчатки в том же магазине, где выбирали портмоне. Еще вспомнилось недоумение приказчика оттого, что Тоня требовала бумажник, а она сама настаивала именно на портмоне и даже погорячилась, доказывая дочери, что отцу не бумажки класть, а – деньги…
Сейчас ей казалось, что не шестнадцать лет прошло, а много больше… Дамских перчаток, слава Богу, там не оказалось, зато Тоня купила себе новый заграничный ридикюль и что‑ то еще, так что вышли из магазина с несколькими свертками, и каждый пахнул кожей. Ветер угомонился, и нерешительного ноябрьского солнца хватило, чтобы осветить бульвар, бывший Александровский. Погуляли немного по Эспланаде. Руки застыли и покраснели; тем не менее, пакет с подарком несла сама и почти успела пожалеть, что не купили перчатки. С Площади… как ее? Площадь… Площадь Согласия, что ли; она еще спросила у дочери, как это место называлось раньше, но Тоня ничего вразумительного не ответила; прошли к Православному Собору, из которого выходили такие же, как она, в платках, и редко – в шляпках.
Купили именно бумажник, с множеством кармашков разного размера, прекрасной кожи бумажник, который, вопреки оригинальной своей породе, все же окрещен был портмоне и никак иначе не назывался, хотя отделения для мелочи в нем отродясь не было. Все равно портмоне, и к месту.
Старая кожа была теплой на ощупь. Пока новое, оно изнутри было светлее, но от долгой носки оба слоя так основательно потерлись, что приобрели одинаковый цвет – цвет ноябрьской травы. Затейливо скроенные недра, включая два потайных отделения, урожай дали более чем скромный. Трехрублевка, махровая от ветхости. Две одинаковые фотографии для паспорта, старика и старухи. Квитанция за электричество с неряшливыми, расплывшимися фиолетовыми буквами. Шесть аккуратно разглаженных трамвайных билетов, непонятно зачем хранимых. В одном потайном отделении лежали два рубля, каждый сложенный фантиком, в другом – обернутая слюдой фотокарточка Андрюши и – совсем уж непонятно – трефовая шестерка.
Старуха озадаченно повертела карту. На плотной атласной поверхности выстроились двумя сиротливыми рядами черные приземистые кресты, какие ставят на католическом кладбище.
Человек прожил на свете семьдесят пять лет, а после него осталась горстка нелепых мелочей: бусина, ключ от двери в бывшую жизнь, куда никому уже не войти, старые трамвайные билеты да игральная карта – явно чужая, ведь сам не играл никогда. Еще остается холм земли, который родные спешат ревниво отсечь рамкой надгробия, чтоб не смешивался с чужим прахом. Стол, шкаф, диван, трюмо, рожденные волей рук Максимыча, старуха не то что не видела, а просто это было сработано очень давно, во времена «бывало», и потому казалось, что существовало всегда… Выходит, что сейчас он там и нарядней, и богаче: свой дом. Она усмехнулась, а сердце прыгало где‑ то у горла, так что пришлось даже приложить руку к груди.
– Что, от тебя больше останется? – она повернулась к трюмо. Зеркало послушно отразило плюшевый валик дивана, осунувшуюся старуху в черном, сидящую очень прямо, и дверцу шкафа, а уж про жестяную коробку под шкафом оно никак знать не могло. – Вот и найдут; разве поймут что? Карточки Тоня в альбом приберет, а остальное в сор, куда ж еще. Може, отдадут ребенку играть…
Сегодня снова был нарушен покойный сон коробки от печенья «Бон‑ Бон», на буксире у которой, кстати, прибыл и укатившийся пятак.
К четырнадцатому ноября численник на стенке совсем отощал; его жестяной козырек, напротив, распух от оборванных листков. Ни о каком дне рождения старуха и слышать не желала. Веселиться в трауре?! Ребенку вон пять стукнуло – и то не праздновали; что ж мне‑ то в семьдесят? Да и по‑ настоящему, по старому, у меня именины только через две недели, на кой колготиться‑ то?
Совет не колготиться относился к Тоне, мать как раз зашла попросить у зятя капель. Вскоре появился и он сам, правда, не с каплями, а с тортом. На возмущенные протесты тещи возразил, что пост начинается только через две недели:
– Как вы, мамаша, и говорили. А сегодня просто попьем чаю с тортом, вот только Иру дождемся. Рановато она вышла на работу, рановато.
Ира пришла не одна, а с Лелькой. Пока развязывали шарф, снимали пальтишко и капор, девочка возбужденно объясняла, что одна воспитательница и двое детей в садике понимают по‑ русски, но говорить все равно не хотят, а ее ругали за то, что она неправильным полотенцем вытерлась и ночью плачет. Читать не разрешали и даже отобрали книжку. А еще, продолжала она уже в столовой, мама обещала, что заберет ее на следующий день, но не забрала, зато сегодня приехала бабушка Ира, и больше мы в садик не поедем!.. После чего с торжеством отправилась мыть руки.
Матрена целовалась с сыновьями и невестками, тоже, видно, любившими чай с тортом. Да что там торт! Она не успела оглянуться, как Тоня расставила закуски. Все усаживались, когда появилась Таечка с коробкой пирожных, жалуясь:
– Замерзла как цуцик!
– Так у тебя ж пальто на рыбьем меху! – воскликнула крестная, и Лельке пришлось оторваться от куриной ноги, чтобы проверить.
Мамино пальто пахло холодом, духами и табаком, но меха видно не было. Девочка ничего не знала про рыбий мех, но подозревала, что он мокрый. Наверное, потому и холодно.
В столовой стало громко. Дядя Федя называл маму «детка, деточка». Бабушка Ира говорила, что не даст калечить ребенка. Бабушка Матрена звонко и сердито повторяла: «Я, слава Богу, еще жива», а мама сидела самая красивая, как всегда, и внимательно смотрела на аквариум с рыбками.
Рыбки были совсем маленькие и мехом еще не обросли.
Вот неделя, другая… Неделя начинается у девочки буйной ветрянкой. Лелька блаженствует в бабушкиной кровати, уютно устроившись среди белоснежных подушек, которые тоже покрылись пятнами зеленки – видимо, из солидарности. Наблюдая, как Ира смачивает ватку, а потом бережно метит бугорки ярким изумрудом, Матрена рассмеялась, впервые после похорон. «Ты смотри, лечись, а то тебя на Пасху с яйцом перепутают! » – строгим голосом, но все еще улыбаясь, наказывала она правнучке.
Чесалось все, но как раз чесаться было нельзя, и девочка терпела, не чесалась. Когда болячки начали подсыхать, в гости пришла Тайка и опять заговорила о детском садике.
– Заразу в дом таскать? – возмутилась старуха. – Это ж какую еще чуму принесете? Ребенок в тепле, накормлен, напоен, на кой же его к чужим людям на всю неделю пускать?
Таечка обиженно вытянула губы: казалось, она сосет леденец. Щелкнула замочком сумочки, отчего в комнате запахло крепкими духами, достала портсигар и, вынув папироску, постучала концом по крышке.
– Пойду покурю, – и повернулась ловко, на одних каблуках, но уйти не успела.
Бабка положила ей на плечо пухлую властную руку.
– Ты где портсигар взяла?
– В тумбочке, дедушкиной, – Таечка возмущенно дернула плечом, но старуха держала крепко.
– Ты как смеешь без спросу брать?! – прозвенел яростный Матренин голос. – Тебя кто такому учил?
– Я не для себя! – внучка с трудом высвободила плечо. – Меня дядя Сеня просил поискать, на память о дедушке. Я ему отнесу. У меня теперь синяк будет как пить дать! – она оскорбленно поглаживала плечо, все еще держа зажатую между пальцами папиросу.
– Дай сюда, – Матрена протянула руку.
– У меня дядя Сеня…
– Дай сюда, говорю. Я сама знаю, кому отдать, – бабка говорила слишком спокойно, и на брови ее лучше было не смотреть.
– А куда я свои папиросы? … – капризным голосом начала Тайка.
– Мне что за дело. Клади туда, где раньше держала, и к месту.
– Я квартиру получаю, – внучка вытряхнула папиросы в сумочку и с вызовом посмотрела на старуху.
– В добрый час.
– И перевезу дедушкин диван, – вела Таечка на той же ноте. – Он говорил, что диван мне оставляет. – Выпрямившись, добавила: – Это мое наследство, я имею на него право.
Старуха махнула рукой:
– Мели, Емеля, твоя неделя, – и, отстранив внучку, двинулась на кухню.
Лельке было жалко маму, жалко диван, который куда‑ то увезут, и жалко портсигар Максимыча. Она изо всех сил старалась не расчесывать болячки, придумывая себе новые занятия. Например, можно было бы найти отличное применение портсигару: держать в нем трамвайные билетики. Еще добавить серебряную бумагу и самые красивые фантики, а так хорошая вещь пропадет: дядя Сеня напихает туда папиросок.
…Дрова отсырели, и старуха намучилась, пока растопила плиту. Крыша в сарае течет, что ли? Надо Моте сказать, пусть проверит. Мысли перескочили на младшего сына. Стало обидно: аферист, у матери не попросил, а Тайку послал в тумбочке шарить?! Нарочно Феде отдам. Она сердито ткнула кочергой в ленивое пламя, уже зная, что портсигар отдаст не Феде, а Симочке, да неизвестно еще, откуда он взялся, портсигар этот…
Стоя у буфета, невестка торопливо дохлебывала чай – ей сегодня во вторую смену. Она слышала весь разговор с Тайкой и теперь с сожалением поглядывала на одноногий будильник, подпертый спичечным коробком, не позволяющий ей выразить свое негодование по поводу дерзкой девчонки. Той, на бегу застегивающей пальтецо, она тоже не успела толком посочувствовать, только кивнула понимающе, бросив в спину свекрови красноречивый взгляд. Теперь Надя стояла к Матрене лицом и ждала, когда старуха начнет возмущаться. Чай она пила из толстой фаянсовой кружки, не вынимая ложечку, и черенок закрывал то один, то другой глаз.
– Вот я и говорю, – коротко взглянув на часы, быстро затараторила, хотя ни слова перед тем не было произнесено, – уж если начала гулять с солдатами, то для девки это последнее дело. – Ложка, звякнув, отклонилась влево. – То‑ то иду и думаю: она или не она? Солдат высокий такой; идут под ручку, потом сели на скамейку, закурили оба. Смотрю: так это же Тайка! Веселая такая, все хохочет. Мне‑ то что, мне дела никакого нету, а все же, думаю: вы, мамаша, скажите ей. – Ложка завалилась направо. – Куда это годится – с солдатом гулять. – Ложечка со звяканьем поехала обратно.
Матрена закрыла дверцу плиты и, кряхтя, поднялась с колен. Встретила Надин взгляд и кротко произнесла:
– Ты с Андрюшей когда познакомилась? Он как раз в солдатах был, вот когда. Забыла? Нуда, ты ведь в Женском батальоне служила. Теперь вспомнила? Вот сама и скажи.
Спокойно, не глядя на невесткино лицо, залившееся горячим борщовым румянцем, отвернулась к кастрюле. Ребенку исть надо.
Матрена тоже лечилась – пила капли, от которых в комнате долго держался запах аптеки. Зять обещал принести другие. Правнучка выздоравливала; болячки поотваливались, зеленка то ли выцвела, то ли смылась, но зуд не проходил. Особенно мучили шея и голова. Девочка сидела, поеживаясь под строгой Матрениной расческой. Та вдруг приостановилась, чуть сощурила все еще зоркие глаза и громко сказала:
– В баню! Да тут целое стадо, Господи, помилуй, спасибо детскому садику!
После бани зашли сначала в аптеку, а потом в галантерейный магазин на первом этаже. Правда, ничего стоящего не купили: ни круглую белую коробочку «Кармен» с красавицей, упоенно нюхающей цветок, ни мыло с такой же картинкой, ни толстую короткую кисточку неизвестно для чего, ни крохотные блестящие щипчики. Зато Лелька могла вдоволь полюбоваться на продавца, человека совершенно необыкновенного. Один глаз у него был как глаз, а другой – очень выпуклый, ярко‑ голубой и неподвижный, и когда он отмерял ткани, скрученные в толстые батоны, то нормальным глазом смотрел на линейку, сколько резать, а другим наблюдал, много ли останется; очень удобно. Отмерив, продавец брал острый карандаш, лежащий у него за ухом так же неподвижно, как у дяди Феди на чернильном приборе, и склонялся над прилавком, выписывая чек. Волосы у него были зачесаны на одну сторону и чем‑ то намазаны, поэтому никогда не разлохмачивались. И это еще не все: продавец хромал, но не так, как Максимыч, нет: при ходьбе он равномерно качался из стороны в сторону, и за прилавком что‑ то тюкало, будто гвозди забивали. Бабушку Матрену продавец назвал «мадам Иванова», покачался, тюкая, а когда уходили, сказал: «Желаю здравствовать». Дома выяснилось, что купили какую‑ то кукольную расческу, такая была тоненькая.
Лелька поинтересовалась, нельзя ли ей вот так же голову мазать, как у продавца, и бабушка Матрена неожиданно согласилась: «Пома‑ а‑ а‑ ажем», так что стало можно спросить и про тюканье. Оказалось, что у продавца деревянная нога. Пока девочка раздумывала, что ценнее – золотые зубы или деревянная нога, бабушка Матрена ее вычесала, пересыпав волосы удушливым порошком из аптеки, а потом завязала платком голову так плотно, что ушам стало нечем дышать. Это было особенно неудобно: Лелька как раз собиралась примерить за ухо карандаш, чтобы как у продавца.
В тот же день обе бабушки устроили огромную стирку. Плиту раскалили докрасна; белье кипятили, выполаскивали и снова ставили кипятить. Лельку из кухни прогнали и даже не разрешили покататься на велосипеде, хотя там стало больше места: пока она теряла время в круглосуточном садике, кровать бабы Матрены переехала в комнату. Девочка, конечно, не знала, что старуху пришлось долго уговаривать, и только когда Федор Федорович сказал: «Мамаша, Ире ведь может стать хуже, и рядом никого», только тогда она перестала упрямиться.
Все проходит; прошла и эта напасть с многократным вычесыванием и дустом. Заглянувшая Таечка несколько раз громко воскликнула:
– Кошмар, кошмар!
Старуха с усмешкой поправила ее:
– Это не кошмар, это вши. – И не отказала себе в удовольствии добавить: – Нечего было ребенка по садикам таскать.
Ира много шила – вернее будет сказать, перешивала: внучка подросла. Как и обещал, Федор Федорович принес другие капли, которые не пахли ничем и уже одним этим старухе понравились. Принимать их нужно было перед сном, и если она забывала, то спала хуже обычного – или ей так казалось. Все спали, когда она вспоминала о лекарстве, и свет она не включала, а, вытащив пробку, капала в толстостенную рюмку на ощупь. И невдомек было старухе, что эти капли вошли в ее жизнь, как некогда корка вошла в жизнь Максимыча; вошли прочно, образовав треугольник со сторонами на букву «К»: корка – капли – Киже.
И Рождество, и Новый год справляли у Тони, на этот раз вместе с Надей. Тата и Людка, хоть и ровесницы, были совсем не похожи и, возможно, поэтому вначале дичились друг друга. Бледненькая, улыбчивая и большеносая, Тата была ярко выраженным гадким утенком, и если не знала о его существовании, то потому единственно, что прочтет сказки Андерсена только через год, когда их издадут. Крепкая румяная Людка, стабильная двоечница и спортивная гордость школы, уже сейчас отличалась прекрасной кожей, хорошей фигурой и, к счастью, полным отсутствием наглости, присущей брату. Юраша старался казаться совсем взрослым и потому выглядел младше – во всяком случае, младше Геньки, который снисходительно посматривал не только на двоюродного брата, но и на взрослых.
Моти не было – он устраивал елку у себя, а Симочка с семьей пришел. Графин с водкой от него все время отодвигали. Тогда он вынимал отцовский портсигар и шел курить. Дед Мороз так же точно, как и в прошлом году, устало сутулился под елкой, да и не удивительно: всех оделил подарками. Таечке – с намеком на грядущее новоселье – досталась «Книга о вкусной и здоровой пище», которую Федор Федорович надписал: «Учись вкусно готовить, как следует кушать». Она дала Лельке посмотреть картинки, и та долго перечитывала надпись, восхищаясь крестным, который угадал, что мама должна кушать как следует, а то когда они идут куда‑ то, все думают, что это не мама, а сестра.
Подошло Крещение с неизбежными морозами, когда стекла окон становятся похожи на махровые полотенца, галоши надевать не надо, и невесомыми валенками можно хрустеть по снегу, а разговаривать нельзя: рот завязан, только шерсти наглотаешься.
У старухи валенок не было, а в ботах на кладбище далеко не уйдешь. У Иры, правда, были бурки с галошами; разумеется, не настоящие бурки, отделанные щегольскими полосками рыжей кожи, откуда? – Самодельные, которые она сшила из темной фланели с двойным слоем ватина. В них‑ то Матрена и ходила проведать могилу в воскресенье, а остаток дня бурки сушили у печки: в мокрых‑ то на работу не пойдешь. Иногда Ира возвращалась после первой смены заплаканная, и старуха знала: через кладбище шла.
Узнав, в чем дело, Тоня расстроилась до слез и обещала завтра же поискать: где‑ то на антресолях должны лежать валенки, как раз мамаше впору будут. Однако в каждой избушке, как известно, свои погремушки: учительница музыки была Татой недовольна, выразившись: «Девочку словно подменили», и пока что у Тони до антресолей руки не дошли. То ли нужно было искать новую учительницу, то ли дочку погонять хорошенько, и нечего хныкать, рано тебе еще перед зеркалом крутиться! Словом, забот полон рот. Мать не стала напоминать о валенках, а тут уже и Сретение на дворе; да и боты, слава Богу, есть.
Ох, обманчиво мартовское тепло; не дай Бог, простудила ребенка, гулявши: ишь, сопит во сне. За окном лениво проскрежетал ночной трамвай.
А славно погуляли сегодня. Проведали Симочку. Лелька детям из книжки читала, Симочкины‑ то не умеют еще, даром что старшему мальцу уже седьмой пошел. Она ж племянница им, Господи! И смех и грех: тетку на коленках держала. Уходили уже, так Лелька уперлась: хотела книжку забрать, что в прошлый раз им оставила. Какое; там и шматков не осталось.
– Что ты, золотко, за книжку так убиваешься, ты ж про эту рыбку все на память знаешь, – успокаивала Матрена, время от времени останавливаясь и вытирая безутешный нос. – А не про рыбку, так про что? Про мышку? Ну расскажи бабе, я послушаю про мышку.
Старуха заслушалась и даже обратной дороги не заметила.
– Как раз книжка про твою матку, тоже выкамаривает: и это не так, и то плохо.
– Это «Сказка о глупом мышонке», – снисходительно поправила девочка, и старуха не стала спорить.
Мышонок мышонком, а как там у ней было, где про царя? Сказка, дескать, врет, да в ней намек. То‑ то и есть; только ребенку такой намек где ж понять.
С Тайкиной квартирой тоже не легче: то она вот‑ вот должна появиться, квартира эта, то внучка опять замолкает. В мирное время как бывало? Тебе надо квартиру – иди и найми, еще хозяин следом побежит, уламывать будет. А теперь все не как у людей: и деньги плотишь, и живешь, как в гостях… или с гостями. Покосилась на дверь в соседнюю комнату. Матрена и у Феди спрашивала, что там с этой квартирой; може, подмазать надо? Зять перепугался. Там, говорит, мамаша, деньги такие, что не нам с вами подмазывать. Это Федя‑ то, а у них денег куры не клюют.
Она осторожно, чтобы не скрипнула кровать, повернулась на другой бок. Капли, Господи Исусе! Забыла, как есть забыла. Подошла, тихонько ступая, к окну. Уличный фонарь, прикрытый широким конусом колпака, раскачивался от ветра, бросая свет то на окно, то на голые ветки лип напротив. Пипетка ей была без надобности: пятнадцать капель как раз покрывали дно рюмки, похожее на воронку. Пробка застряла, как назло; ну наконец‑ то! Старуха долила воды, проглотила лекарство и закашлялась. Обернулась испуганно: спят, слава Богу. Закрылась бутылочка на диво легко.
Утром стало ясно, почему: от горлышка откололся кусочек стекла.
Я его проглотила.
Да не‑ е, бздуры. Не может того быть. Не должно!.. Несколько раз тщательно повторила весь свой ночной маршрут, в этот раз на коленках по полу. Може, осколок завалился куда и лежит, смеется. Нашлось овсяное зернышко, обломок грифеля, сломанная пуговица и – осколок, да, но от яичной скорлупы. Пошарила мизинцем по дну рюмки, да не раз, уж будьте благонадежны.
Не было. Нету.
После утренней молитвы поискала еще раз: нету.
Помру, решила она, но стало не страшно, а тоскливо. Ты‑ то помрешь, а с этими что будет? Ирке ребенка одной не поднять. Тайка безмозглая; одно слово, что матка, а в голове ветер.
С неприязненным вниманием осмотрела зазубрину на бутылочке. Делов‑ то, не больше хлебной крошки, а какой вред сделает. Велела искать правнучке: дескать, во‑ о‑ от такой кусочек стекла на полу валяется, не наступить бы. Лелька добросовестно ползала и вытащила из‑ под трюмо две фасолины, пустую катушку и сухой сморщенный каштан.
Нету.
Старуха решила ничего никому не говорить. Немедленно после этого собралась и отправилась с правнучкой к Тоне.
Дальше шло, как всегда идет развитие не сценической, но жизненной трагедии: дочери, разумеется, не было дома. Уже видя себя в гробу, Матрена несколько раз беспощадно вдавливала кнопку звонка, словно это могло изгнать паскудный осколок, и слышала укоризненный, глухой звон, приглушенный двумя дверьми.
Нету. Не судьба?
Одной рукой держа за руку девочку, другой слегка касаясь перил, она спустилась во двор. День был теплый, солнечный. Посреди двора стояла просторная песочница, а вокруг – низкие скамейки.
– Давай, что ли, подождем твою крестную. – Старуха опустилась на скамеечку и без интереса окинула взглядом высокий дом, «покоем» окружавший двор, никакие прозрачные кустики и женщину с ребенком на скамейке. Нянька? Нет, не похоже: в шляпке. Матка, небось. Женщина кормила чем‑ то из белой салфетки бледного мальчика в шубке и высоких ботинках с калошами. Ребенок капризно мотал головой, плотно упакованной в меховую шапку, а из‑ под шапки торчал платок.
Лелька наслаждалась развязанным капором. Стало жалко мальчика. Она подошла ближе. Ребенок лениво жевал, мама держала надкусанную котлету и рассеянно улыбнулась девочке. Лелька сделала книксен, как ее учила тетя Тоня, и сочувственно спросила, кивнув на мальчика:
– Он у вас тоже вшивый?
Женщина вскочила так, словно узнала, что скамейка покрашена. Она успела бросить гневный взгляд на старуху в трауре, недоуменно вскинувшую черную бровь, и схватила за руку мальчика, который с неожиданной ловкостью выплюнул в песочницу недожеванную котлету.
…Ругали Лельку одновременно бабушка Матрена и крестная, причем у бабушки Матрены колыхался живот, как всегда бывает, когда она смеется. Девочка поняла только одно: вши – это стыдно, и говорить о них неприлично. Потом ей разрешили посидеть у дяди Феди в кабинете, а дверь в столовую закрыли.
– Так ты спроси у Феди, – повторила старуха уже в прихожей.
И они с Лелькой начали спускаться по лестнице, второй раз за сегодняшний день.
Вопреки Тониным ожиданиям, муж встретил известие очень спокойно, чуть ли не безмятежно.
– Ну, во‑ первых, нечего горячку пороть: бутылка могла разбиться неделю назад, так? Во‑ вторых, ты сама пробовала глотать стекло? То‑ то. Человеческая гортань устроена таким образом, что… И потом, если б еще с большой порцией жидкости… Сколько там было в рюмке, на один глоток? Не говоря уже о том, что осколок мог действительно оказаться на полу. А что не нашла – это не аргумент; не с ее комплекцией ползать по полу или лезть под шкаф.
Феденька оторвался от омлета, раздумывая, мазать хлеб маслом или воздержаться: он начинал полнеть. Так и не решив, продолжал:
– Даже если предположить худшее, то есть она проглотила… Я не понимаю, – он повернулся к жене, – Таточка уже полчаса за пианино?
– И будет сидеть еще десять раз по полчаса! Нина Альфредовна ею очень недовольна.
Тата всхлипнула и выбежала из столовой. Пока жена сумбурно и возмущенно жаловалась, Федор Федорович машинально намазал хлеб маслом и вернулся к омлету. Отодвинув тарелку, он сказал как можно мягче:
– Тосенька, ты же из музыки ей наказание делаешь. Она играет «Песню жаворонка», а получается «Траурный марш». Возможно, имеет смысл поговорить с Ниной Альфредовной…
Договорить он не сумел, только пил маленькими, аккуратными глотками нарзан под монолог жены. Из этого монолога Феденька снова узнал, что ему хорошо говорить, а на ней мало того, что весь дом, так и за мать сердце болит, и уж где‑ где, а в семье самое важное что? Дисциплина! Это слово жена особенно любила и выговаривала четко по слогам и через «Т»: «дис‑ ти‑ пли‑ на», причем на предпоследнем слоге Феде всегда представлялся полк, готовый к стрельбе по команде: «Пли! »
Он слегка поморщился.
– Так вот, если даже это случилось, – я говорю «если», это не значит, что она действительно проглотила, – ну так он выйдет!
Все еще распаленная своей речью, Тоня смотрела непонимающе.
– Очень просто, – поморщился Феденька, прикрыв рот салфеткой (надо поменьше яиц есть). – Я говорю, очень просто! Помнишь, Юраша в пять лет пуговицу проглотил? … Вот и объясни ей: эвакуируется, мол. – Встретив недоуменный взгляд, пояснил: – Наружу выйдет. Как всё выходит.
После ужина им овладела сонливость, но жена принесла чай.
– Попьешь – и поезжай. Мать там с ума сходит.
Даже после крепкого, бодрящего чая – а может быть, особенно после него – выходить в промозглый март казалось немыслимо. В кабинете ждали свежие газеты. Юраше была обещана разгромная партия в шахматы. За столом у окна сутулилась бледненькая и очень несчастная Таточка, которую хотелось приласкать и развеселить. Все мечты, однако же, были прихлопнуты его любимой шляпой, и пальто он застегивал уже на лестнице.
«Дис‑ ти‑ плиии! – на», – издевательски пропела дверь парадного.
Хорошо, когда повествование идет ровно, не убегая назад и не петляя по боковым тропкам, заводящим Бог знает куда, и можно просто рассказать, как долго и терпеливо Феденька развеивал тещины страхи, как она, смирившись с неизбежной и мучительной смертью, смотрела на него строго и недоверчиво, в то время как напряженное лицо мало‑ помалу начинало оттаивать, разглаживаться, вот и бровь заиграла… В этом месте зять облегченно вздохнул: миссия была осуществлена если не с блеском, то добросовестно. Уже и за шляпой потянулся с улыбкой… и оставил ее лежать. После такого успеха невозможно было уйти, не выслушав все печали.
Квартира. Какой‑ то солдат. Надгробие – пора ставить или рано? Пасха на носу. В мирное время, бывало…
Федор Федорович снял очки, и старухе показалось, что именно они удерживали толстые мешки под глазами. Ему же пятидесяти нет, Господи!.. Неохотно поднялась. Феденька протер очки, снова надел их, привычно усадив на переносицу и замаскировав стеклами мешки. Из кармана пальто достал свежие капли и пипетку в папиросной бумаге. «Только пипеткой! » – строго поднял палец, и таким убедительным был его жест, что Матрена прониклась невольным доверием к аптечной пустяковине.
А все из‑ за именин, вдруг поняла старуха, убирая капли от греха подальше в аптечку. На кой было справлять – не зря душа не лежала. «Так ты и не справляла, – защищал чей‑ то голос, слышный только ей, – никаких именин не было. Что у Тони за столом посидели, так разве это именины? Именины – это когда, бывало, " Многая лета" споют, потом за твое здоровье до дна выпьют да рюмку – об пол, чтоб стекло прозвенело… Какие ж именины без черепков да без осколков, Мать Честная? »
Вот тебе именины, вот тебе осколок.
«Ну‑ ну, – успокаивал голос, – тебе ж Федя разъяснил, что бздуры это. Дай спокой. Вербное воскресенье близится, надо вербочку на базаре выбрать…», а кто первый о вербе вспомнил, Матрена или голос, ее утешавший, право, значения не имеет.
В этом году мамынька ждала Пасху без обыкновенной радости. Появилась было даже совсем непрошеная мысль: не справлять. Мысль не распространялась, естественно, ни на Великую неделю, ни на всенощные, как можно; а вот печь, готовить руки не тянулись. Это не мешало традиционной предпраздничной суете: придирчивым закупкам сдобы, изюма, миндаля, специй… Правильнее всего было бы сказать, что старуха готовилась к Пасхе, не вполне зная, зачем она это делает. Никогда раньше такого с ней не бывало, и потому даже с Тоней не поделилась крамольными мыслями.
Великий пост подходил к концу. Стараясь избежать толкотни и как можно скорее избавиться от тягостного беспокойства, она сходила в моленную к исповеди. Что правда, то правда: стало легче, неясное смятение улеглось. Однако глубоко внутри оно осталось, как… как тот осколок.
Да, зять прогнал ее первую панику, успокоил, дай Бог ему здоровья, и лекарство отныне исправно капала в рюмку Ира, да только что уж пипетка может сделать, когда проглочено стекло, Господи?! Осколок разрастался, превращаясь мало‑ помалу в линзу, через которую мамынька отныне видела мир, и мир, весьма далекий от совершенства, от этого не выигрывал.
Как странно жизнь переплетается со сказкой, истина с вымыслом! В далекой Дании – не очень, в сущности, далекой, почти напротив: через самое синее море и чуть влево, – в Дании девочка с преданным сердцем плачет из‑ за осколка, застрявшего в глазу названого брата. Но эта сказка – или история? – не известна пока на нашем берегу. А жаль: может быть, она утешила бы старуху – ведь мальчик избавился от проклятого осколка, и если бы все истории так кончались… Однако Дания далеко, хоть и близко; а самое преданное сердце – еще дальше, хоть и совсем рядом, рукой подать, засыпанное тяжелой желтой землей.
По мере того как Пасха становилась ближе, настроение Матрены менялось и первоначальное беспокойство уступило привычной деловитости. Невестка в этом году тоже решила печь, и старуха вздергивала скептически бровь, наблюдая за ее хлопотами. Напрасно, между прочим: пасхи у Нади взошли на славу и явно не уступали мамынькиным ни видом, ни вкусом. Что и выяснилось на кладбище, когда разговлялись. Да у всех удались, что и говорить; пробовали и кивали одобрительно, причем каждая хозяйка снисходительно хмыкала про себя: мои‑ то лучше. Эта уверенность помогала великодушно хвалить остальные.
Похристосовались, разговелись. Угостили всех, кто присутствовал молча и кому едва ли нужно было угощение; а впрочем, как знать. Помолчали. Стало видно, что кусты, окружавшие фамильное кладбище, стали выше и гуще, и Лелька вместе с Симочкиными малышами уже нашла под кустом «хлеб от зайчика», завернутый в крахмальную салфетку с вышивкой точь‑ в‑ точь как у крестной. Удивляться было некогда, потому что все начали поздравлять с днем ангела Ирину, вчерашнюю именинницу. Потом спорили, громко и долго: Тоня звала к ним – и ближе, и стол накрыт; Матрена твердо объявила, что именины надо справлять дома. Это и решило дело.
Если бы только именины, думал Федор Федорович, глядя незаметно на свояченицу, тут второе рождение. Воскресение, и пригубил рюмку с кагором. Тоня, которая знала про операцию больше других, тоже наблюдала за сестрой. Помолодела Ирка, что ли? Так и не удивительно – весь дом на матери: и приготовит, и уберет, и ребенок присмотрен. На работу да с работы. Хоть бы одевалась помодней, что ли, подосадовала она, не озаботившись мыслью, что наряжаться сестре некуда, не для кого и не на что.
Бедная моя. Старуха опустила глаза, чтобы дочь не поймала растроганного взгляда. Пятьдесят три всего, а сдохлая какая. Вторая смена, да всенощная каждый вечер, а как только в двери, так ребенок виснет, приходится языком молоть, книжки читать. Ей ведь больше всех лиха досталось – старшая. Да и что она видит? Живет от письма до письма, сама что ни день строчит. Что пошлет, а больше порвет да в сор. Другая дочка на такую матку день и ночь Богу молилась бы, а эта торт принесла!
Хоть упрек по адресу внучки звучал не очень логично, старуху можно было понять. В самом деле, торт из кондитерской, во всем великолепии своих блеклых восковых роз, стоял среди румяных куличей, как манекен на свадьбе. Все как один заговорили про Тулу и самовар и заулыбались. Тайка обиженно надула губы:
– Хотела матушку поздравить, а у вас тут праздник, – и Лельке опять стало жалко маму.
За столом внезапно перестали разговаривать.
– Христос воскрес, – сказала крестная, глядя на Тайку в упор, но сказала это голосом совсем не праздничным, а словно сообщая: почтальон пришел.
Таечка, улыбаясь, подошла к Тоне похристосоваться, и все заговорили опять, словно звук включили, и начали целовать опоздавшую.
В этом году за пасхальным столом было просторней: Надя с детьми уехала в деревню, Тайка, к облегчению мамыньки, никого не привела. Почетных гостей тоже не было, собрались только свои.
Кроме одного.
Старуху долго мучил пустующий стул мужа. Пробовала передвигать – все одно, только хуже становится. Известно ведь: от перестановки мест слагаемых… Соломоново решение пришло не сразу и не от озарения какого‑ то, а с устатку: притомилась от бессмысленной рокировки и присела дух перевести, как раз на стул Максимыча. Так решила и оставить, отчего сразу стало покойно. Даже привыкать не пришлось, точно так надо было, и к месту.
Она сидела во главе праздничного стола, а за ее спиной в промытое хрустальное окно ломилось апрельское солнце, окатывая голову и плечи щедрым, ярким светом. Лицо, обрамленное белым – ради Великого праздника – шелковым платком, казалось смуглее, брови были спокойны. Тонко, как и полагается благородным, позванивали чашки кузнецовского фарфора, аппетитно пахнул свежезаваренный чай – китайский, Мотя принес два цибика, – по темно‑ янтарной поверхности метался нежный дымок. Старшие внуки старались говорить басом и словно невзначай дотрагивались до бритых щек. Дочь‑ именинница выпила рюмку вина и теперь остужала ладонями разгоревшееся лицо. В отросших волосах ярко белела седая дорожка.
– Покажи, покажи! – нетерпеливо закричала Лелька.
Тайка держала в высоко поднятой руке ключ и улыбалась.
Мамынька подняла бровь.
– Квартира! – торжествующе объявила внучка. Занавес.
Подходила к концу Светлая неделя. Лелька с восторгом «проветривала наряды», а предстояла еще Первомайская демонстрация. Накануне бабушка Ира принесла красный флажок на занозистой палочке. На флажке было написано на двух языках: «1 Мая». Буквы были наляпаны твердой белой краской, поэтому флажок был жестким и от него сильно пахло маринованными огурчиками.
В Светлую неделю работать грех, однако попробуй не поработай. Придя с комбината, Ирина открывала шкаф и озабоченно раскладывала белье в две стопки: поновее и покрасивее – в одну, остальное – в другую.
– С ума‑ то не сходи, – урезонивала дочь Матрена, – ты же эту квартиру в глаза не видела. Куд‑ да ты покрывало тащишь, тебе Тоня с Федей на юбилей дарили?! – Старуха в отчаянии махнула рукой.
– Мама, ну мне‑ то зачем. Пусть Таечке будет. Ведь у нее своего никогда не было, только что на ней.
– Да уж, – горько язвила старуха, – голая и босая твоя Таечка, как же! Платье новое крепдешиновое справила, а ты себе довоенное перелицовываешь. Я старая, да не ослепши пока; зимой ты в тряпочных бурках шлепала, а она в модных ботиночках щеголяла!
– Так она молодая, – Ира пожимала плечом, одновременно тихонько пересчитывая наволочки, – а я вдова, баба. На кой мне ботиночки на каучуке? Я вот что думаю, мама, – Ира озабоченно посмотрела на стол, – я думаю, надо бы из посуды что‑ нибудь…
– Дай спокой с посудой. У тебя что, лавка посудная? Тоня с Федей сервиз собираются дарить, когда уж она там новоселье справлять думает.
Ярилась, негодовала старуха, бранилась, как сказано в каноническом тексте, на чем свет стоит. Дочка возражала редко – скорее для поддержания беседы или чтобы передохнуть, когда отводила ото лба влажную короткую прядку. Оттого ли, что Ира почти не прекословила или от радостной ее полуулыбки мамынька не успокаивалась, а продолжала бушевать.
– Вчера ботиночки, сегодня один крепдешин, завтра другой, а о своем отродье она много думает? Ребенок вон в чем ходит…
Лелька оторвалась от созерцания флажка и вмешалась в монолог:
– У меня тоже платье новое. Штапельное, – и Матрена ничего не могла на это возразить, да и кто мог бы, тем более что появилась Тайка.
– Я прямо с работы; устала как собака. А вы что, в баню собираетесь? – она кивнула на разложенное белье.
Услышав ответ, недовольно вытянула губы:
– Заче‑ е‑ ем ты, ну кому это мещанство надо?
Ира с матерью одновременно посмотрели друг на друга: одна – недоуменно, другая – торжествующе.
Таечка сняла жакетку и присела на стул, обмахиваясь сложенной газетой.
– Кошмар, жара какая. Хоть стой, хоть падай. Завтра Первое Мая, в чем я на демонстрацию пойду? В жакете сваришься.
– Это по‑ вашему, по‑ новому, первое мая. А полюдски, так середина апреля, мученицу Ирину празднуют, – недовольно заметила старуха.
– Ой, бабуль, я чуть не забыла! – Тайкина газета остановилась в воздухе, и Лелька успела прочитать загадочно сложенные слова:
НОЙ ПАРТИИ
– …за диваном заскочу на днях, а то мне там спать не на чем.
ЯЩИХСЯ РАН
– Как же ты его потащишь? – заинтересовалась бабка, а Ира с тревогой посмотрела на дочь.
ЛОЖНЫХ МЕРАХ ВОЕНИЮ АХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ
– Конечно, не сама потащу, мне помогут. Мы приедем и заберем. В среду, наверное.
– Человек какой поможет или грузчика наняла? И почем сговорилась? – продолжала Матрена.
– «Человека», «грузчика»… Какие у вас старорежимные понятия, – снисходительно улыбнулась Таечка. – Просто один знакомый поможет.
Не нужно было здесь ни этой крохотной запинки, ни вскинутого с вызовом подбородка – вся головоломка, которая, в сущности, для старухи таковой не была, послушно выстроилась в нехитрую картинку.
УМА ВЕРХОВНОГО
– Нет, милая моя, – спокойно произнесла она, – так у нас не делают. Чтоб ты приводила чужих людей, и они мое добро растаскивали? Ищи‑ свищи таких дураков.
Таечка смешалась. Она переводила взгляд с бабки на мать, и ее растерянность нарастала. Ира сидела, устало сложив руки на скатерти, и улыбки на ее лице уже не было. Растерянность дочки перешла в возмущение.
– Во‑ первых, это мой знакомый, – пылко начала она. НОВЫЕ ОРДЫ
– Твой знакомый, – с нажимом повторила старуха, – пускай приходит к тебе в дом. Мне он – чужой человек, таких вон полная улица.
ЦИАТИВА ХАРЕЙ
– …ты приведи человека в дом, представь; пусть отрекомендуется честь по чести, как и следует быть. На всех шаромыжников мебели не напасешься.
Ира согласно кивнула.
ВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Мама подняла глаза куда‑ то к лампочке и опять замахала газетой. Больше ничего прочитать не удалось.
…То ли капли хорошие Федя прописал, то ли уходилась мамынька, наставляя строптивую внучку, но спала она в эту ночь как убитая. Снился ей высокий солдат со скаткой через плечо и ранцем за спиной, только шляпа была, как у зятя, совершенно партикулярная. Грудь пересекают ремни, и каким‑ то способом – за ремень, что ли? – на груди прикреплена бутоньерка. На ногах же – и смех и грех – бурки самодельные, что Ирка шила, даже строчка видна.
Ирина тоже видела во сне строчку, ровно бегущую по полотну из‑ под лапки швейной машины. Будто сидит она на комбинате и удивляется: как же сразу не догадалась – ведь можно сшить все что, и наволочки, и простыни; только строчи! Все у дочки новое будет.
А Лельке снилась демонстрация. Она идет, размахивая флажком, а флажок вдруг уменьшается, и вот это уже вовсе не флажок, это петушок на палочке, а рядом идет Максимыч в макинтоше и картузе. Лелька хочет спросить, что такое ЯЩИХСЯ РАН, но липкий петушок не дает ей ничего сказать: рот склеен, а Максимыч тоже ничего не говорит, только смеется.
Не сразу, конечно, и даже не в среду, – а впрочем, это могла быть и среда, вполне средний день, когда Таечка появилась не одна, а с героем бабкиного сна. Как‑ то получилось, что на проводы Максимычева дивана приехали Тоня и Федя с коробкой миндальных пирожных. Мамынька напекла пирогов, как на маланьину свадьбу, но тут удивляться нечему: пост давно кончился. Надя оживленно крутилась тут же на правах соавтора всего происходящего – не она ли первая обмолвилась о высоком солдате? В кухне было жарко и от совсем уже летнего солнца, и от духовки, поэтому Лелька, покрутившись среди взрослых, убежала в комнату.
Здесь было прохладней. Она залезла с ногами на диван, который, кстати, давно пора описать, особенно сейчас, когда его вот‑ вот унесут.
Коренастый и невысокий, как сработавший его хозяин, диван занимал немного места и был очень удобен. Обивка на нем была из темно‑ вишневого бархата, потертость которого пытался скрыть плед весьма почтенного возраста и вида. Конечно, диван был слегка продавлен; девочка как раз устроилась в этой уютной впадине, положив голову на круглый твердый валик. Ей особенно нравилось, что валик откидывается, и тогда кажется, что диван огорчился и опустил плечи. А можно было играть в Север, и тогда валики были тюленями с золотыми усами в виде висящих кистей. Если сиденье не то чтобы выдавало, но – намекало на солидный возраст дивана, то спинка его явно молодила. Вишневый бархат, правда, слегка выцвел от солнечных лучей, но все равно напоминал молодцевато выпяченную грудь, облаченную в мундир неизвестной армии, где вместо пуговиц поблескивали золотые головки обойных гвоздиков. Прямо над обивкой было врезано зеркало.
Когда Лелька была совсем маленькая, она была уверена, что это не зеркало, а овальное окно в другую комнату. В этой неведомой комнате девочка ни разу не была, да там и не было ничего интересного: стенка и белый потолок. Максимыч разрешал прыгать по дивану, но до зеркала она все равно долго не доставала, хотя в чужой комнате начали появляться кое‑ какие нужные предметы. Чужие обзавелись лампочкой, на которую вешали, как бабушка Ира, кудрявую липкую бумагу от мух, а также мухами, доверчиво садящимися на нее. Потом диван передвинули, и в овальном окошке появилась печка, тоже как у бабушки. Лелька все рассказала Максимычу, и он долго смеялся, а потом предложил: «Хочешь посмотреть, кто там живет? » – и поднял ее высоко‑ высоко. После этого поднимал часто, потому что на Лельку время от времени нападало сомнение, а потом она стала такая большая, что, стоя на диване, могла сама себя увидеть, а потом Максимыч умер, и вот уже Пасха кончилась, а он все не воскресает. А когда воскреснет, где он спать будет, ведь мама заберет диван на новую квартиру? …
Между тем на кухне Матрена выложила горячие пирожки на большое овальное блюдо, живущее в буфете – ив этой истории – весьма давно, то самое блюдо, которое принимало уже на себя мамынькин гнев, но уцелело вследствие благородного происхождения. Поспел и самовар. Скатерть осталась будничная, в голубую клетку; никаких лакомств, кроме Тониных пирожных, не было, да и мать всегда была равнодушна к покупному тесту.
Если бы не аппетитный запах пирожков, то скромное застолье имело бы совсем театральный вид, словно только что подняли занавес и на сцене ничего пока не происходит, просто люди пьют чай. Автор, возможно, и дерзнул бы все переписать, сменив жанр, но больно уж много понадобится пояснений и ремарок, да и где труппу взять? Пусть останется все, как было: без занавеса, кулис, без требовательных зрителей и даже без суфлера.
Итак, сидели вокруг стола. Надя да и Тоня, чего греха таить, сгорали от любопытства. Старуха громко жаловалась на базарные цены. Ира не находила себе места, и только Феденька безмятежно наслаждался пирожками.
– Налей мне еще стаканчик, – повернулся он к свояченице, – и перестань маяться, Бога ради: он за диваном придет, не за дочкой твоей.
– Как знать, – немедленно откликнулась мамынька, словно судьба дивана сказывалась на дороговизне.
– А хоть бы и так, – включилась Надя, – пора уж ей своим домом жить. А что солдат, так он не всегда же в солдатах будет!
Старуха отвела глаза. Окинула властным оком свое царство: остывающую плиту, ярко начищенный бантик крана над раковиной, буфет. Взгляд привычно задержался на толстом рельефном стекле. Сейчас таких не делают, и когда левое разбилось, Максимыч сложил и склеил острые треугольники, а потом стянул их ровной круглой клепкой с блестящей блямбочкой в середине. Внук Лева, увидев, сказал: «Москва! », насмешив всех. Уж и Москва, не поняла Матрена, почему Москва? Паук, как есть паук. Починенное стекло служило исправно. Старуха давно привыкла к длинноногому пауку и старательно начищала мелом латунную бляшку.
Ожидание разлуки с диваном затянулось. Феденька насытился, цены обсудили, осудили и хватились Лельки. Тоня громко, совсем мамынькиным голосом, позвала ее, и через минуту раскрылись сразу обе двери. В проеме одной, словно в рамке фотокарточки, появилась Таечка с солдатом, а на полутемном пороге комнаты – остолбеневшая Лелька.
Ни скатки, разумеется, ни ранца за спиной у Тайкиного знакомого не было, как не было на ногах самострочных бурок из сна и бутоньерки за ремнями; ремней, понятно, не было тоже. Солдат как солдат, ничего особенного; а все же не зря мамыньке сон привиделся.
– Это Володя, – снисходительно сообщила Таечка.
Тот кивнул и даже сапогами пошаркал. На лицах возникли было улыбки, но тут же застыли от негромкого старухиного голоса:
– Иконы здесь.
Таечка дернула спутника за рукав, но тот смотрел непонимающе. Матрена сказала громко и очень раздельно:
– Шляпу!..
Не может быть, никак невозможно поверить, чтобы она не знала правильного слова: картуз Максимыча был ведь не чем иным, как псевдонимом фуражки. Слово было правильное, и сон был правильный.
Федор Федорович удивился: парень, только что сделавший эдакий fauxpas, не извинился и не выразил ни малейшего смущения. Пожав плечами, он снял фуражку и бегло взглянул на икону в углу.
– Вообще‑ то я еврей.
Поскольку представила его Тайка, это была первая сказанная гостем фраза. Но что‑ то он должен же был сказать, рассуждал Феденька, беря новый пирожок.
– Вот в синагогу и приходите в шапке, – величественно кивнула мамынька, все еще избегая слова «фуражка», – а сейчас садитесь чай пить с пирогами. Тая, поставь человеку тарелку.
– Я не хожу в синагогу, – легко ответил солдат вместо «спасибо» и уверенно придвинул стул. – О, пирожки! А с чем?
– Вы же сказали, еврей? – Матрена вежливо подняла бровь.
Тоня коснулась Фединого рукава. Боясь, что чаепитие перерастет в диспут о конфессиях, Федор Федорович поторопился спросить о службе, гарнизоне и боялся только, что вот‑ вот оскудеет его скромный ресурс вопросов по военной тематике.
Солдат браво отвечал и так же браво поглощал пироги. Тоня заварила свежий чай, стараясь не смотреть на сестру, что грозило бы одновременным смехом. Дело в том, что вопрос «с чем пирожки» в доме был под негласным запретом; в лучшем случае старуха ответила бы: «С молитвой». Читателя, заинтересовавшегося остальными вариантами, хорошо было бы познакомить с Фридрихом, который некогда задал такой вопрос, но ответа долго не мог понять – до тех пор, пока Максимыч не разъяснил оного ответа, предварительно отведя немца в кабак, чтоб не обижался на Матрену.
Одним словом, смотрины продолжались. Тоня сменила выдохшегося мужа, и гость быстро заполнил анкету.
Сам он с Украины. Родителей не помнит: отстал от поезда, когда с матерью и сестрой ехали в эвакуацию. Не знаю; помню, что мать за кипятком побежала. Отец? Его забрали, до войны еще. Не помню. Мне? Пять лет, ну, когда потерялся. Попал в детдом, в Ташкент. Детский дом, значит. Вкусные пирожки у вас. Еще не отслужил, нет. Скоро уже. Останусь на сверхсрочной, наверно. Так многие делают. Начинки много, хорошо. Вообще я музыкант. (В голове у Федора Федоровича еще не остыло «Вообще‑ то я еврей». ) В оркестре, в военном. Я с капустой люблю. На валторне. Ну не только; почему? И с мясом. На фортепьяно тоже. На других духовых. Каждый день репетиции, потом сыгрываемся. Политучеба там, то, се. Да в казарме живу, тут близко. Нуда, от хлебного один квартал.
Он говорил, держа ладони перед собой, будто собирался нырять, и быстро‑ быстро крутя большими пальцами. Делал паузу, брал новый пирожок, жевал; на вопросы отвечал легко, не задумываясь.
Его внимательно слушали и рассматривали. У гостя были черные прямые волосы такой густоты, словно предназначались для нескольких. Маленькие глаза казались ленивыми; должно быть, от сытости. Между массивным носом, тоже великоватым для одного, и пухлыми, точно обожженными, губами, росли короткие усы, блестящие, как маслом натертые. Он легко дотянулся до коробки с пирожными и теперь хрустел, стряхивая ломкие крошки.
Тайка смотрела на жующего снисходительно и горделиво.
Может, и в самом деле нашла девочка свое счастье, растроганно думал Феденька. Отец, вероятно, известно где. Детдом, слава Богу, паренек пережил, не забили его; по музыке явно был отличником. Конечно, ему демобилизовываться не резон: сирота, вот и осматривается.
Изумляясь на явные издержки воспитания, старуха все же была польщена, видя, как «вообще‑ то еврей» уписывает пироги. Ремесло бы ему в руки настоящее. Разве дело молодому парню в дудку дудеть, пастухов хватает… Дерзкий, конечно. Ну да кто сироту научит, как себя на людях держать. Матка, если жива, убивается. Надо было мальца за руку держать! Мало что за кипятком побежала. Вот и осталась с кипятком, да без ребенка, а сын без матки. Сестра, говорит, есть; а где сестра? Сколько горя на свете… И где Тайка его подцепила?
– Мы в Доме офицеров познакомились, – ответил он на Тонин вопрос, ловко крутя пальцами, – на танцах. Таинька там самая красивая. – Он повернулся к Тайке и подмигнул ей. Та притворно нахмурилась. – Мы с товарищами туда по субботам ходим.
С улицы послышался затейливый свист.
– Это наши ребята, – вскочил гость. – Нести помогут. Все сразу вспомнили про диван. Надя ушла к себе в комнату, и оттуда немедленно, точно соскучилось, запело радио:
…Ноченька яснозвездная,
Скоро ли я увижу
Мою любимую в степном краю? –
Мужской голос звучал очень бодро, почти весело, и ясно было, что если любимая не поторопится, то свет на ней клином не сошелся.
Лелька кинулась в комнату. Феденька зачем‑ то снял пиджак и неловко держал его в руках, пока «наши ребята» толпились у дивана. Миниатюрная Таечка выглядела очень трогательно со стопкой фуражек в руках. Матрена кинулась снимать паутину со стенки, но сначала зачем‑ то медленно и бережно протерла диванное зеркало; поправила валики.
Вьется дорога длинная,
Здравствуй…
– Ребенка! Ребенка с дороги уберите! – тревожно закричала мамынька, и Федя крепко‑ крепко обнял Лельку за плечи.
Диван развернули, приподняли, и «наши ребята» двинулись мелкими шагами, переговариваясь коротко и не в такт.
– Тяжелый, собака. Чуть левее!
– Зато крепкий.
– Ему лет сто. Угол осторожно!
– Еще левей, Вовка, левей! Вот так.
– А че, спать и спать…
– Подняли, тут порог. Опускай! Так…
Только без тебя немножко грустно будет жить, –
беспечально торопился певец.
Под ногами у Володи оказались чибы Максимыча, и он ловко, словно пасуя мяч, отшвырнул их блестящим сапогом.
Ты ко мне приедешь раннею весною
Молодой хозяйкой…
– Заткни ты свою шарманку Христа ради, – устало сказала мамынька, закрывая дверь. – Ишь, натоптали сапожищами…
* * *
Ровный прямоугольник на вымытом полу темнел, словно тень от ушедшего дивана. Сюда передвинули мамынькину кровать. Трюмо удивилось, но послушно отразило высокое изголовье с высовывающейся ленивой подушкой. В овальном зеркале шкафа стала видна спинка с перекинутым пикейным покрывалом, та же любопытствующая подушка и девочка с прижатыми к груди старыми тапками, а вот как она прятала свой трофей под шкаф, зеркало не углядело.
Миновала Святая Троица, а внучка и не заикалась о новоселье. Не то чтобы у Матрены других дел не было, дел хватало, как всегда, а все же мысли постоянно возвращались к Тайкиной квартире. Этой квартиры она не видела, поскольку подобающего, «чинного» приглашения от внучки все еще получено не было. Отсутствие оного приглашения удивило мамыньку до такой степени, что для обиды не осталось места. Ирка видела – и слава Богу; успею.
Ира действительно побывала у дочки на квартире – при обстоятельствах, впрочем, не совсем обычных. Начать с того, что ее Тайка тоже не приглашала; вернее, пригласила, когда они случайно столкнулись на улице. Ирина вела внучку, а дочь выходила из гастронома под руку с солдатом. Таечка растерялась и, должно быть, поэтому сказала с ненужной развязностью:
– Зайдешь, что ли, мама, на мои хоромы посмотреть? Тут рядом.
Девочка запрыгала радостно:
– Бабушка, пойдем! – И повторила: – Тут рядом.
Оказалось, и вправду рядом: два квартала. «Хоромы» находились на первом этаже. У двери квартиры, куда гордо устремилась Тайка, стоял, прислонясь к перилам, высокий старик. Он приподнял шляпу, чуть поклонившись, и сказал что‑ то на местном языке про мебель. Таечка обаятельно улыбнулась: «Пожа‑ а‑ алуйста! »
Оказавшись внутри, Лелька, по‑ прежнему держа бабушку за руку, начала с любопытством осматриваться. Солдат быстро сел на диван. Ирина остановилась у двери на кухню. Незнакомец стоял, обняв ладонями высокую спинку стула, точно пробуя на вес. Таечка грациозно присела на край кожаного сиденья. Все так же мило улыбаясь, она обратилась к старику:
– Неужели мы с вами не договоримся, дядюшка? – «Дядюшка» у нее прозвучало совершенно по‑ местному, уважительно и ласково одновременно.
– Барышня, – удивился тот, – мы уже договорились, вы обещали мне ключ.
– Вы здесь большее не живете, – мягко возразила Таечка, – как я могу вам дать ключ от моей квартиры?
– Но… я же отдал вам свой, – старик чуть откинулся спиной назад, словно хотел рассмотреть собеседницу получше, – а теперь, когда хочу забрать мебель, вас нет дома? Я ждал во вторник, потом вы говорили: четверг…
– После дождичка, – засмеялся солдат, но старик не понял и повернулся к Ирине:
– Сударыня…
Выяснилось, что он был в этом доме швейцаром – в мирное, естественно, время. Когда дом национализировали, что‑ то из хозяйского имущества – в частности, вот этот столовый гарнитур и люстру– он перенес в квартиру дворника, где они с женой поселились. Теперь он переезжает к сыну на хутор, а вещи оставляет в городе у знакомых.
– А ваша жена? … – спросила Ира негромко и тут же пожалела, зная ответ.
– Схоронил в январе. – Старик медленно провел ладонью по гладким серым волосам.
– Так вы что же, дядюшка, и люстру заберете? – Тайка обиженно вытянула яркие губки.
– Тайка!.. – ахнула мать. – Как ты смеешь? …
Мама смотрела вверх, и Лелька тоже подняла глаза. Очень красивые золотые макаронины были завернуты бантами, а поверх бантов сидели матовые кувшинки, лучащиеся светом. Свет тускло отражался в кожаных спинках стульев.
– Прошу прощения, барышня, – продолжал старик без улыбки, – заберу. Приеду завтра утром и прошу вас, пожалуйста, быть дома.
Из разговора Лелька поняла очень мало. На кухне обнаружилась маленькая, но очень пузатая раковина, окно и плита, где стояла сковородка с двумя вилками и кружком засохшей колбасы. У плиты валялись папиросные окурки.
В дверях появилась бабушка Ира с красными щеками и взяла ее за руку: домой.
Попрыгать на диване не удалось.
Прежде чем представлять мамыньке отчет о дочкиной квартире, Ирина его тщательно отредактировала.
– Это на Садовниковской, напротив поликлиники. Ну, богадельни бывшей. Такой серый дом высокий; еще рядом пустырь. Первый этаж. Нет, потолки ничего; вроде высокие. Прихожая, потом комната; из комнаты дверь в кухню. Уборная есть, как же. В конце прихожей, – я не сказала? Да, в кухне кладовка холодная есть; хорошая кладовка. Плита, как у нас, только поменьше. Печка большая. Да ты сама увидишь. Ничего у ней там нету, – Ира перевела взгляд на вешалку, – только папашин диван. Окна? Да. Одно. Во двор, кажется, выходит; не рассмотрела. И в кухне одно. Да мы с Лелей на минутку зашли, торопились. Квартирка темноватая. А може, мне показалось: вечер был. Мама, мне в первую смену завтра; лягу я.
Накапала лекарство матери и легла.
– Зна‑ а‑ аю я этот дом, – раздумчиво протянула мамынь‑ ка, – да только разве он на Садовниковской? Он же на Малой Парковой.
– Нет, на Садовниковской. Только она больше не Садовниковская, теперь Ворошилова называется.
– А вот пустырь не припомню, – продолжала старуха, – не было там сроду никакого пустыря. Это уж, наверно, после войны… наворошили. На кой было улицу трогать, Садовниковская – и к месту, – рассердилась она, но Ира выключила лампу и с головой накрылась одеялом.
Нет, это никуда не годится. Одна явно темнит, другая чепуху городит про золотые макароны на люстре. Откуда, спрашивается, люстра взялась, если там ничего нету? Что с ребенка взять. А солдатик, видно, прижился; конечно, лучше, чем казарма…
Спрашивается, зачем так долго муссировать тему внучкиной квартиры, если повесть отнюдь не о ней – повесть о бабке, то есть о старухе? К чему вовлекать в повествование вовсе уж посторонних людей, вроде бывшего швейцара, фигуры совсем эпизодической, тем более что мамынька о его существовании и не подозревает, а сам он, простившись на углу с Ириной, один только раз мелькнул на перекрестке? Зачем было подробно цитировать Таечку, словно она одна в семье свободно говорит на местном языке? И для чего, наконец, так много было рассказывать о солдате – ведь он появляется, чтобы перевезти для внучки старый диван, а попадает к семейному чаепитию и только на практике, ибо именно она – критерий познания, разбирается, с чем были пирожки?
Как‑ то случайный этот солдат нарушает доселе стройную архитектонику повествования, и не случайно, должно быть, мамынька уже видела его во сне, еще не встретив наяву. Привела‑ то его внучка за диваном, это так, однако здесь доминирует не обстоятельство, а сам факт, что привела: никогда до этого случая Таечка не приводила в дом и не предъявляла своих кавалеров – и уж, конечно, не потому, что таковых не было. Определенно были, хоть никто не задавался вопросом, сколько: как уже сказано, никто их не видел. Транспортировщик дивана явился в качестве поклонника, что в Надином лексиконе обозначалось пружинным, как матрацная сетка, словом «хахаль», а мамынька предпочитала называть его «ухажер» либо «кавалер».
Хочется думать, что читатель заметил самое главное: старуха перестала говорить об осколке, вот что. Да было ли о чем тревожиться? Ведь вон как все славно ладится: Тайка того и гляди свою жизнь устроит, благо есть где; сколько ж можно по чужим людям трепаться, да и подруги замуж повыходили. А на дворе – лето красное, деревья пышные, зеленые, хоть и впрямь бери правнучку да вези к самому синему морю. Ах, Гриша, Гриша! Кабы ты не лег так рано в желтый песок, вот бы вместе поехали! Ребенок – шкода, живое серебро; как же я одна‑ то? Матрена думала, как славно они могли бы поехать втроем, и верила, что – да, так все и получилось бы.
…На Ильин день вечером сидели у Тони. Ирина тревожилась: дочка ушла на свидание, прихватив с собой Лельку. Тоня с Федей, наоборот, сочли это хорошим знаком; старуха молчала и разглаживала ладонью крахмальную салфетку, только брови подрагивали.
– Пойми, сестра, – авторитетно говорила Тоня, – не вечно же девочке безотцовщиной жить. Таечка – молодец, она дает ему понять…
Федя согласно кивнул:
– Он не мальчик: понимает, что у Таечки… гхм… своя жизнь была, что ж. На мой взгляд, у него совершенно серьезные намерения. Не сегодня‑ завтра он снимет солдатскую форму…
Старуха подняла глаза от салфетки:
– Снять‑ то он снимет. Дальше что? Коров пасти наймется?
– Ну почему коров; мало ли. Музыкальное образование на дороге не валяется. Пристроится как‑ нибудь. А то, – Феденька засмеялся, – будет к вам на пироги ходить, мамаша. Не выгоните? Или вы все сердитесь? Так он молодой еще, и манерам научится. Постепенно.
– То‑ то и есть, что молодой.
– Моя крестница тоже молодая, – засмеялась Тоня, – пара что надо!
– Совсем вы очумевши, – устало и негромко произнесла мать, и оттого, что не было в ее голосе обычной гневливости, всем стало не по себе. – Когда война началась, Тайке пятнадцатый год шел; а этому сколько было, когда он от матки потерялся? … Вот и считай.
Замолчали, но не потому, что последовали мамынькиному совету, нет: считали ведь и в тот вечер, когда гость отвечал на Тонины вопросы. Считали; но то ли счет не сходился, то ли итоги бесхитростной арифметики выглядели удручающе, только никто не хотел держать в памяти неудобные цифры. Этому обстоятельству способствовали и совершенно юное Тайкино лицо, и статуэточная миниатюрность фигурки. С другой стороны, уверенное поведение, помноженное на рост и усы, явно прибавляло солдату возраста.
– Это сейчас, – кивнула мамынька, словно услышав их смятение. – А через десять лет? Нашей курице под сорок будет, волоса начнут седеть, да сама расплывется…
– Мама, а ты бабу Лену вспомни, – подала голос старшая дочь, – Тайка‑ то в нее пошла.
Тоня плохо помнила ростовскую бабку, но с жаром начала говорить, что вот же и Коля был на год младше сестры, и ничего.
– На год, – согласилась мать. – Год туда, год сюда – большой разницы нету. А тут… Дай спокой.
Выпили чаю. Начали вспоминать похожие случаи, причем всякий раз оказывалось, что «живут душа в душу». Помолчали. Матренины брови никак не успокаивались. Стало темнеть; Ира с матерью заторопились домой. Все устали от споров и сомнений, а потому пришли, как всегда бывает, к самому эпическому выводу: Таечке видней – ей жить, а главное, чтоб человек был достойный; сироте нужен отец. И к месту.
О самом трудном говорили потом: Ира с матерью по пути домой, а супруги в столовой, пока Тоня убирала посуду. Главное было уже известно: Таечка обрела диван, кавалера и квартиру, куда поместила свой первый трофей и вот‑ вот внедрит второй.
– Тем более что он демобилизовался, – произнес Федор Федорович в такт мыслям жены, что никого из них давно не удивляло. – Таким образом, у него появился выбор: казарма или… Кстати, как он тебе?
Вопрос отнюдь не означал, что Феденька только сейчас проявил интерес. О солдате уже говорили, но как‑ то осторожно, вскользь. Теперь же, когда он обрел статус кавалера, беглые оценки никого не удовлетворяли. Шутка ли: у любимой племянницы, у крестницы решается судьба! Тоня невольно увидела Тайку в своем свадебном наряде и фате, а рядом этот… в форме и с фуражкой на голове. Она решительно замотала головой, но волосы были надежно схвачены сеточкой‑ паутинкой, и прическа не пострадала.
– Совершенно чужой человек. К тому же не нашего круга, – подвела она итог своему видению.
Муж снял очки и прикрыл глаза пальцами. Лицо у него сморщилось, как если бы перед ним на тарелке оказалось что‑ то несвежее.
– Бога ради, Тося. При чем тут «нашего круга», «не нашего круга»; что мы за дворяне такие?
– Но ведь тебе он тоже не понравился, – резонно заметила Тоня. – Ведь не понравился?
– Что значит «понравился – не понравился»? – рассердился уличенный Федор Федорович, убирая руку от лица и откидываясь на стуле.
– Так я ведь вижу, не слепая. – Чашки укоризненно звякнули.
– Не в том дело, – он успокоился и заговорил в своей обычной манере, негромко и убедительно, – не в том дело, что я, ты, мамаша или… доктор Ранцевич, к слову, не в восторге от этого… кто он там, ефрейтор?., от этого солдата, – Феденька взмахнул рукой и чуть не сбросил очки на пол. – Я не в восторге, ну и что? Ты говоришь: «чужой»; не знаю. Пожалуй, он… другой, что ли. Но ведь слово «другой» и «друг» одного корня! – Он даже палец поднял от воодушевления, словно речь шла не об однокоренных словах, а о двух зубах, растущих из одного корня, и он, Феденька, только что стал свидетелем этого уникального явления. – Ведь что мы с тобой знаем о нем? Только то, что он рассказал между пятым и шестым пирогами. Девочка, безусловно, знает его – и о нем, я положительно уверен в этом – гораздо больше! А самое главное…
– Самое главное, – решительно перебила Тоня эту пламенную речь, – самое главное, что никого она слушать не будет и сделает по‑ своему. Не облокачивайся на пианино, сколько раз тебе говорить!
– Обопрись на меня, – Ира подставила матери локоть. Вагоновожатый терпеливо ждал, пока старуха в черном тяжело спускалась и наконец ступила на булыжник мостовой; потом дернул звонок. Желтый освещенный вагон покатился дальше, и человеческие профили отражались в темных окнах, так что казалось, что людей вдвое больше, а над их головами весело болтались нестрашные кожаные петли, и два кондуктора, один чуть темней, двинулись неторопливой боцманской походкой вперед, забыв про старуху, черный силуэт которой почти слился с августовскими сумерками.
Ира с матерью медленно шли к дому, говоря о самом насущном: что надо прицениться на базаре – пора варенье варить, а сахар в маленькой бакалее не брать, он мокрый у них; возьмем в хлебном. На днях в обувном ботиночки для ребенка видела; померить надо, как раз сезон. Кран течет в кухне. То ли к домуправу идти, то ли Мотю звать, а пока я тряпкой подвязала. Если Мотю, то пускай и сарай посмотрит – крыша давно течет. Тогда надо толь покупать, а где? … Лельку пора в парикмахерскую сводить, вон какая кудлатая стала. Да, патлы надо подрезать, куда это годится. Я думаю белье замочить, пока сохнет хорошо, а потом уже варенье затевать. Что ж, если дождей не будет, сливу к Покрову сварим, даст Бог, а то и яблоки. Яблоки – не горит, сначала сливу и ягод каких; черной смороды бы побольше…
По лестнице старуха поднималась первая, держась за перила. Остановилась, поглядела зачем‑ то вниз, потом перевела взгляд на дочь и таким же голосом, как раньше про варенье и стирку, произнесла:
– Знал, что в доме ребенок! А пришел с пустыми руками, полгроша на гостинец не потратил, не говоря про игрушку какую. Разве Тайке такого надо? Да что с того… Она ведь что себе в голову вобьет, то и сделает.
На кухне Лелька что‑ то страстно рассказывала Наде и Людке. Надя вытирала посуду, вернее, машинально крутила в полотенце одну и ту же тарелку, недоверчиво поглядывая на девочку. Людка смотрела на Лельку во все глаза и завороженно слушала, покусывая конец полурасплетенной косы.
– … потому что он был голодный. И тогда волчица‑ мама дала ему сисю пососать, и она его лизала, а потом маленьких волченят.
– Кто?! – выдохнула Людка.
– Маугли. Так ребеночка звали. Он сам к волкам в норку пришел. А тигр гнался за ним, только второй волк, он у них папа был, не пустил его.
– Это не может быть, чтобы волчица ребенка кормила, – Надя помедлила и уверенно взяла следующую тарелку, – наверно, собака какая.
– Нет, тетя Надя, это настоящие волки были! И тигр настоящий!
– Или куклу положили. Разве ж младенца дадут волкам?!
– …медведь научил. Это как будто школа была у них в лесу, а ребеночек уже совсем большой стал. Как я, – уточнила Лелька. – Его научили нюхать и охотиться, а еще как от тигра прятаться.
– В лесу тигров нету, – неуверенно возразила Людка.
– Есть! Потому что джунгли. Там еще обезьяны живут. И змея, – девочка поежилась, – такая огромная и толстая, как… как труба. Только змея Маугли не съела, она обезьян глотала.
– А зимой? – вскинулась Надя. – Зимой‑ то ребенок в лесу замерзнет!
– Нет! – весело заверила Лелька. – Там зимы не бывает, там все люди, даже дяди, в летних платьях ходят и с голыми ногами.
– Где? – тарелка, давно соскучившаяся от бесцельной карусели, обреченно закрутилась снова.
– В Индии, – терпеливо объяснила Лелька. – В Индии только лето и… и джунгли, – было видно, что ей очень нравится новое слово.
– На кой ляд такое лето надо, если змеи кругом, – резонно заметила невестка.
– Там одна змея самая ядовитая была. Кобра. Она сторожила сокровища в погребе.
– Ну? И много насторожила? – Надин голос звучал иронически, но полотенце остановилось.
– …целый дворец, а под землей деньги валялись, копейки золотые. Во‑ о‑ от такими кучами! И еще… – Лельке вспомнилась жалобная песня, которую часто передавали по радио, и она заговорила уверенней: – Драгоценные камни всякие: алмазы, жемчужины… и чудный камень яхонт. Не счесть. Царя не было, а кобра все равно берегла.
– А кто во дворце жил? – спросила Людка.
– Никто, – отмахнулась рассказчица, – только обезьяны.
– И все деньги забрали? – Людка широко раскрыла глаза. – Или этот… ну, что с волками?
– Маугли? – уточнила Лелька. – Нет, он деньги не брал, он ножик нашел и на шею себе повесил.
– А кобра? – Кончик Людкиной косы был похож на рыжий ус.
– Маугли волшебное слово знал, он умел говорить по‑ змеиному.
– Может, он и с обезьянами говорить умел? – повернулась Надя.
– Умел! Он на всех звериных языках умел говорить, даже… – Лелька вдохновенно подержала паузу, – даже на муравейном, и даже…
– Пойдем ноги мыть, Маугли, – вмешалась Ира, – спать пора.
– На тараканьем, – обидно засмеялась Надя. – Вот ребенок! Мели, Агаша: изба‑ то наша. А ты чего уши развесила? – Она замахнулась на Людку посудным полотенцем. – Ложись иди! Сами можем в кино сходить, не нищие.
Несмотря на разницу в восемь лет, внучка и правнучка отлично ладили. Матрена не могла этого понять: Людка, по ее представлениям, была почти невеста, но охотно играла с Лелькой. Она ж ей тетка, недоумевала старуха. А послушать, так и разница небольшая, но вслух этого не говорила, чтобы лишний раз не задеть невестку. Слушать, впрочем, случалось в основном правнучку, когда она пересказывала Людке очередную книжную историю. Та слушала всегда с одинаковым вниманием, чуть сдвинув тонкие рыжеватые брови – совсем как у Андрюши, Царствие ему Небесное, и покусывая кончик толстой золотистой косы.
Своеобразная эта дружба строилась на самом надежном фундаменте – зависти, а посему была весьма прочной. Людка самозабвенно купала в маленькой ванночке пупсика и увлеченно наряжала Лелькиных кукол, у которых имелся свой! Кукольный! Диван! И рояль! Не говоря уже о посуде. Ладно, посуда; но Ира сшила для этой посуды особое полотенце из полоски льняной простыни, так что можно было по‑ настоящему вытирать крохотные тарелочки, прислушиваясь, не идет ли мамка: если прозевать, так схлопочешь. А какие весы у Лельки были! – с такими же точно гирьками, как в лавке или на базаре!
Они долго спорили, кто будет продавщицей. Кроме того, что продавать было престижней, чем покупать, взвешивала‑ то именно продавщица. Чаще всего товаром были семечки или хлеб. Людка заготавливала бумажные кулечки из тетрадных листков – «фунтики», а потом со строгим лицом насыпала в них семечки, совсем как настоящая продавщица! Выполнив весь ритуал купли‑ продажи, включая плату «как будто» деньгами и получение «как будто» сдачи, девочки выходили из товарно‑ денежных отношений и сидели под огромным столом, поедая из фунтиков «товар». Семечки всегда доставались Людке, которая была уверена, что это ей за старшинство; младшая с удовольствием съедала хлеб, потому что семечки не любила.
Сейчас Людка деловито рассматривала жестяную плиту примерно такого же размера, как ванночка для пупсика. Плита была совсем как настоящая, только круги не снимались, а были нарисованы, зато дверца открывалась и закрывалась.
– А там даже можно огонь зажечь, – девочка несколько раз открыла и закрыла маленькую дверцу, – только дрова надо кукольные. Мамка твоя купила?
– Мама, – кивнула Лелька.
– А потом в кино ходили?
– Нет, это она раньше купила, когда вы в деревню ездили. А про Маугли только что было.
– Покажи опять, как он со змеей говорил!
Что Лелька с готовностью исполнила, и Людка даже не терзала косичку, но маленькую плиту из рук не выпускала. Ее «кукольное» детство совпало с войной, и уж, конечно, Наде некогда было думать об игрушках: главное, чтоб дети были сыты.
Лелька же мучительно завидовала своей не доигравшей в детстве тетке, и вот почему. Во‑ первых, Людка уже целых шесть лет ходила в школу. Правда, школу она не любила, хоть вообразить такое было просто невозможно. Не любила она и книжки, даже Лелькины любимые, однако часто просила что‑ нибудь рассказать. Она уже была большая, и когда тети Нади не было дома, надевала ее туфли на высоких каблуках и даже красила губы. Очень красиво получалось. Только Генька увидел и все рассказал тете Наде, так что она Людку поколотила. «Я тебе потачки не дам, – кричала тетя Надя, – тоже захотела в подоле принести?! Я тебе покажу! » Лелька долго ждала, потому что как раз принесла остатки семечек в подоле платья – делать такие фунтики, как Людка, она не умела. Потом Людка долго сморкалась под краном, и Лелька позвала: «Людка! Я тебе…», но договорить не успела: та повернула красное лицо и закричала: «Я тебе не Людка! Людка на базаре семечками торгует!.. »
А еще Людке можно было гулять во дворе. Лельку туда пускали очень редко: бабушка Матрена не любила уличных мальчишек. Уличные мальчишки бегали за Лелькой и кричали: «Цыганка! А вот цыганка пришла! «Заступались за нее только Людка (Генька тоже оказался уличным) и еще одна девочка, которая говорила по‑ русски неправильно и протяжно. Да что двор! Людка могла переходить через дорогу, хоть каждый день. Сама, совсем одна.
Зато я видела кино про Маугли.
Если тезис о ружье, повешенном в первом действии, верен, то сцена давно должна была превратиться в оружейную палату – вернее, в ружейную, – в то время как автор старается не забыть, какое из ружей еще не выстрелило, причем где‑ то на периферии сознания бьется мысль о незаряженном ружье, том самом, которое раз в сто лет… И здесь он малодушно оставляет читателя считать гильзы.
Вот неделя, другая проходит, принося то радостные, то печальные события. Отпраздновали именины правнучки; скромно отпраздновали, вот только к пирогу, который испекла старуха, это слово не подходило: важный получился пирог. Подошла годовщина Максимыча. Господи, Исусе Христе, сыне Божий, год уже прошел! Отстояли панихиду.
В моленной было пустовато – только свои; что ж, дело семейное.
Незадолго до упомянутых событий у Лельки случилось горе: в школу ее не взяли. Мама специально отпросилась с работы, и они пошли «записываться», только вот взять с собой портфель мама не позволила: «Ни к чему это! » Коридор в школе был темноватый, а лестницы широкие, как в моленной. По коридору ходили учительницы в черных платьях. Мама со всеми здоровалась и много смеялась, потому что она сама когда‑ то ходила в эту школу. Учительницы всплескивали руками, точь‑ в‑ точь, как тетя Тоня, когда у нее на кухне что‑ то «бежит», и удивлялись: «Тая?! Подумать только, совсем взрослая дама!.. У тебя, верно, и фамилия теперь другая? …», на что мама беззаботно замотала головой и засмеялась еще громче, а на Лельку никто внимания не обращал, и она пожалела, что пришла без портфеля. Одна учительница, седая, но кудрявая, вдруг обратилась к ней:
– Дочка – копия мамы, не спутаешь! Как тебя зовут? Лелька сделала книксен:
– Оля. Мне семь лет. Почти что. Я в первый класс пришла записаться.
Учительница улыбнулась, но записывать в первый класс не торопилась, а начала вспоминать бабушку Иру, дядю Мишу, дядю Леву, тетю Нину… так что Лелька извелась от нетерпения. Потом учительница опять повернулась к ней и спросила:
– А в детский сад ты ходишь? На что девочка твердо ответила:
– Боже сохрани!..
Из широких коридорных окон были видны огромные липы. Лелька ждала, что сейчас ей покажут первый класс, а она придет домой, и бабушка Ира сошьет ей синюю форму. Мама взяла ее за руку: «Прощайся». Вот тут бы и сказать про портфель и про пенал, но учительницы заулыбались, а седая сказала: «Приходите через год! »
По пути домой выяснилось, что мама не знала, «куда глаза девать» и «ты меня опозорила». Лелька повторяла: «Почему?! », но мама говорила про «Боже сохрани» и про «эти старорежимные приседания».
– Почему меня в школу не взяли?! – повторила, вернее, прорыдала свой вопрос девочка, потому что это было уже на лестнице.
Бабушка Ира долго успокаивала и уговаривала, что надо еще немного подрасти, один только годик подождать, но Лелька долго плакала и затихла не скоро.
Нет, идти надо было с портфелем.
В следующее воскресенье Тайка с солдатом собрались в кино и опять взяли ее с собой. «Багдадский вор» поразил воображение девочки, но «Маугли» не вытеснил, зато ее сценическое амплуа обогатилось.
Може, Федя прав? Старуха вздернула бровь, обращаясь непосредственно к буфету. Раньше, бывало, хорошо если раз в пару месяцев куда сводит ребенка, да и то с подругами. Время покажет.
* * *
Через неделю Покров, а теплынь стояла невероятная. Рано утром, прямо из моленной, Матрена отправилась на базар. И не зря: такую чудную сливу купила, хоть сейчас вари! Ира захлопотала над банками, мамынька озабоченно прикидывала, хватит ли сахарного песку, и Таечка появилась совсем кстати: на кой ребенку в такую погоду дома сидеть да под ногами путаться. Старуха пересчитывала банки и не сразу заметила внучкиного кавалера, который стоял у порога, держа фуражку в руках. Заметив, величественно кивнула и повернулась к Таечке:
– Тоню в моленной видала, тебе привет. Они с Федор Федорычем спрашивали, когда можно зайти тебя поздравить?
Внучка взяла сливу и осторожно надкусила сочную мякоть:
– М‑ м‑ м… вкусно! – И продолжала, жуя: – Я сама собиралась пригласить, пока было на чем сидеть. А дядька всю мебель забрал. – Осторожно выплюнула косточку в ладонь и потянулась за новой сливой: – Жмот. Сквалыга.
Немая сцена грозила затянуться, если бы Ирина не внесла ясность.
– Так что тебе до чужого добра? – прищурилась Матрена. – Свое наживешь!
– Можно подумать, он эту мебель наживал! Он хозяйское добро стерег, вот и все. Швейцар; хуже лакея. Жмот, просто жмот.
– Это чем же хуже? – мамынька говорила очень спокойно, но банку отставила, да и брови начали подрагивать. – Это чем же хуже? Человек, дай Бог ему здоровья, сохранил хозяйскую мебель, как свою, тебе квартиру отдал, а ты еще и недовольна?
– Мне до лампочки! – звонко отчеканила внучка. – Квартиру не он мне «отдал», квартиру мне исполком выделил! А дядька просто жила! Лакей буржуйский!
– Холуев нет с семнадцатого года, – послышалось от порога.
Старухины брови сомкнулись.
– Ты, Тайка, умная была бы девка, кабы не была дура. Не знаю, какой «полкан» тебе что выделил, а живешь ты в квартире этого человека. – В сторону кавалера она не смотрела. – Ступай; может, дурь выветрится.
…Левой рукой мама держала за руку Лельку, а правой – солдата, но под руку. Иначе идти было нельзя – правой рукой он отдавал честь. Лелька тоже пробовала отдавать честь, но мама дернула за руку: «Прекрати сейчас же! » Солдата она называла Вовкой, только выговаривала как‑ то странно, будто баловалась или у нее рот болел: «Вафка», но солдат и не думал обижаться. Сама Лелька не знала, как его называть, да это и не было нужно, а про себя звала «он» или «солдат».
…Все привыкли, что в любой сказке первые две попытки того или иного подвига – это только разгон, легкая тренировка воображения, где результат заранее известен; только дети готовы слушать раскрыв рот, тогда как взрослые скептически пролистывают разбег сюжета, нетерпеливо дожидаясь подвига номер три, то есть кульминации.
Никакой кульминации, однако же, не предвиделось: в кинотеатре выяснилось, что фильм сегодня взрослый и Лельку не пустят. Мама пошепталась с солдатом, а потом сказала:
– Мы сходим в кино, а ты у меня побудешь, договорились?
Лелька соскучилась без дивана, и они, конечно же, договорились.
– Мы скоро вернемся, ты не скучай.
В предвкушении прогулки она захватила мяч в сетке, куда сунула зачем‑ то игрушечную плиту и китайские народные сказки «Братья Лю». На обложке были нарисованы домики с кудрявыми крышами и огромная рыба в пенистой, тоже кудрявой волне. Сейчас девочка разложила все это добро на диване.
– Окно пусть открыто будет, – решила Таечка, – тепло. Не вздумай спички трогать, – торопливо закончила она, и в замке повернулся ключ.
В прихожей было темно и, честно говоря, страшно. Зайдя на кухню, Лелька обнаружила знакомую пузатую раковину, а рядом стояла картонная коробочка с зубным порошком. У порошка был очень приятный запах, как у белья, которое бабушка приносит со двора.
В комнате ее ждал диван. Она теперь легко допрыгивала до зеркала. Стола, стульев и люстры больше не было, так что мячик легко отскакивал от стен и печки. Зато прибавилась этажерка, похожая на китайский домик, только без кучерявой крыши. Маленькое зеркальце с отбитым уголком было прислонено к книжке «Педагогическая поэма». Осторожно убрав зеркальце, девочка перелистала книжку и разочарованно закрыла. Нет, поэма – это «Руслан и Людмила». Рядом с книгой валялись бигуди, черно‑ синие заколки и стояла полуоткрытая коробочка с пудрой. На сутулую настольную лампочку вместо абажура был нахлобучен кулек из газетной бумаги. Тут же, придавленная ножкой будильника, лежала сама газета, а край был оборван полукругом, и на нем четко виднелся отпечаток помады, как поцелуй. У печки стояла старая табуретка, где лежало мамино красное платье в белый горох и скомканное полотенце, а из‑ под полотенца свешивался тонкий капроновый чулок, касаясь носком пола, точно встал на цыпочки. Все это пахло мамой и было очень любимое, даже полотенце.
Подоконник доходил ей до подбородка, но если встать на мяч, то становился виден маленький двор с высокой, как крепость, помойкой под большим каштаном. Двор был пуст. Окно смотрело на высокую кирпичную стену, которая замыкала двор с трех сторон. Лелька обнаружила, что двор не простой, а двухэтажный: за стеной и где‑ то над нею располагался второй ярус. Кирпичная стена чуть размыкалась, словно кто‑ то неровно вырезал ломтик кекса, и вверх вела узкая каменная лестница, по которой спускалась женщина с цинковым тазом и тощим ожерельем из бельевых прищепок на шее. Она без интереса посмотрела на лохматую девочку в окне и прошла дальше, держа таз у бедра, как в бане.
Лелька устроилась на диване и открыла книжку. За окном мужской голос лениво позвал: «Кла‑ а‑ ва! А Клава‑ а‑ а! » Клава не отозвалась, и крик повторился снова, так же лениво и протяжно, будто неохотно. Через некоторое время девочка с сожалением оторвалась и опять подошла к окну, привлеченная равномерными скребущими звуками.
Привычно балансируя на мяче, она выглянула и увидела дядьку в кепке и ватнике, который сгребал граблями сухие листья. «Клава! А Клава‑ а‑ а! » – закричали опять. Часть двора была заасфальтирована, и грабли царапали жесткую поверхность. Прямо напротив окна высилась горка листьев и мелкого мусора. Заметив Лельку, дядька приостановил работу и постоял, опираясь на грабли, а потом спросил:
– Ты чия? Ты ихняя?
Девочка замотала головой. Дядька сморкнулся прямо на мусор, закурил папироску и посмотрел куда‑ то вверх. Мяч коварно покатился в сторону, и Лелька стукнулась о подоконник.
«Кла‑ а‑ ва! А Клава‑ а‑ а! »
Не обращая внимания на крик о Клаве, дядька бросил окурок туда же, в кучу мусора и пыльных листьев, и ушел по лестнице на верхний двор.
«Братья Лю» были прочитаны. Хотелось кушать. Она примостилась в диванной ложбинке и задумалась, кто такая Клава. Должно быть, та, с прищепками. Дверь в прихожую была наполовину застекленной, и в углу стекла сидел такой же длинноногий «паук», как у них в кухне на буфете.
«Клава! А Клава‑ а‑ а! »
А может, Клава уехала далеко‑ далеко, а этот не знает. Кино, наверно, скоро кончится. Стало немножко зябко, и она залезла под плед. Странно: плед пахнул как‑ то иначе, не как раньше. Грабли больше не скребли, и тот же тягучий голос звал Кла‑ а‑ а‑ аву, но это она слышала то ли во сне, то ли сквозь сон, а потом вместо Клавы стали звать: «Ляля! Ляля! Проснись, Ляля! », и кто‑ то другой сказал громко: «Я так и знал».
Девочка проснулась, потому что Тайка трясла ее обеими руками:
– Зачем ты спички зажигала, я тебе запретила! Я кому говорила, не трогай спички!
В комнате горел свет. Было дымно, словно кто‑ то курил, и Лелька закашлялась.
– Тебя, кажется, спрашивают, – громко и строго сказал солдат, – ты зачем спички брала?
Лелька была сонная, ее знобило и першило в горле.
– Я не брала. Я не знаю даже, где тут спички лежат.
– А дым откуда? – нахмурилась Таечка. – Может, тебе холодно стало, и ты хотела печку затопить? Лучше правду скажи, Ляленька.
Лелька засунула в сетку мяч и «Братьев Лю».
– Я домой хочу.
Тайка нагнулась и подняла с полу жестяную кукольную плиту:
– Во‑ о‑ от где она спички зажигала. Теперь понятно, откуда дым!
– Никакие – спички – я – не – зажигала!
– И еще врет, – возмутился солдат. – Ты смотри, как выкручивается!
Таечка беспомощно повернулась к нему:
– Матушкино воспитание. Кошмар один. Вот так я и мучаюсь. Ее перевоспитывать надо, – она развела в бессилии красивые смуглые руки, – но мне не справиться.
– Я не трогала спички, – повторила Лелька, – я… я побожиться могу! И не зажигала ничего.
– А дым откуда, от Святого Духа? – засмеялся солдат.
– Совсем святошу из ребенка сделали, – Тайка задумчиво вытянула губы.
– Я ничего не знаю про дым, я спала! – крикнула Лелька. – Я домой хочу!
– Ума не приложу, – печально сокрушалась Таечка, – как это вранье из нее выбить.
Нет, не перевелись еще рыцари!.. Девочка увидела, как солдат, помедлив, взялся за начищенную до блеска пряжку ремня, и ремень вдруг раскрылся, словно распался на две половинки, и оказался у него в одной руке, а другой он сгреб Лельку.
– Будешь врать? Говори, будешь врать? …
Почти оглохнув от ужаса и боли, она завизжала яростно: «Дурак! », что и решило дело. Солдат рассвирепел и держал крепко.
– МАМА!..
Но Таечка качала головой со скорбной безысходностью, и было видно, что ей очень, очень тяжело.
…Вопреки обыкновению, заходить Тайка не стала. Осторожно нажала ручку двери, а сама побежала по лестнице вниз. Лелька кинулась в комнату. Ира читала, высоко подняв в руке книгу. Старуха, в долгой белой рубашке, сидела на кровати и заплетала на ночь такую же белую косичку.
– Явилась пропажа! А я тебе пенок с варенья…
Девочка уткнулась в мягкий теплый живот, пряча в белых складках распухшее лицо, и затряслась от новых слез и икоты.
Старуха никогда не задавалась вопросом, стоит ли мировая гармония слезинки замученного ребенка, да и вообще едва ли знала о писателе Достоевском; отбросила за спину недоплетенную косу. Ирина кинулась было за дочерью… но вернулась: тут ребенок заходится. В продолжение своего рассказа девочка дрожала и длинно, судорожно всхлипывала. Матрена сбрызгивала ее святой водой с уголька и подносила чашку ко рту, не спуская с рук ни на минуту, в то время как Ира хлопотала над ванночкой. «Все снимай; насквозь дымом провонявши. И голову давай, вот так. Потерпи, золотко; закрой глаза. А я тебе пенок с варенья зна‑ а‑ атных оставила!.. »
Перебираясь из уже тесноватой ванночки в толстую простыню, вдыхая самый лучший в мире запах – запах бабушкиного шкафа, переходя из одних ласковых рук в другие и все еще дрожа, Лелька стала часто зевать и уснула прямо у Иры на коленях. Та осторожно уложила внучку в постель и перекрестила. Перевела взгляд на мать и впервые, пожалуй, увидела на этом лице растерянность.
Капли пили обе, да что толку. Сидели на старухиной кровати, Ира все еще с пипеткой в руке. Матрена гневным шепотом перечисляла способы расправы: «В казарму пойду! У солдат начальство не любит шутки шутить: как узнают, вон погонят! В шею! » Или: «Пусть только придет, я ему все скажу. Что, скажу, это тебя в детском доме так воспитывали, чтоб – ребенка ремнем?! » И тут же, противореча себе: «Не‑ е‑ ет, теперь ноги его здесь не будет. Не посмеет в дом прийти. Да я и не пущу его! »
Ира, по обыкновению, ничего не говорила. Бросила в рот две бежевые таблетки цитрамона, отпив из Лелькиной чашки с нарисованным синим мячом. «Мама, мама! » – и зарыдала беззвучно и отчаянно. Старуха не мешала и не успокаивала. Пусть. Дочка непутевая, прости меня, Пресвятая Владычица, да хахаля какого завела – на сироту руку поднял. Ведь ребенка пальцем никто не трогал! Ах, Гриша, Гриша, подумала укоризненно, как рано ты ушел! Сейчас бы…
Что «сейчас», она никому объяснить бы не сумела. Откинулась на высокие подушки, медленно перебирая пальцами тонкие белые пряди, и ей хотелось, чтобы коса никогда не кончалась. Что‑ что, но смятение Матрене было свойственно так редко, что эти моменты можно пересчитать по пальцам. Да и то всегда, всегда находила она решение. А сейчас… Главное, Тайка – что кошка нашкодившая: в дом не зашла. От‑ т паскуда! Эти‑ то сервиз приготовили, горько усмехнулась она, вспомнив Тонины хлопоты, да к сервизу конвертик «на обзаведение». Все Федя чудит: «новоселье», «устроить жизнь», «ребенку отец нужен»… Спаси Христос от такого «отца»! Тоже, потатчики.
Это и было решением – Федя. Конечно, он; кому ж еще за сироту заступиться.
Оттого ли, что не было надежды на седовласого доктора с потертым саквояжем, а скорее, оттого, что ласковые руки сделали свое дело, обошлось без нервной горячки. Правда, от каждого звонка в дверь Лелька убегала и пряталась под кресло, однако звонили, слава Богу, редко. Тайка на глаза не показывалась; старуха торжествовала и в то же время ярилась: «Ей до ребенка дела нету!.. »
Разговор с Тоней и Федей вышел каким‑ то сумбурным, хотя никто не мешал. Девочку отправили гулять во двор. Тата с подружкой ушли в ботанический сад. Юраша объявил, что должен встретиться с товарищем в библиотеке, и Тоня едва успела удивиться, к чему это он напялил выходной костюм в библиотеку, для товарища? … И костюм, и ботанический сад, и страстное желание Феденьки возлечь на кушетке с новым «Вестником дантиста» были забыты после первых же слов старухиного повествования.
Сидели в кабинете, откуда был виден двор. Ира то и дело подходила к тяжелой портьере и смотрела в окно. Феденька курил, глядя то на стол, где под стеклом лежала их свадебная фотография, то на кушетку напротив со свежим журналом, но не видел ни того, ни другого и даже пепельницу, к неудовольствию жены, заметил не сразу. Было от чего впасть в растерянность.
– Пятерых вырастили, слава Богу, всех на ноги поставили и без ремня управились, – гордо и горько закончила Матрена. – Ты, може, думаешь, Коля своих ребят колотил?
Нет, такое Феденьке и в голову бы не пришло.
– Подожди, мама, – вмешалась Тоня, и старуха с готовностью повернулась к ней, – подожди. Ребенок есть ребенок, и все дети балуются. Дома она паинька, а там начала шалить.
– С кем, с пустыми стенками?! На кой было ребенка в чужом доме на ключ запирать, в такую погоду?! Матка, называется… Сама в кино, а потом…
Все были растеряны и раздражены. Ирина с матерью – оттого, что надо было рассказывать о прошлом воскресенье и, значит, снова проживать страшный вечер. Супруги были раздосадованы, потому что рушилась стройная модель зарождающейся молодой семьи. Модель обоим очень нравилась, ибо являлась плодом их собственных вдохновенных умственных усилий. Тоня мечтала, как она научит крестницу вести дом, экономно покупать продукты, грамотно и питательно готовить – не зря ведь была подарена ей «Книга о вкусной и здоровой пище», с дальним прицелом подарок! Феденька приучал себя к мысли, что суженого на коне не объедешь, хотя сам испытывал все ощущения гарцующей лошади, ловко берущей это препятствие. Впрочем, он не признавался в этом даже себе. Вместо этого старался припомнить, кто из музыкального мира – консерватория? симфонический оркестр? – обращался в их клинику: в ушах звучали беспощадные формулы тещи «пасти коров» и «в дудку дудеть». И вот теперь эта уютная модель рушилась, как карточный домик, хотя карточный домик Федя видел только единожды и был поражен легковесностью конструкции и прочностью метафоры.
– Но что если она и в самом деле шалила со спичками? Ребенок…
– Нет, сестра, – Ира устало покачала головой, – нет.
И рассказала про керогаз. Как перед самым Благовещеньем принесла его из магазина и залила в гулкое жестяное нутро мутную вонючую жидкость. Через пять минут и заботливо постеленная клеенка, и руки, и сам керогаз – все было в керосине. Как намучилась с фитилями, пока вставила ровно, по инструкции. Спичечный коробок послушно скучал на клеенке, и картинка с неутомимым жокеем потемнела, так что казалось, будто он скакал на своей лошади уже в потемках. Чиркнула спичкой, и коробок враз занялся пламенем. Она сама не помнила, как он оказался на полу – бросила или уронила; затоптала сразу, и пол долго после этого вонял керосином. Лелька тогда перепугалась; кричит: «Пожар, бабушка! Пожар! » Насилу успокоили.
– Ты без глаз могла остаться, да мало ли… – поежилась Тоня. – Зачем ты связывалась с этим… как его?
Ирина снова выглянула в окно, потом повернулась к сестре:
– Утром с керогазом быстрее, чем плиту растапливать. – И закончила: – Она к спичкам близко не подходит, не то что в руки взять.
Феденька откинулся в кресле. Слушал, молчал, поддерживая обеими руками подтяжки, точно у него за спиной была не удобная кожаная спинка кресла, а тяжелый рюкзак.
– Что ж, девочка не знала? Таечка, – добавил торопливо. Старуха усмехнулась:
– Ты уж привыкши: «девочка», «деточка». Девочка вон на дворе бегает, а Тайке двадцать восьмой год, скоро тридцать. Она ж баба!..
За насмешливым раздражением мамыньки крылась все та же растерянность. Не желая обнаружить ее перед дочерьми и зятем, и так уже изрядно сбитым с толку, она решительно отказалась от чаю и поднялась: пора.
– Да, а что это за Клава? – спохватился в прихожей Феденька.
В отличие от тещи, Федор Федорович Достоевского читал, но не о Достоевском сейчас думал, хоть протяни руку – и вот он, в ровной шеренге томов, дореволюционный еще, издание Маркса, знать не знающего ни о каком Энгельсе, а иллюстрации прикрыты, словно невеста фатой, нежно льнущей папиросной бумагой. Не думал он и о вожделенном «Вестнике дантиста», который ждал его на кушетке. Молча сидел в кресле, заложив большие пальцы за подтяжки, словно пытаясь облегчить ношу, лежащую на плечах. Ноша, что и говорить, была тяжелой: стыд, легкомыслие, беспомощность.
Да и что, собственно, мог сделать он, поставленный перед этим извечным русским вопросом? Федор Федорович поднялся, щелчком отпустив подтяжки. Обошел стол, пересек кабинет несколько раз. Ничего. Ни‑ че‑ го. В голове вертелась фраза: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Как раз сезон – за окном осень. Портьера была отдернута, и со второго этажа, как из ложи, двор был виден совсем близко. Солнце садилось прямо в черный клен. Девочка лет десяти, в берете и расстегнутом пальтишке, шевелила губами, ловя ладонью цветной бумажный мячик на резинке: считала. Она не очень походила на Тайку, но Федор Федорович вдруг подумал, что именно такой запомнил племянницу: нарядной, красивой девочкой, ловко играющей в бильбоке. Из подъезда выкатилось колесо, спицы ярко блеснули, передразнив солнце, за колесом выбежал мальчуган и повел его палочкой по дорожке, огибая песочницу, к черному угасающему клену. Федя отвернулся к шкафу и болезненно зажмурился на ярко вспыхнувший экран, по которому катилось огненное колесо.
– А что ты здесь можешь сделать? – Тоня открыла дверь, выдержав, надо отдать ей должное, нелегкую паузу. – И почему опять ты? …
– А кто? – муж не успел скрыть растерянность в голосе, что и явилось главной тактической ошибкой.
Наступление осуществлялось свежими силами, в уверенном маршевом темпе, шутя смявшем растерянные ряды обороны. Несмотря на то, что жена говорила высоким и звонким голосом, Федор Федорович научился отвлекаться от поучительных победных монологов и пропускать целые периоды без ущерба для понимания смысла. Более того, уверенный голос Тони нередко даже помогал ему упорядочить собственные мысли. Например, сейчас он как раз искал самый эффективный способ воздействия на племянницу и… этого.
«Ну, с этим разговор будет короткий, – Федор Федорович решительно вцепился в подтяжки. – Вы, молодой человек, – черта лысого я его по имени называть буду, не дождется! – вы, скажу, молодой человек, отдаете себе отчет в своих действиях? Это, скажу, подсудное дело». Подтяжки воинственно хлопнули. Да, именно так и сказать: мол, ваши ефрейторские методы… м‑ м‑ м… нет, никуда не годится. «Солдатские» – тоже плохо; такие, как он, отвечают сразу: «Не всем же быть докторами», и объясняй потом, что совсем не то имел в виду, все равно окажешься без вины виноватым. Получалось, что… ничего не получалось. Назвать вещи своими именами невозможно, не обидев солдата, хотя именно он и был обидчиком!
– …Да ты не слушаешь меня! – громко и совершенно по‑ оперному пропела жена.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – неожиданно сказал он вслух, и Тоня застыла у буфета с поднятыми руками. – Тося, – закончил, вставая, – я выпью чаю в кабинете. Кстати, а когда отопление включат? Пора бы.
А потом наступила другая неделя, но решение так и не было найдено. Жизнь продолжалась. Старуха готовилась к посту. Крыша сарая больше не протекала. Людка получила очередной нагоняй за двойки, а по радио женский голос так трогательно пел:
Ландыши, ландыши,
Светлого мая приве‑ ет, –
хотя в окна хлестал ледяным дождем ноябрь. Шваркнув около печки охапку дров, Надя тут же начала подпевать:
…в них весны очарова‑ а‑ ние.
Словно песенка без слов,
Словно первая любовь,
Словно первое призна‑ а‑ ание.
Как многие безголосые люди, в глубине души она была уверена, что поет вовсе не хуже артистки, а если голос вдруг совсем выходил из повиновения, так это тоже было извинительно: песня очень чувствительная. Из печки тянуло холодом. Она чиркала спичкой, и холодная струя тут же задувала пламя.
Я не верю, что года
Гасят чувства иногда…
Возмущенный невесткин голос обгонял певицу; огонь загорался и начинал пощелкивать. Печка нагревалась, да и у Тони в квартире, наконец, включили отопление.
Резкий ветер торопливо сдирал остатки листьев и гнал их, взвихривая, по улицам. Босоножки заворачивали в газету и укладывали на шкаф до появления новых ландышей – переходили на «зимнюю форму одежды».
Время – лучший врач, и кому, как не Федору Федоровичу, пусть он и оставался только зубным техником, было не знать этой истины? Старуха сменила черное шелковое манто на черное же суконное пальто, которому «сносу не было». Ирина подогнала для внучки детское еще пальтишко Юраши, синего «мальчикового» цвета, к которому очень шел связанный прабабкой голубой капор с мохнатыми помпонами. «Красавица хоть куда! » – радовалась Ира. «Хоть на свадьбу», – снисходительно засмеялась мать и тут же смолкла. На базар все чаще стали ходить втроем, и у Лельки появилась даже своя корзиночка. Варенья наварили – дай Бог каждому, но мамынька лелеяла надежду добавить в уже имеющиеся запасы свое любимое: клюкву с яблоками.
Пожалуй, если бы не светлого мая привет в ноябре, то в целом мировая гармония осталась ненарушенной.
* * *
Перед приходом гостей большой квадратный стол, как всегда, передвинули на середину кухни, от чего она сразу сделалась меньше. С утра топилась плита. Пахло дровами, принесенными со двора, дымом от плиты, только что вымытым полом, но все перекрывали ароматы, плывущие от сковородок, где готовились начинки. Тесто с ленивым любопытством подглядывало за кухонной суетой из‑ под льняного полотенца и, чтобы лучше было видно, высовывалось все больше.
В этом году старуха тоже не собиралась праздновать именины, но Тоня так долго и настойчиво ее уговаривала, что та согласилась, хоть и неохотно. «Делать ничего не буду: руки не тянутся. Пирогов разве спеку, и к месту», – решила мамынька. Она не кривила душой: настроение было совсем не праздничное, но руки привычно резали, жарили, месили, словно им не было никакого дела, что на сердце так коломытно.
Обе девочки, большая и маленькая, сидели в Надиной комнате у печки. Лелька завистливо поглядывала на толстые рыжеватые Людкины косички, перевитые на затылке в корзиночку. Из кухни доносились озабоченные голоса.
– Школьное платье наденешь? – спросила тихо.
– Ну прям, – Людка дернула плечом, – мне мамка свою кофточку даст. Шелковую. А ты что? …
Лельку ожидало платье такой редкой красоты, какую только на бездонных антресолях крестной и можно было отыскать, даже переделывать не пришлось: ярко‑ алое вышитое великолепие с пуговками на плечах. Платье обладало редким удобством: если надеть его задом наперед, никто не заметит. Ленты, подаренные когда‑ то Максимычем «про запас», оказались такого же цвета. Не хватало только кос. Людка великодушно завязала ей на макушке крупный, как георгин, бант, и обе остались очень довольны.
…Пришли, как водится, только свои. Брат Мефодий с женой, которыхвиделивпоследнийразнапанихиде, появились с букетом нарядных хризантем в руках. Вторые хризантемы принес Федя, такие же пышные, но не белые, а розоватые. Гости прибывали, поздравляли именинницу и вручали хризантемы, хризантемы, хризантемы. Не хватило ваз; ставили в трехлитровые банки, и вскоре широкий подоконник вспенился царственными пышными цветами.
Ирина нарезала хлеб; из‑ за окна достали продрогшее масло и переложили в нарядную масленку, помнившую не только лучшие дни, но и павших родственников по сервизу. Тоня ловко расставляла принесенные шпроты, икру, буженину. Все эти деликатесы если и считались таковыми в описываемое время, то не потому, что их трудно было достать, нет: доставать не нужно было ничего, все можно было купить в магазинах, если… было на что.
В просторной кухне все быстро согрелись и даже не от графинчика, а от теплых мамынькиных пирогов, от привычного, родного уюта, одних и тех же шуток и вопросов, которыми обменивались гости. Очень скоро первый голод был утолен и за столом установилось ровное и бестолковое веселье, какое бывает только между своими. Матрена зорко следила, чтобы водка и Симочка встречались как можно реже. Лелька увела младших в комнату к своим игрушкам; старшие остались за столом, смеясь, переговариваясь и жуя. Первым вышел из‑ за стола Юраша:
– Меня ждет товарищ, мы условились. Бабка подняла бровь, затем и голос:
– Куда? Темень за окном, что ж на ночь глядя? …
Он нагнулся – тоненький, стройный, молодой Феденька – и чмокнул ее в теплую щеку. Дверь открылась и закрылась, и все на несколько секунд замолчали, обмениваясь легкими снисходительными улыбками. Так, улыбаясь, Мотя повернулся к Геньке:
– Ну а ты куда учиться пойдешь после школы? Мальчик выслушал и снисходительно пожал плечами:
– Куда еще! Весной вон кончу семилетку и в шофера пойду.
Мотя сконфузился: племянник сильно возмужал и выглядел старше своих лет. Он совсем не был похож на сестру: румяный, круглолицый и черноволосый, Генька пошел в мать, и даже глаза, темные и быстрые, были, как у Нади. Ловко выудил из банки шпротину, положил на ломтик хлеба, и Моте показалось, что глаза у мальчика тоже блестят, как шпроты.
– Пралльна, – громко одобрил Симочка, – пралльна. Кому учитссс, а кому деньгу зашибать. Пралльн? – посмотрел весело на Геньку, затем с вызовом почему‑ то на Федю.
Тот вызова умело не заметил; сидел, как обычно, между женой и свояченицей, дожевывая который по счету пирожок, и как раз доказывал Ире, что при таких пирогах безнравственно, ты слышишь, просто безнравственно есть икру.
Мефодий вытянул длинную руку и взял графин за горлышко, словно гуся за шею.
– Парень верно рассуждает, – и занес графин над рюмкой, – он старший у матки. Ты бы, Семка, помог племяннику, будучи сказать. Сам‑ то где работаешь?
Вот этого старуха и опасалась. Брат бывал здесь нечасто: жили далеко, жена частенько прихварывала, и как‑ то получилось, что о младшем сыне он знал не много; имена детей, своих внучатых племянников, помнил – и то спасибо. Самое время было вмешаться.
– Он на войне раненный, – подсказала брату вполголоса, – в танке горел.
Так и обошлось бы все, да беда в том, что после вопроса Мефодия над столом как раз повисла неловкая пауза, и высокий Матренин голос, даже и вполсилы, прозвучал очень громко.
– Тю! – не смутился Мефодий. – Горел, да не сгорел же, слава Богу! Подожди, сестра, – он предупреждающе вытянул руку с зажатым графином и продолжал: – А теперь ты где работаешь?
Не ответить дядьке, который к тому же старше матери, было нельзя. Симочка подержался за узел галстука, провел тяжелой ладонью по голове; привстав, ожесточенно ткнул вилкой в буженину и потянул на тарелку, но есть не стал. Наконец, не глядя на Мефодия и вообще ни на кого, пробурчал что‑ то неразборчиво, где можно было разобрать только «нам положено».
– Нигде, выходит… – вслух догадался Мефодий. – Вот как. Так ты что же, – он высвободил полу пиджака, за которую безуспешно дергала Даша, жена, – ты что же, от бабы живешь, будучи сказать?!
Симочка набычился; лысина у него побагровела, желваки задвигались.
– Дядя Мефодий, – привстал Мотя, и почти одновременно послышался укоризненный Дашин голос:
– Надо тебе, да?
– Ты, Мотяшка, не сепети, – старик приветливо кивнул ему и тут же повернулся к сестре, – и ты не мешайся, дай поговорить с племянником, не чужой он мне, – так спокойно, что непонятно было, кого он имеет в виду, – чаю горячего налей‑ ка мне. – И снова к Симочке, словно его не прерывали: – Значит, от бабы живешь? А эти, – он показал графином сначала на Ирину, потом на Надю, – эти работать должны? Им нигде не «положено»? У них мужики с войны не вернулись!.. Мальчишка, будучи сказать, школу кончает, – графин теперь был направлен прямо на Геньку, – ты его не учи «деньгу зашибать», ты помочь должен, это твоего брата сын!
Все стремительно озвучилось и смешалось, как в хорошей массовке.
– Стекло к счастью бьется, мамаша, к счастью!
– Жили без ихней помощи и не померли, слава Богу.
– Мефодий Иванович!.. Послушайте, Мефодий Ива…
– Нет, я скажу ему, ты мне рот не затыкай!
– Даже не разбилось; долго стоять будет.
– …в танке горел! Я всю войну прошел!
– Я ж говорю, целое; только чем бы тут вытереть? …
– Дядя Мефодий, дядя Мефодий, куда же? …
– …не кур вин сын – моей сестры сын! Гришкин сын!..
– На курсы шоферов пойдет, еще и деньги платить будут.
– Ничего‑ о‑ о, обоих подняла, ни у кого не просила…
– Сестра, баба, пуп надрывает, будучи сказать…
– Заберите у него кто‑ нибудь нож, Федя, ножик забери!
– …контуженый, или что. Сгорел, говорят, как спичка.
– Ну зачем ты ввязался, он лучше тебя знает…
– На, возьми, вытри, она чистая…
– Не просили и не просим, у самих есть, не нищие!..
– МЕФО‑ ДЯ!
И сразу стало тихо. Старуха властно забрала у брата графин. Прямая, в черном шелковом платье, она смотрела на него, нахмурив брови, но глаза не были ни строгими, ни сердитыми.
– Прямо кипяток. Как молодой! – Бережно протянула стакан с чаем и улыбнулась, заметив, что усы у брата такие же пышные, как у покойного отца. А мать никто, кроме них двоих, уже не помнит… разве что Ирка.
Успокоились на диво быстро. Через несколько минут невозможно было поверить в почти разразившийся скандал, особенно безобразный тем, что – свой.
Так бывает порой весенним полднем: повеет холодом, сбегутся облака, а деревья и дома на улице вдруг станут, как на старой открытке, двухмерными, ибо тени исчезнут, растворятся в небе, и небо потемнеет. Прохожие превратятся в картонные фигурки с развевающимися полами одежды, и самые предусмотрительные уже встряхивают пока еще сложенными зонтами, искоса посматривая вверх. Хозяйки, глянув на небо, спешат закрыть окна или бегут во двор, чтобы сдернуть с веревки недосохшее белье; прищепки охотно разжимают затекшие деревянные челюсти и, выскакивая из торопливых пальцев, ласточками летят на землю… Воротники подняты. Зонты наготове. Закрыты окна. Полотенце вяло свешивается из переполненного таза. И в это время откуда‑ то появляется солнце, и первые зайчики резво и шкодливо скачут по витринам, окнам, стеклам очков… Самый предусмотрительный прохожий почти открыл уже непокорный зонтик, за которым по тротуару увязывается длинная тень, точно шлейф; да что зонтик, если все вокруг стремительно обретает плоть и цвет!..
Разговор опять зажужжал; кто‑ то уговаривал Иру спеть. Выделялся Тонин высокий голос: «Просим, просим!.. », но в это время Симочка поднялся решительно, отодвигая стул и ни на кого не глядя.
– Пора нам, мамаша.
Ванда проскользнула в комнату, откуда сразу послышались недовольные детские голоса и плач, началась суета и прощание.
Вскоре за Симочкой заторопился и возмутитель спокойствия Мефодий, но старуха двинула нетерпеливо бровью:
– Послушай – и поедешь.
Ира сидела, задумчиво наклонив голову. Взглянула на мать:
– Твою любимую, мама? – но Тоня быстро перебила:
– Нет‑ нет! Именины празднуем. Другую, сестра, другую. Ира перевела взгляд на тяжелые головки цветов, чуть кивнула: «Другую» и запела.
В том саду, где мы с Вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвел,
И в моей груди расцвело тогда
Чувство яркое нежной любви.
Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
Но любовь все живет
В моем сердце больном.
Крупные плотные лепестки тускло отсвечивали перламутром. Хризантемы были свежие, недавно срезанные, но сейчас казалось, что – да, отцвели, и давно отцвели.
Опустел наш сад, Вас давно уж нет,
Я брожу один, весь измученный,
И невольные слезы катятся
Пред увядшим кустом хризантем.
Ира повторила припев, и Мотя с благодарностью подхватил. Феденька растроганно покачивался в такт мелодии, но сам не подпевал: не умел и знал о своем неумении.
Закричали: «Еще! », «Бис! », «Спой еще, Ира! », но Мефодий, уже с шарфом на шее, подошел к ней проститься.
Старуха закрыла дверь за братом, а заодно и в комнату, чтобы не разбудить Лельку. Генька и Людка тоже отправились спать. Все нетерпеливо повернулись к Ирине: еще. Она снова обернулась к матери. Та сидела, подперши щеку, и смотрела прямо на цветы. Бровь чуть дрогнула, когда попросила негромко:
– Може, папашину? …
Как со славной восточной сторонушки
Протекала быстрая речушка – славный Тихий Дон.
Он прорыл, прокопал, молодец, горы крутые,
А по правую сторонушку леса темные.
На Дону‑ то живут братцы – люди военные,
Люди военные живут – то донские казаки.
От двери потянуло холодом, послышался мелодичный смех и потом – Таечкин голос:
– Ёлки‑ палки! Смотри, Вовка, как тут весело! Следом вошел солдат.
– Здравия желаю. А кто так хорошо поет?
…От холодной струи воздуха безвременно гибнут нежные, своенравные розы; длинноногие гвоздики зябко подрагивают сизыми артритными суставами; не то хризантемы. Это величественные, эпические цветы осени, и воздух ноября для них так же естествен, как просто воздух. Они не затрепетали, не закивали головками: ждали.
А чего, собственно, ждать? Праздник кончился. Чернота за окном обещала смениться серым ноябрьским понедельником, который станет первым днем не только недели, но и поста. Пора по домам.
Матрена выпрямилась, опустив руку, на которую опиралась щекой, и на лице остался красный след пальцев, как пощечина. Пустые стулья остались стоять, как их оставили, развернувшись к столу под разными углами, словно тоже хлебнули из графинчика. Неуверенно переглянувшись, гости начали уходить.
Первой грузно поднялась Пава; тут же встал Мотя. За ними потянулись все четверо детей: Миша‑ студент с чуть татарскими, как у матери, глазами, второй брат, «Мамай», лицом совсем уже татарин; Нинка, смуглый узкоглазый подросток, и серьезный девятилетний Митя. Так, прощаясь поочередно с мамынькой, они прошли гуськом мимо новых гостей, кивая с улыбкой, и скрылись за дверью.
– С днем рождения, бабуль! – Тайка двинулась к старухе, протягивая сверток в серой бумаге, но бабка в ее сторону не глядела.
Тем же маршрутом, обходя стол, к ней направлялись дочь с зятем. Тоня остановилась попрощаться с сестрой, и Федор Федорович оказался лицом к лицу с опоздавшими. Он возненавидел себя еще до того, как улыбнулся, тем более что пять минут назад твердо решил не улыбаться ни в коем случае. «В конце концов, она моя крестница», – досадовал он, обнимая мягкие плечи тещи.
– Мы, как всегда, к шапочному разбору, – громко сказала Таечка. – В этом доме вообще как, всех угощают или только некоторых? Снимай шинель, Вовка, – и она снова двинулась к старухе, – мы тебя с днем рождения…
Внучка с улыбкой приближалась. Старуха встала, но не сделала ни малейшего движения навстречу. Одновременно поднялась Ирина и начала собирать посуду. Таечка, держа сверток обеими руками, переводила взгляд с бабки на мать.
– С днем рождения! – повторила уже с недоумением в голосе. – Пирожки‑ то остались?
– Сроду не праздную я никакого рождения, – холодно сообщила старуха глиняной миске, куда складывала пирожки (Лельке на завтра), – пост у меня.
Какой ценой задавила она в себе хлебосольство, коим славилась – и по праву славилась! – испокон веку, будь то тучные или тощие годы, здорова была или хворала, весела или гневалась? Кто бы ни оказывался в доме, никогда голодным не уходил; а теперь любимая внучка стояла чуть ли не с протянутой рукой, и куда там пирожка – улыбки не получила!
– Ну, нам‑ то один черт, мы постов не соблюдаем, – Тайка решительно расстегнула пальто, – правда, Вовк?
Солдат с готовностью поднял руку к воротнику шинели.
– Ты… – Старуха взглядом остановила его жест. – Ты!.. Ты как посмел сюда!.. – Она не договорила. Брови сложились в крылья беркута, целящего в добычу, маленький рот был плотно сжат, а на щеке еще ярче разгорелось алое пятно. Феденька, уже взявшийся за ручку двери, остановился.
– Че такое? – удивился солдат. – Че я вам? …
Старуха подняла со стола пустое рыбное блюдо и двинулась с ним, как со щитом, но щитом разящим, прямо на солдата. Он пятился и пятился к буфету, а старуха наступала решительно, занося свое оружие над головой:
– Сироту! Сироту посмел!.. На ребенка руку поднял!
Успел ли он надеть фуражку или просто прикрывал обеими руками голову, никто не запомнил. Все пытались успокоить мамыньку, правда, из безопасного далека: блюдо было тяжести нешуточной – долго ль до греха…
– Кошмар! Кошмар! – вскрикивала Тайка, прижав руки к щекам, а блюдо ритмично поднималось и обрушивалось в такт ее восклицаниям, пока Федя не перехватил и не высвободил его из крепко сжатых пальцев.
– Ты осторожно, смотри, Федя, – совершенно будничным голосом предупредила мамынька, – это ж кузнецовское. Дай Ирке, пусть в буфет уберет.
Прямо вслед за этим она, не спуская глаз с солдата, снова двинулась на него, схватив лежащий на скатерти столовый нож. Несмотря на Тайкины крики: «Мама! » и «Кошмар! », никакой опасности для жизни и благополучия солдата это оружие не представляло. По‑ видимому, Матрена и сама это поняла. Тем не менее, она без устали разила ненавистную шинель бессильными и яростными кинжальными ударами. Солдат даже не пытался защищаться, а ошеломленно стоял, встряхивая головой, потому что толстые пряди волос падали ему на лицо.
– Да она чокнутая. Чокнутая старуха!
– Вон! – высоко и громко закричала она. – Вон!
И вдруг подытожила тихо и отчетливо, опустив руку с ножом:
– Ты же нелюдь. Нелюдь. Вон!.. Последними Таечкиными словами были:
– …чтобы мне так в душу плюнули. Кошмар!
Дочери хлопотали вокруг старухи. Федор Федорович прикидывал, сколько капель валерьянки дадут нужный эффект и справится ли деликатная валерьянка с таким возбуждением. Мамынька была между тем совершенно спокойна, даже румянец пропал.
– Чайку налей, – попросила Иру, – худо мне. Феденька присел посчитать пульс. Она необидно отняла руку, покачала головой и приложила ладонь к животу:
– Осколок. Вот… Опять ворохнулся.
* * *
Отцвели уж давно хризантемы во всех садах, и только в витринах цветочных магазинов да на кладбище можно было увидеть свежие цветы – срезанные, конечно. Могила старика съежилась, осела и была уже очерчена надгробием из серого мрамора. Надгробие выглядело почти нарядно, особенно рядом со старыми – высокими, замшелыми, потемневшими от времени. Старуха заботливо, хоть и осознавая тщету своего занятия, обтерла серый мрамор и рассказала мужу, как прогнала солдата из квартиры – и из своей жизни; посетовала, что не могла вот так же отвадить его от внучки, а жаль. Помолчала; а про оживший осколок говорить не стала.
– Пойду я, Гриша, – закончила вслух, – ветер сегодня какой студеный. Спи спокойно, Христос с тобой, – и низко поклонилась, коснувшись влажного камня.
Ветер и впрямь был свирепый. Дойдя до остановки и увидев вильнувший за поворотом желтый вагон, она пожалела, что не пошла к Тоне: уже пила бы горячий чай. Несколько человек старались укрыться от ветра за киоск и неохотно подвинулись, уступив местечко старухе. Ветер лихорадочно листал разложенные газеты; продавщица высовывала из хлипкого укрытия руки в перчатках без пальцев и в который раз передвигала булыжники, прижимающие газеты. Собачья работа, поежилась Матрена. Люди недовольно смотрели на часы, а другие, у кого часов не было, тревожно посматривали на первых, после чего вытягивали головы из‑ за киоска, не идет ли трамвай.
Рук своих в перчатках она уже – как и та, в киоске – не чувствовала и, совсем осердившись, пошла пешком. Черная фигура решительно и скоро удалялась по серой дневной улице, а когда, через несколько кварталов, трамвай с бесстыжим ржанием обогнал ее, она даже головы не повернула: бздуры, а тридцать копеек карман не тянут.
Дома расстегнула онемевшими пальцами пальто, развязала платок, и показалось: тепло, однако по‑ настоящему не согрелась даже после чая. Холод сидел где‑ то глубоко внутри, там, где обретался осколок; он‑ то и не давал согреться. Вопреки обыкновению она прилегла, набросив на ноги большой старый платок, и, по‑ видимому, задремала; во всяком случае, голоса правнучки не слышала. Пробудилась от озноба: только что привиделось, будто стоит по пояс в ледяной воде.
– Снег! – громко и восторженно закричала Лелька, и старуха окончательно проснулась.
За темнеющим окном был виден мокрый асфальт, на который косо падали крупные хлопья, уменьшаясь на лету. «Пойти дров подбросить», – мелькнула мысль, и Матрена привычным жестом повязала на затылке платок точь‑ в‑ точь такого рисунка, как лежащий внизу асфальт с белыми крапинами снежинок.
«Чаю с черной смородой, – она закрыла дверцу плиты и прикрыла трубу, – к утру все как рукой…»
Громко распахнулась дверь (значит, кто‑ то из Надькиных), и послышался собачий лай. Вспыхнул свет. На пороге стоял Генька, чуть пригнувшись, а рядом с ним собака: мокрая шерсть цвета молока, в котором кофе и не ночевал; усталый, осмысленный взгляд. Она озябла, да так, что на голове между ушей лежал снег и теперь таял, стекая на пол. Словно желая разом покончить с ним, собака встряхнулась и быстро, ожесточенно начала чесать за ухом, хотя могла бы и не делать этого – старуха узнала ее сразу. Та, из давнего сна, тоже со снегом на голове, ее долго пугала, пока наконец, уже когда Максимыча схоронили, в одну из бессонных ночей она вдруг поняла: это же его смерть приходила! Как раз перед Пасхой сон был, вот что… И плита вот так же топилась.
– На кой ты ее притащил? – нахмурилась строго.
– А че, хорошая собака, – внук сидел, опершись на одно колено, и смотрел на пса, – она замерзала на улице. Пусть у нас живет.
«Кто замерзал? Она замерзала? » – но вслух сказала другое:
– Всех бродячих тварей не нажалеешься. Самим места мало!
– В кухне пусть живет, – мальчик поднял глаза, – у плиты.
– Вон! Вон ее! – закричала старуха, и собака, должно быть, поняла ее прежде внука: попятилась, перебирая тонкими лапами и оглядываясь, и Матрена распахнула дверь настежь, решительно повторив свое «вон! ».
…В то время медицина была менее совершенна, более добросовестна и прямолинейна. Причиной воспаления считались – и не без основания – бактерии, переломы главным образом являлись следствием травм, а укус тифозной вши естественным образом вызывал тиф. Медицинская статистика считалась скромным прикладным предметом (да простят автора специалисты) и не могла себе позволить более пристальный интерес к банальной тифозной воши.
Если бы кто‑ то задался вопросом, почему тифом заболевают не все укушенные, тем более что вошь слепа от природы и кусает безо всяких личных пристрастий, – то гораздо быстрее пришли бы к выводу, что причина болезней – стресс, к каковому результату непременно придут, но еще не скоро; а тогда и слова такого не знали. Омерзительные насекомые приведены в пример не случайно: до сих пор мамынька хворала только однажды, в первую войну, в Ростове, и это был как раз тиф. Другие недуги ей были неведомы.
А теперь старухе нездоровилось. Она все чаще ложилась отдыхать днем и даже стала пропускать службу в моленной; и то, и другое прежде было немыслимо. Феденька видел ее реже других, а потому был поражен, увидев осунувшееся лицо. На все вопросы теща устало отмахивалась, ибо твердо знала причину своего недомогания: осколок.
С того самого дня, как он «ворохнулся» где‑ то в недрах ее тела, осколок ее не оставлял. Даже если старуха физически не ощущала его присутствие, он не позволял о себе забыть. Дрянь, сор, крошка стекла – он был во всем, куда ни повернись. Пройдет ли трамвай по улице – задребезжат стекла в окнах. Лелька усядется читать любимую сказку: «Ах ты, мерзкое стекло!.. » Подморозит – стекла замерзают. Горят лампадки перед иконами – две красного и одна оранжевого стекла. Снова и снова всплывает в памяти тот пузырек с тугой пробкой, хотя вот уж сколько времени Ира капает не иначе как пипеткой, да ведь и пипетка из стекла, долго ль кончику отбиться…
Зять слушал, кивал, щуря беспомощные, незащищенные глаза с набухшими мешками, а потом снова напялил очки и решил: обследоваться надо. И к месту.
О том, что происходило потом, можно не рассказывать по той простой причине, что и больница, и профессор со смешной фамилией, похожей на звук разгрызаемого орешка, – все это было уже увидено и прожито стариком, вот только каштаны за окнами стояли теперь черные и голые.
Правда, процесс внедрения больной Ивановой М. И., русской, 72‑ х лет, задержался в памяти скуластой санитарки, которая пристроилась на табуретке в приемном покое, одной рукой подперши полновесный бюст, а другой ковыряя спичкой в зубах. Матрена не приметила в ней ничего особенного – санитарка как санитарка, то ли сорок, то ли двадцать пять, не поймешь; руки крупные, как у мужика, халат перетянут там, где полагается быть талии, из‑ под косынки торчит непонятное что‑ то, вроде ниток спутанных. Санитарка и вовсе не обратила на больную внимания – старуха как старуха: кряхтя, безропотно залезла в ванну и вдруг позвала от двери властно и громко:
– Постой!..
Та остановилась – скорее от удивления, чем от тревоги, и в полном остолбенении уставилась на голую Иванову М. И., очень прямо сидящую в ванне с мочалкой в руке:
– Спину мне потри, милая.
Не найдясь с ответом, «милая» возмущенно заелозила мочалкой под громкую старухину диктовку о географии спины; придя в себя, шваркнула вялую мочалку на край ванны и вышла, обтирая руки полой кургузого халата. Это ж если каждому спину тереть, никаких рук не хватит, бормотала с досадой, идя назад по коридору с чистым бельем. Старая ведьма уже вылезла и ждала, обмахиваясь концом простыни. Поблагодарила величественным кивком, начала было одеваться, но тут же возвысила голос:
– Ты что мне тут принесла?!
Оторопев, санитарка просунулась обратно в дверь:
– Чево еще вам?
– Я спрашиваю, что ты за рвань незграбную мне принесла? – она стояла, закутавшись в прилипшую к телу простыню, и гневно трясла огромную рубаху в виде буквы «Т», с необъятной дырой подмышкой и костяными от крахмала завязками. – Как я могу в этих отрепках профессору на глаза показаться?!
– Уж и «отрепки», – забубнила вконец растерянная санитарка, – какое из прачечной дали, такое и получай… те. Шелков не держим, – добавила ожесточенно.
– Оно и видно, – спокойно кивнула старуха. – Ты принеси что‑ нибудь… поприличней. Похлопочи, милая, – закончила твердо и ласково, после чего решительно уселась на ободранный табурет.
Проще всего было напустить на нее сестру‑ хозяйку, но вместо этого санитарка почему‑ то перерыла в чулане кипы белья и, сама себе изумляясь, принесла новый комплект и даже полотенце вафельное отыскала, почти не изгаженное черными штампами. Может быть, чудеса эти объяснялись каким‑ то нетривиальным старухиным обаянием, а скорее всего, санитарка дежурила покладистая. И то: мужик не только целую неделю капли в рот не берет, так вчера еще принес мануфактуры на кофточку! Сама‑ то материя темненькая, вроде как свекольного цвета, а сверху такие букетики желтенькие, мелкие; развернула да прикинула – очень к лицу подходящая, только сшить надо скоренько, а то если откладывать, то и не соберешься; попросить, что ли, ту, из гинекологии, она хорошо скроит… Можно на кнопках, а то и на пуговках, если желтые укупишь; а коли к Новому году премию дадут, можно и химическую завивку сделать!..
Само обследование, которое профессор вел быстро и ловко, заняло на диво мало времени, так что старуха скоро вернулась домой с диагнозом окончательным, обжалованию и операции не подлежащим.
Матери ничего не сказали. В ее терминологии болезнь называлась «осколок», и хоть медицина нарекла ее цепким словом «рак», никто этого слова не произносил. Осколок – и осколок, что уж там.
Каким бы печально недолгим ни было старухино пребывание в больнице – короче, чем память о нем у той скуластенькой санитарки, – ребенок, естественно, не мог оставаться в квартире один. Вернее, мог, но не должен был, по мнению Тони. Оставить работу Ира не могла, и девочку отправили к крестным. Такие временные переселения, с ночевками в столовой на сдвинутых креслах, несколько раз случались раньше, и Лелька очень воодушевилась. На тот случай, если ей опять не дадут сказки братьев Гримм (в прошлый раз Тата объяснила, что у Лельки нос не дорос), она сунула в портфель самую новую: «Гуттаперчевый мальчик».
…Они остались дома втроем – Тата, Лелька и кошка Мурка. Ира с Тоней сразу ушли в больницу, Федор Федорович еще не вернулся из клиники, а Юраша… Юраша где‑ то жил свою загадочную студенческую жизнь. Тата строгим голосом сказала, чтоб Лелька не мешала ей играть: завтра музыка, но постоять рядом и послушать разрешила. Играла недолго; закрыв крышку пианино, с таинственным видом повела племянницу в кабинет и включила телевизор. Это было не то радио, не то «всевидящий глаз» из фильма «Багдадский вор», только занимало больше места. Лелька вежливо смотрела сквозь круглое толстое стекло, и ей было неловко оттого, что люди оттуда видят ее – тоже через стекло.
– Это линза, – объяснила Тата, – там внутри вода налита, представляешь?
На воду было не похоже, разве что на рыбий жир, а через него было видно, как люди в военной форме очень быстро танцуют на корточках под громкую музыку. Одни солдаты.
– Давай сказки почитаем, – попросила она. Старшая сурово ответила, явно повторяя чьи‑ то слова:
– Тебе лишь бы сказки! Не знаешь, что ли, что бабушка умирает?
– Бабушка Ира или бабушка Матрена? – вскочила Лелька.
– Наша бабушка. А тебе она прабабушка.
– Как – умирает? Она ведь живая!..
…Все тайное, о чем взрослые шепчутся по ночам, быстро становится явным для детей, как бы тихо ни шелестели страшные слова, как бы плотно ни были закрыты двери. Шепот и слова могут быть вообще ни при чем; выдают тайны не они – или менее всего они; гораздо чаще проговаривается молчание, внезапно оборванный разговор, обмен взглядами, вопрос, повисший без ответа, не говоря уже о совершенно абсурдном поведении, вроде долгого простаивания в эркере перед окном, все еще со шляпкой на голове.
– У бабушки рак. Сказать трудно, – Таточка закусила нижнюю губу и медленно покачала головой, – но долго это не продлится.
– Значит, тогда они с Максимычем вместе воскреснут, – вслух решила Лелька и великодушно поделилась этой мыслью с Татой.
Та выслушала внимательно, но недоверчиво, и отреагировала непонятно:
– Вечно ты разводишь турусы на колесах, – но на всякий случай перекрестилась.
– А что такое «турусы»?
Тата честно призналась, что не знает, просто звучит смешно. Посмотрев друг на друга, обе фыркнули и начали смеяться – сначала тихонько, потом громче, с удовольствием повторяя:
– Трусы!
– Трусы на колесах!..
– А как они на этих колесах держатся?
– Прищепками, как на веревке!
– Ой, не могу! Умора!..
…Рассказ о том, как жила‑ была старуха, вступает в последнюю фазу, печальную и неизбежную: как она умирала, и ни она сама, ни другие герои повествования не знают, сколько времени ей отпущено, сколько раз можно будет повторить классическое: «Вот неделя, другая проходит…» А они между тем идут, одна за другой. Враждебный ноябрь сменился невнятным декабрем, и пока все это происходит, старуха живет, вот и сердце ее бьется в ритм бессмертным словам: жила‑ была, жила‑ была, жила‑ была, хоть она в это время умирает. Умирание – это тоже часть жизни.
Старуха только‑ только легла в больницу, поэтому Тайка, забежавшая вечером, никого не застала. Вернее, дома была Людка, двоюродная сестра: стоя у буфета, она резала ароматный хлеб с тмином. Отрезав, тонко намазала маслом и посыпала его сахаром, словно посолила.
– Хочешь? – с сожалением посмотрев на бутерброд, девочка протянула его Тайке.
Сахарный песок на хлебе темнел, будто первый снег на земле. Та рассеянно мотнула головой: «Сама ешь». Людка слизнула прилипшие к корке кристаллики сахара, потом решительно надкусила хлеб. Вместо чая она пила воду из‑ под крана. На ярких, блестящих от масла губах белели сахарные крупинки.
– Бабушка в больнице, – девочка гулко допила воду и снова потянулась к буханке.
Вот неделя, другая проходит… а может быть, и не успела пройти, как Таечка появилась и у крестных. Узнав о последних событиях, заахала и расценила все происходящее как «кошмар», с чем нельзя было не согласиться. Но одно дело – сидеть, вытянув губки и щелкая пальцами (была у Таечки такая привычка: сначала обхватить одной рукой сжатый кулачок другой и хрустнуть, словно кастаньетами, затем проделать то же самое с другой; что‑ то вроде навязчивой привычки, свойственной многим машинисткам), – так вот, одно дело похрустеть пальчиками, а совсем другое – решить, что делать с дочкой. И дело не в спанье на сдвинутых креслах, а просто ребенок живет беспризорным.
– Я Ляльку забираю, – решила Таечка, и, несмотря на всю самоотверженность этого заявления, проблема оставалась нерешенной, чтобы не сказать – осложнялась. Здесь ребенок, по крайней мере, был и сыт, и умыт, а у Тайки… Да Бог с ней, не о том надо было думать. Поэтому все осталось по‑ прежнему. Девочка кочевала с портфелем между двумя домами, сестры метались, сменяя друг друга, хотя особой необходимости в этом не было: как уже говорилось, мамыньку держали в больнице недолго и торопливо выписали домой – умирать.
Прав был покойный Максимыч: все повторяется. Только он заметил это так поздно, что не успел рассказать жене, иначе ее не удивила бы вдруг возникшая неприязнь к еде. Впрочем, она и не удивлялась; удивлялась Тоня. «Свеженькое, прямо с базара, – уговаривала она, – покушай немножко! » Опять появилась на сцене миска «диета», но успехом у мамыньки не пользовалась: «Что я, ребенок, что ли? Сами ешьте эту размазню». С нетерпением ждали, когда кончится пост: старуха очень ослабела, и сейчас как никогда требовалось полноценное питание.
Новый Год встретили у Тони, где же еще. Народу собралось много: пришли братья с семьями, и Тоня с сестрой то и дело вскакивали и бегали на кухню. Победно высилась елка, блестел паркет, трескучими искрами рассыпались бенгальские огни, и на какое‑ то время стало почти весело.
На Рождественскую службу собирались втроем. Первой оделась Лелька. Мамынька попросила Иру расправить ей платок и хорошо, что попросила: стоя за спиной у старухи и выравнивая ниспадающие складки, дочь едва успела ее подхватить. Нарядная и торжественная, Матрена тихо осела перед зеркалом на пол.
– Рожество… – выдохнула чуть слышно, открыв глаза и пытаясь поднять голову с подушки. Увидела испуганную правнучку и смятенное Ирино лицо. Приподняла руку – ох, какая тяжелая! – и сразу накатила дурнота. – Рожество. А в моленну? … – она говорила ясно, только очень тихо и с видимым трудом.
Обе понимали, что сегодня в моленную, да и вообще никуда, она не пойдет. Была, была у Иры мысль добежать до аптеки, вызвать «скорую», как Левочка сделал когда‑ то. Но не двинулась; мать, только что придя в сознание, остановила – сперва взглядом, потом словами:
– Ты не вздумай… К чахо… чахоточным свезут.
Когда же кончилась праздничная служба и появились встревоженные Тоня с Федей, мамынька объяснила, что «сомлела» и «в глазах темно сделалось». Накрыла руку зятя сухой горячей ладонью и сказала:
– Не надо в больницу. Дайте мне дома… – и не договорила, да и нужды не было, как не было нужды в бодрых Феденькиных словах:
– Мамаша, да вы завтра уже на ногах… – и тоже не договорил.
Старуха взглянула укоризненно и перевела взгляд на Иру:
– Велят в больницу – не давай меня, слышишь? … Не давай!
И уснула.
О том, чтобы ослушаться матери, не было и речи, даже если больница, которой она так боялась, чем‑ то смогла бы помочь. Вместе с тем Федор Федорович не мог себе представить, как пожилой человек – никогда Феденька не называл старуху, даже мысленно, старухой – как пожилой человек, с огромной саркомой кишечника, может находиться дома, без профессионального ухода и с туалетом в соседней квартире! Даже если Тоня на время переселится… куда? – здесь трое, три поколения, живут в одной комнате; и туалет от этого ближе не станет.
Совещались, сидя на кухне у стола, и Феденьке показалось вдруг, что такой недавний ноябрь, с именинами и шумным застольем, был давно‑ давно, чуть ли не в «мирное время»; только вот влажный запах хризантем сбивал с толку. Откуда хризантемы, одернул он себя; просто от окна холодом тянет… И услышал голос жены:
– Тогда перевезем к нам. В кабинете можно очень хорошо устроить.
Федор Федорович начал было, что мамаша, мол, хотела дома остаться, но Тоня перебила:
– Так она и будет дома – у нас. И к месту. И стало по сему.
Труднее всего оказалось объяснить старухе, что все останется по‑ прежнему: перевезут ее иконы, спать будет в своей кровати…
– Ребенок! – гневно и полногласно выговаривала она бестолковым. – Ребенка кто смотреть будет?!
И опять возникла Таечка, внезапно, как черт из люка. Как ни в чем не бывало, появилась и провозгласила с вызовом, что забирает ребенка к себе, и вообще хватит. Переждав немую сцену, не стала объяснять, чего именно «хватит», а позвала девочку:
– Собирайся. Будешь у мамы жить, – и приветливо улыбнулась.
– Со мной, – негромко, но отчетливо отозвалась Ира, не обращая внимания на надутые губки и хруст пальцев, – со мной вместе.
Тоня и здесь оказалась права: мать так давно чувствовала себя у них как дома, что переселение прошло безболезненно, и старуха оказалась дома. Дома, где не нужно было щипать лучинку для растопки, где прямо из крана текла по ее желанию горячая вода, не говоря уже о весьма прозаических чудесах за дверью помещения, которое Тоня именовала «маленьким домиком», зять – заграничным словом «ватерклозет», а мать по старинке – нужником.
Действительно, в кабинете оказалось очень удобно. Любимую кушетку Федора Федоровича переставили к другой стене, перпендикулярно к шкафу с книгами, а на ее место водрузили мамынькину кровать. Неожиданно обрела второе дыхание ширма, которая доселе жила в прихожей и, если роптала, то неслышно, или же ее ропот был заглушён висящими пальто, которые только и умели, что слушать и беспомощно разводить драповыми рукавами. Теперь, будучи повышена в должности, ширма скромно намекнула на свое иностранное, чуть ли не аристократическое происхождение, предъявив в доказательство изящные инкрустации: перламутровые журавли по черному лаку на фоне подагрических японских сосен. Ширма деликатно отсекла угол кабинета с кроватью, чтобы не видно было, как умирает старуха.
Иконы перевозить она не позволила:
– На кой? Папаша, Царствие ему Небесное, вешал. Образа не трогать! Я, може, еще… – и не договорила, осеклась.
Сколько раз повисали в воздухе недоговоренные фразы! Не в этом ли главная боль умирания? И уходящий, и остающиеся знают о неизбежном, но вступают в странный заговор. Все лукавят друг с другом, но остающимся заговорщикам легче, потому что они вместе, тогда как умирающий, еще не простившись и не уйдя, оказывается совсем один, и мало у кого достанет духу сказать хитрецам, удерживающим слезы: «Милые! Мне не страшно».
Короткие обмороки, о которых предупреждал профессор, повторялись все чаще. Тоня совершенно извелась от собственного фальшиво веселого голоса, каждый звук которого мать встречала удивленным взглядом – и опускала глаза. Утром она первым делом спрашивала: «Ирка придет? », хотя накануне Ира сидела с ней допоздна, потом бежала к Тайке: внучка без нее не засыпала. Днем Лелька ходила с мамой на работу, и Таечка опять заговорила о садике, причем от каждого упоминания о дошкольном детском учреждении девочка начинала чесать голову. Ирина теперь работала только в утреннюю смену, а после работы ехала к сестре.
Федор Федорович видел, что обе валятся с ног; между тем главные тяготы были впереди. Подождав неделю, он привел сиделку. Та первым делом упаковала свой мощный корпус в белейший халат и замаскировала белой шапочкой рыжеватые кудельки. Обретя таким образом профессиональную полноценность, отрекомендовалась Астрой и, несмотря на дородность, присела в книксене. У сиделки была бело‑ розовая, как зефир, кожа, буква «А», вышитая готическим шрифтом на кармашке халата, мощные, незыблемые дюны бюста и двадцатилетний стаж работы.
Условились, что вначале сиделка будет приходить на два‑ три часа, а потом… потом по договоренности: только Федор Федорович знал о перспективе ночных дежурств, инъекций, а о других страшных подробностях он думать избегал. Федя считал сиделку своим трофеем и – что скрывать? – гордился и радовался, спохватываясь от неуместности этих чувств.
Можно ли представить его изумление, недоверие и разочарованность, когда выяснилось, что никто, кроме него, не обрадовался опытной медсестре?!
Первой нахохлилась старуха:
– На кой ляд вам эта… Хризантема?
Имя прилепилось намертво. С легкой руки мамыньки все, не исключая, увы, Феденьки, называли корпулентную сиделку только этим – тоже цветочным, впрочем, – именем; за глаза, разумеется. Что характерно, никто из недовольных не мог внятно объяснить, чем профессионалка не угодила. Сестры только пожимали плечами: Тоня – скептически, не скрывая раздражения; Ирина как‑ то недоуменно и чуть настороженно.
Мамынька жаловалась Ире:
– Хлебнут они с этой Хризантемой, помяни мое слово. Я смотрю, Тонька часики свои золотые на трюмо оставляет… Все на виду, бери – не хочу!
– Мама, – не выдерживала Тоня, – ну что ты говоришь? Может, и серебро в буфете запирать?
– А ка‑ а‑ ак же, – возмущалась мать, – а как же? На замок запирать; чужой человек в доме!
Откидывалась на подушку, отдыхала. Потом, открыв глаза, просила Иру:
– Что ж ты ребенка не приведешь? Ты, може, думаешь, я заразная? Это не тиф у меня, а стекло в животе застрявши… Соскучала я без нее. И еще что, – старуха понижала голос, – ты мне справу смертную шей. Скорее шей, Ирка, слышишь?
– Ну мама, – Тоня резко поворачивалась в дверях, – что ты помирать торопишься? Мы с тобой еще пасхи будем печь, – и поправляла ширму, вернее, прятала за ней лицо, которое слушалось все хуже.
Мать вполголоса продолжала:
– Можно в моленной попросить, там шьют. А только я хочу, чтобы для меня ты сшила. И ребенка, ребенка приведи! – добавляла вдогонку.
Какие‑ то дни были лучше, другие хуже. В хорошие старуха вставала и медленно передвигалась по дому, часто останавливаясь передохнуть. Длинная белая рубаха стала ей слишком просторна. Чтобы надеть халат, требовалось много сил, а их было жалко. Она набрасывала на плечи вязаный платок и стояла у окна, слушая потрескивание батарей и глядя во двор. Экономное зимнее солнце высвечивало затвердевшую песочницу, холодные даже на глаз скамейки и темный подъезд, похожий на устье русской печки, точь‑ в‑ точь, как в Ростове у нас была… Пробежал вприпрыжку мальчуган в шапке с болтающимися собачьими ушами и скрылся в парадном, откуда вскоре выкатилось тонкое колесо, а следом выбежал тот же мальчик и сильно толкнул колесо по дорожке. Оно быстро покатилось по широкой дуге, вильнуло и упало, а Матрена, поправив сползавший платок, пыталась вспомнить, где она это видела, недавно совсем? … Отвернулась, нахмурившись: никак не вспоминалось, и оказалась лицом к лицу с сиделкой, которая с готовностью протягивала ей лекарство.
– Дай же спокой, Христа ради, – проговорила с сердцем, но бесполезное снадобье выпила.
Вечером Ира пришла с внучкой.
– Бабушка Матрена, послушай: опять про Мишку поют! Девочка уселась в ногах кровати и задрала голову, вслушиваясь:
Я с тобой неловко пошутила,
Не сердись, любимый мой, молю.
Ну, не надо, слышишь, Мишка, милый,
Я тебя по‑ прежнему люблю.
Мишка, Мишка, где твоя улыбка…
Старуха улыбалась, не спуская с правнучки глаз, потом спросила, поддразнивая:
– Ну так чего ж он уходит, твой Мишка? Лелька предупреждающе подняла руку:
– Ты слушай, слушай:
…От обиды сердце успокой.
Ну, скажи мне, что могу я сделать,
Если ты злопамятный такой?
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка –
То, что ты уходишь от меня.
– Мне Максимыч все рассказал, – повернулась к ней девочка, когда песня смолкла. – Это вот как было. Охотники поймали в лесу маленького медвежонка. И он у них жил. В городе, под крышей ночи белой. Медведик этот у них совсем ручной сделался, вроде кошки: ласковый, хороший и простой. Как мальчишка. Ну вот. Его кормили… – Лелька помолчала, – песни ему пели. А он все равно грустить начал; даже глаз не хотел поднимать.
– Ну? – Старуха с трудом сдерживала смех.
– А потом взял и в лес ушел, – вздохнула девочка.
– Курам на смех, – с трудом выговорила Матрена, колыхаясь от смеха, – это же курам на смех!..
После этого вечера никто не помнил мать так самозабвенно смеющейся. Ира приводила внучку еще несколько раз, потом девочка начала ходить в детский сад, а вскоре приводить ребенка стало уже нельзя.
А время шло, каждый день честно откладывая на счетах по одному прожитому дню. «Мерзкое стекло», осевшее в животе у старухи, захватывало все больше и больше места, наливаясь холодной тяжестью. Однажды утром – еще одна костяшка на невидимых счетах – она не смогла стать прямо, как привыкла стоять всю жизнь: мертвое бремя опустило ей плечи, заставив ссутулиться, но содеянным не удовлетворилось и принудило поклониться в пояс. Попытка неповиновения каралась болью, и каждый приступ боли был похож на репетицию казни. «Во как меня», – изумилась старуха. Переведя дыхание, хмыкнула чуть слышно: «Богу молиться будет легче».
Так, согнувшись, она медленными, короткими шагами двигалась по квартире, завернув рукава долгой белой рубашки, чтобы удобней было придерживаться за мебель. Садилась в кресло и подолгу смотрела в окно, не уставая любоваться виденным, хотя за окном был все тот же двор, и разнообразие привносилось разве что погодой. Впрочем, мамынька и не ждала разнообразия; напротив, она глаз не сводила с выученной наизусть картинки. Так заядлые посетители музеев наслаждаются любимыми полотнами, ради которых приходят, и отнюдь не ожидают, что в излюбленном пейзаже или натюрморте появится вдруг новая деталь. Окно отрезало от старухи внешний мир, принявший вид городского дворика, и даже когда она закрывала глаза и уходила в сон, то всякий раз пересекала этот двор. Мальчишка, гонявший колесо, больше не появлялся, да ей это и не было нужно: вспомнила, вспомнила она и широкую дугу, и катившийся по этой дуге пятак, который так недавно выпал из кармана мужнина плаща. «Когда я вдовой стала называться», – пояснила она тихонько неизвестно кому и снова задремала.
Нужно ли говорить, что недуг согнул старуху только физически: остальное было не под силу ни выморочному тифу, ни осколку, ни… как там доктора его называют.
Время пр одолжало отщелкив ать дни: подошло Кр ещение. Второй раз в жизни Матрена не только не стояла праздничную службу, но и вообще не пошла в моленную. Тоня пошла одна. По правде говоря, она не столько молилась, сколько решала в уме древнюю задачу горы и Магомета. И решила: после обеда привела батюшку, который и отслужил в столовой молебен для старухи. Сестры поддерживали мать с обеих сторон – сесть она наотрез отказалась. От кадила поднимался умиротворяющий аромат ладана, и сквозь сизоватый дым было видно то гордое и торжественное Тонино лицо, то Ирино, скорбное, с плотно сжатыми губами, то счастливое лицо матери.
В соответствии со всеми законами времени начались крещенские морозы. Мамынька была очень занята: то и дело звала Тоню и диктовала, «что кому». Памятью она владела блестяще и весь свой «золотой фонд», давно отданный на хранение дочери, помнила, к изумлению той, досконально.
– Медальон золотой мой с бриллиантами, тот, что открывается, тебе пусть будет. Я там карточки держала, Ларину и Лизочкину, Царствие им Небесное. А другой, с аметистом… Красивый камень, умели раньше делать! Так вот, его тоже тебе, у тебя и серьги есть аметистовые. Ну, так. Кольцо еще было, тоже с аметистом…
– Нет, мама, я кольца не помню, – Тонин карандаш повис в замешательстве над блокнотом.
– Где ж тебе помнить, – старуха иронически подняла брови, – за это кольцо папаша, Царствие ему Небесное, три фунта муки на майдане сторговал да сала от‑ т‑ т такой кусок! Тебе тогда лет пять было, а то и меньше. Ирка должна помнить. – И продолжала: – Часы папашины, с цепкой, Ирке отдашь. И кольцо его, с черным камнем, что я когда‑ то дарила, тоже ей.
Молчала; лежала не двигаясь, давая «осколку» занять еще кусок ее тела. Отдышавшись, перечисляла дальше:
– Ну вот. А мое венчальное кольцо этой вертихвостке, Тайке, отдай, как замуж пойдет. Хоть венчаться они не будут, а все ж отдай, пусть ей память будет. Раньше не вздумай, только когда замуж… Там, знаешь, другое колечко было: один бриллиантик, а от него изумруды в оправе, точно листики; очень тонкая работа. Это для Таточки. Потом: браслет платиновый, с замком в виде…
Старуха раздавала имение свое щедрой рукой, никого не забыв и никого не обойдя. Столовое серебро, посуда, безделушки, кольца, серьги и цепочки, на которые всегда был так щедр Максимыч. Она, всю жизнь скрывавшая свою доброту, раздавала все и сейчас боялась только одного: не успеть отдать.
Дочь, зажав в одной руке носовой платок, а в другой карандаш, записывала торопливо и подробно, время от времени прикрывая глаза: то ли вспомнить предмет описи, то ли дать слезе стечь. Не раз и не два вспоминала Тоня разговор с мамынькой в то время, когда отца увезли в туберкулезную больницу, и мысль: кому трудней – больному или здоровому – казалась не эгоистической, но здравой. В самом деле, ведь если так посмотреть: кто, как не она, Тоня, всю жизнь была мамынькиной любимицей, чем она, по правде сказать, всегда гордилась? Кто, как не она, позаботился о том, чтобы матери было удобно, кто обеспечил… да к чему перечислять? А теперь – извольте радоваться! – мать поминутно спрашивает про Иру, ждет Иру, радуется только Ире, не говоря уже о том, что овальная агатовая брошь с большим бриллиантом посередине тоже достается сестре! Да, как ни кощунственно это звучит, Тоня обижалась на мать – и ужасалась своей обиде, которая была крепко настояна на ревности.
Тонин список охватывал не все, иначе она бы поняла, что старуха торопится отдать свой долг старшей дочери – долг любви, заботы, внимания. Ира очень рано стала для матери главной помощницей и «прислугой за все», благодаря чему старуха смогла научиться любить младших. Всю жизнь любовно собирая золотые побрякушки, она не оценила – и недолюбила – истинное золото, которое было рядом. Старуха заглянула в лицо своему греху – и ужаснулась; смотрела, не отрываясь, на голгофу окна, возведенную между нею и жизнью, и казнила себя многажды и беспощадно, с нетерпением ожидая дочь. Потом лежала, держа обеими исхудавшими ладонями ее холодную после улицы руку, и лицо у нее было такое же счастливое, как во время Крещенского молебна.
– Не забудь, – говорила она очень тихо не потому, что голос отказал, а просто боялась устать и задремать, пока Ира с нею, – не забудь мне в гроб крестик деревянный на шею. И чтобы положили меня рядом с папашей. – «Царствие ему Небесное» добавляла одними губами – то ли для экономии сил, то ли от близости этого царствия, настолько реальной, что можно было уже не беспокоить небесную канцелярию формальностями.
Время бесстрастно щелкает драгоценными костяшками дней, да и сколько там его, зимнего дня: помолиться, лежа в кровати, выпить полчашки теплого молока, принять ненужную микстуру. Только усядешься, наконец, в кресло посмотреть в окно – ан, уже и сумерки, вот и вся песня.
Да, время приносило и новые песни. Незадолго до Сретения Ира привела внучку. Скинув валенки с галошами в прихожей, девочка ловко прокатилась в чулках по паркету и сразу же, несмотря на протесты Тони и сиделки, залезла к старухе на кровать, к явному неудовольствию дремавшей там кошки.
– Золотко мое! – обрадовалась та, – совсем забыла бабу, вон как редко приходишь!
– Я в садик хожу, – ответила Лелька.
– То‑ то я смотрю, ты сдохлая какая стала! – воскликнула старуха, и девочка серьезно ответила:
– Ты тоже, бабушка Матрена.
Старуха любовалась правнучкой и засыпала ее вопросами.
Лелька рассказала, что ходит она в другой садик, где все говорят по‑ русски, только дети называются «ребята», а вместо «нужник» там надо говорить «туалет».
– Откуда ж там туалет, – старуха снисходительно шевельнула бровью, – нужник, конечно, потому как по нужде ходят. На кой надо детям голову забивать… А еще что? Ты расскажи, расскажи, я соскучала.
Лелька охотно рассказала, что у каждого ребенка есть свой шкафчик с картинкой, чтобы одежду вешать, а еще:
– Представляешь, бабушка Матрена, есть такие дети, которые сами не умеют себе ботинки завязать!
Обе укоризненно покрутили головами. Лелька пожаловалась, что на завтрак кормят кашей: «она как лепешка, только горячая», а днем заставляют ложиться в кровать и по‑ настоящему спать, как будто на дворе ночь, хотя все знают, что день.
– Меня тоже утром заставляют кашу исть, – схитрила старуха, – и днем спать велят. Крестная твоя велит да вон та, в белом халате, что уколы мне делает.
– Больно тебе?
– Не‑ е, это разве больно; это пустяк. Ну, еще расскажи! Оказалось, что одна девочка в садике знает песню про маму. Не про девочкину, а про Лелькину маму. Старуха была заинтригована, и Лелька запела:
Из‑ под горки катится
Голубое платьице,
На боку зеленый бант,
Тебя любит музыкант.
Музыкант молоденький,
Звать его Володенькой;
Через годик, через два
Будешь ты его жена.
Обе замолчали. Старуха смотрела куда‑ то сквозь летящих по ширме журавлей, а девочка осторожно водила пальцем по черному лаку. За ширмой, в дверях, замерли плечом к плечу Ира с сестрой, споткнувшись о жуткую песенку.
– Бабушка Матрена, правда, это не про мою маму, правда?
Старуха рассердилась:
– Откуда девочка может что знать про твою матку?! Она что, гадалка какая, девочка эта? Видать, из уличных… Разве это подходящая песня для ребенка, Господи Исусе! Ты бабу Иру свою попроси, она тебе настоящую песню споет. Она мно‑ о‑ ого песен знает!
– Это не про мою маму, бабушка Матрена, знаешь, почему?
– Ну? – с надеждой спросила та.
– Потому что у моей мамы нет голубого платьица, вот почему! У нее же зеленое, знаешь, такое шелковое? …
…Вечером старухе делалось хуже. Цветочная сиделка осторожно позвякивала спасительными докторскими бирюльками на эмалированном подносе, готовясь заранее. С середины масленицы она оставалась, за редкими исключениями, на всю ночь. Тоня приготовила на кушетке комплект белья и подушку, но Хризантема, сделав укол, проводила всю ночь в кресле, к явному неудовольствию мамыньки, ревновавшей кресло. Когда старуха переставала стонать и засыпала, сиделка доставала пяльцы, вялые моточки «мулине» и погружалась в работу, набросив полотенце на лампу. Она так же сосредоточенно втыкала в полотно иголку, запряженную цветной ниткой, как только что иглу шприца – в старухину вену. Единственный элемент творчества, пожалуй, заключался в том, как Хризантема время от времени вдруг гибким движением отбрасывала цветную петлю, но и это было похоже на стремительный и точный жест, которым она развязывала и сдергивала жгут, введя иглу; больше всего это напоминало росчерк подписи, чем, в сущности, и являлось. От ужина она неизменно отказывалась, но иногда выпивала чашку чая – здесь же, за письменным столом, аккуратно прикрыв крахмальной салфеткой такой же халат. Тоня уговаривала ее вздремнуть, но сиделка с достоинством объяснила, что никогда не спит на дежурстве. Действительно, утром была на удивление бодра, хоть от кофе не отказывалась; только красные глаза и чуть подрагивавшие руки выдавали усталость. Все еще не в состоянии понять, когда же она спит, Тоня отложила недодуманную мысль, как после стирки откладывают непарный носок: вдруг найдется второй, да и выбросить жалко.
Старуха в этом не участвовала: освобожденная безотказным Морфеем, то есть морфием, от боли и тяжести, она засыпала, и сны ее были беспечальны. Она часто видела мужа, и он двигался ей навстречу. Вот она стоит в реке – это же Дон! – и не чувствует ни ног, ни живота, но и боли не чувствует, а он, рассекая грудью воду, идет вперед. Солнце где‑ то за спиной, прямо ему в глаза, и он щурится, протягивая к ней руки. «Смотри, какое диво! – показывает он на воду, где играют золотые солнечные блики, – мне теперь удочку не надо, я руками тебе рыбы наловлю! » Погружает полусложенные ладони в воду, ловит солнечное пятнышко и протягивает ей: «На! » Изумленная Матрена видит живую рыбку, сверкающую жарким золотом – точь‑ в‑ точь, как в Тонькином аквариуме, – а муж кричит: «Держи! » и дает ей следующую рыбку, потом еще, и она удивляется: теплые какие, как же это так? «От‑ т, Мать Честная, так они же от света Божьего! Дай‑ ка я тебе наловлю, пока солнце не село», – и снова смыкает ладони, ловя золотисто‑ оранжевые отсветы. Вдруг солнце исчезло – или сначала исчез старик? Опять стало зябко, и когда она открыла глаза, ни мужа, ни дивных рыбок не было, а солнце было завешено знакомым полотенцем. Под солнцем сидела чужая женщина и вышивала. В животе у старухи заворочался осколок. Он разросся и теперь острыми концами прорезывал себе путь вглубь, хотя живого места больше не оставалось. Женщина – как ее? Хризантема, конечно, – подошла со шприцем и ловко закрутила ей на руке резиновую кишку, точно выстиранное полотенце выжимала; резко завоняло спиртом и чем‑ то еще, но Матрена знала, что скоро полегчает.
…Боль меняла цвет и обличье. Матрена видела ее, лежащую прямо на земле, и удивлялась, как такое может быть: она ведь внутри, в брюхе, а вот поди ж ты; наклонилась, чтобы получше рассмотреть. Сначала боль была красно‑ коричневая и была бы похожа на воловью печень, если б не вздувалась грязно‑ серыми пузырями. Пузыри лопались и оседали, чернея и сжимаясь на глазах, пока от них не оставалась обыкновенная головешка. Теперь от Матрены требовалось самое страшное: перешагнуть через нее, иначе было нельзя. Она медлила. «Ну, не бойся! – старик спешил навстречу, протягивая руку. – Это не больно вовсе. Смотри, – он перешагивал через другую, очень похожую, головешку, – вот и все, и к месту! » Старуха прошла несколько шагов и выпрямилась. Ах, как славно! Пошла быстрей, побежала – и легко перескочила черное паскудство. Муж одобрительно засмеялся, и они оказались в лесу, где прямо на зеленом мху кипел самовар. Вот это правильно, оценила Матрена, в лесу‑ то шишек прорва, только подкладывай. У Максимыча в руках почему‑ то лопата; он весело кричит: «Хватит лимониться, собирайся! » – и втыкает лопату в яркий мох. Внизу показывается желтый песок, Матрена где‑ то видела такой. Старик роет быстро, но не в глубину, а в глубину и в даль сразу, и уходит вперед; оборачивается к жене и зовет: «Скорей! » Она удивляется: «Куда, Гриша? », а он разглаживает усы и топает ногой: «В Ростов! Мы же с Ростова, там все наши остались! » Послушно и радостно старуха идет следом, потом бежит, – оказывается, очень легко бежать по глубокой песчаной кривизне, как по оврагу, только темнеет скоро, и она не заметила даже, когда отпала надобность в лопате, потому что они с Гришей быстро и легко летели в земной глубине прямо в родной Ростов.
Окно, обрамившее для старухи внешний мир в скромную репродукцию Питера Брейгеля, пригласило в союзницы ширму: она ограничила мир внутренний, квартирный. Ни в столовой, ни на кухне Матрена больше не появлялась: не было сил. Обладавшая недюжинной силой Хризантема водила ее в комфортабельный нужник, и после этого похода старуха долго лежала без движения или впадала в забытье, пока боль не догоняла. Правда, когда все разъяснилось с Хризантемой, то пришлось… Однако лучше по порядку.
Началось с того, что сиделка пролила в кабинете спирт, причем извинялась так подробно и изысканно, что Ирине стало неловко: делов‑ то – паркет протереть; спасибо, что сестры в тот момент дома не было. Хризантема, сокрушаясь, сама затерла мастикой подсохший пол и, поднимаясь с колен, закашлялась, но вышитого платочка у нее, вопреки обыкновению, не нашлось. Впрочем, даже и найдись он, Ирина не могла обмануться: мастика честно пахла скипидаром, а сиделка – алкоголем, и верноподданнический аромат «Красной Москвы», не в силах помочь, сдал позиции.
Мамынька дремала; когда Тоня с дочкой и крестницей вернулись из «Детского мира», сиделки в доме уже не было.
Федя быстро соотнес непомерный расход спирта с дрожью в руках и красными глазами. Объяснился с Хризантемой коротко, но мучительно. Пьяницы всегда вызывали у Федора Федоровича брезгливость, а уж если женщина… нет, увольте. И уволил, стараясь не вслушиваться в сбивчивое оправдание, в лицо ей не смотрел и вообще не поднимал глаз выше буквы «А» на халате, превратившейся в абсолютно однозначный символ. Вытащил приготовленный бумажник:
– Сколько я вам должен? – и, наткнувшись на просящий взгляд, понял: – Нет, конечно; это останется между нами. Однако я как медик… – и, махнув рукой, начал отсчитывать кредитки.
В дверях Хризантема помедлила.
– Доктор, – сказала, натягивая перчатку, – правая ручка у тетеньки, там вена очень плохая; пусть в левую колют, будьте добры сказать.
И легко понесла по ступенькам свое громоздкое тело.
После изгнания сиделки Федору Федоровичу стало, вопреки ожиданиям, вовсе не легче: не покидало ощущение какой‑ то кривды. «С ее опытом найти работу – раз плюнуть», – утешал он себя, а внутри звучали непривычные, дурацкие, трогательные слова: «правая ручка у тетеньки». Он угрюмо взглянул на растерянную Иру:
– Ну и как тебе это нравится? … – и вдруг, ужаленный страшной догадкой, в панике бросился в кабинет.
Слава Богу, все ампулы на месте. «Впрочем, на халате " А", а не " М" », – невесело пошутил он сам с собой, но тяжелая неловкость не оставляла.
– Ира!.. – позвала мамынька.
Федор Федорович неосознанно взглянул на локтевой сгиб: ни одного кровоподтека. Н‑ да. В комнату спешила Ирина; одновременно хлюпнула входная дверь: вернулась жена, и Феденька пошел сдаваться.
Разрешилось мучительное недоумение, нашелся парный носок! Оказывается, Тоня «как чувствовала»; поэтому совершенно не удивилась и все действия мужа одобрила безусловно.
– Надеюсь, ты ей не платил? – она воинственно кряхтела, стаскивая тугой, попискивающий ботик, и Фединого лица не видела. – Мне эта особа сразу не понравилась, я как чувствовала. Это же подумать только!
Жена радовалась, что восторжествовала справедливость, и радость была отравлена только одним обстоятельством: произошло это в ее отсутствие.
Ночь прошла очень тяжело. Укол Феденька сделал вовремя, но с «левой ручкой» возился долго и результатом остался недоволен: навык навыком, а в челюсть колоть несравненно легче. И вообще все пошло наперекосяк. Поход в туалет обрастал немыслимыми подробностями: иссохшая, скрюченная адской мукой старуха стыдливо шептала: «Как же можно?! Он мужчина!.. Хризантему зови…» Мамынька висела на Тоне, а ту, в свою очередь, поддерживал муж, с ужасом чувствуя, что впадает в ересь, ибо впервые в жизни чуть не усомнился в греховности пьянства.
Придя из клиники, застал около мамыньки Иру; жена уснула. Старуха капризничала:
– На кой прогнали? Она дело‑ то вон как знала! Пока меня Господь приберет, вы тут совсем с ног собьетесь… Ну да скоро уже.
Невозможно было поверить, что старуха поменяла свое откровенно неприязненное отношение к сиделке; похоже, однако, что это было именно так. Придираясь, пророчествуя и критикуя, Матрена освоилась с ней, как прежде освоилась с неизменным видом из окна, с неподвижными складками штор или с той же ширмой. Она так привыкла, возвращаясь из покойного сна в мучительное умирание, видеть за письменным столом монументальную вышивальщицу с игрушечными пяльцами в руках, что теперь, когда обжитой интерьер нарушился, огорчилась и растерялась; примерно то же ощущает гурман‑ меценат, обнаружив, что в музейном зале картины поменяли местами, а любимый натюрморт отправили в запасник. Старуха привыкла с ворчаньем принимать микстуру из мензурки, походившей в пальцах Хризантемы на наперсток, как привыкла, что вторую мензурку – уж, конечно, не с микстурой – та выпивает сама, непременно промокнув губы вышитым платочком.
– Ну так что вам с того? – слабым, но требовательным голосом спрашивала она. – Папаша тоже любил выпить, а дело делал! Вон, забегались, ровно кошки на пожаре…
Обижаться было и неуместно, и некогда. За справедливость приходилось платить очень дорого. Один укол – это было, как говорила мамынька, «курам на смех», а днем зять работал. Оставалась «скорая помощь», но это означало для Тони оставить мать одну, добежать до телефона‑ автомата, набрать «03», объяснить ситуацию, вернуться и ждать помощь, почему‑ то называемую «скорой», не говоря уже о том, что обе старухины вены через два дня расцветились, как она сама выразилась, «что яйца на Пасху».
– К свиньям собачьим такую помощь, – вынесла приговор старуха, отдышавшись, – и такое лечение. Дайте спокойно помереть. Ирка, Ирочка моя! – тянула к Тоне слабую, исколотую руку– после морфия она иногда путала дочерей, и это странным образом Тоню успокаивало.
Начался март. Старуха ворчала:
– Это у вас март, а у людей только‑ только середина февраля, – и сейчас ей особенно хотелось, чтобы помешкал немного торопливый февраль, когда она могла так много.
Недуг пригвоздил старуху к постели и уже не позволял встать, дав понять, что теперь иначе не будет. Мир еще сузился, ограничив ее подвижность уже не ширмой, а рамой кровати.
Вопреки обыкновению, Федор Федорович посовещался не с женой, а с Ириной, и снова привел сиделку. Тоня встретила Хризантему строгим взглядом и неровными пятнами на лице, а та, облачившись в халат и шапочку, спокойно вернулась к работе, словно не пропускала ни дня. Даже вышивка на пяльцах была натянута та же самая: очаровательный бутуз с лукавым взглядом, восседающий на горшке щекастой попкой под готической немецкой надписью синим мулине: «СТАРАЙСЯ, ДРУЖОК! »; мастерица как раз приступила к орнаменту. Да и что, собственно, случилось, не плакать же о пролитом молоке, то бишь спирте, в самом деле?
Щелкнул еще один день на счетах времени, и старуха сказала, что хочет проститься.
– Ну что ты рюмишься? – чуть слышно прикрикнула на Тоню. – Карандаш бери, пиши!
Матрена помнила всех, кто давным‑ давно, в царское еще время, перетек сюда из далекого Ростова; в то время, когда молодые старик и старуха жили на Песках, в своей первой ветхой землянке. Славное было времечко! И каждый пустил в этой земле свои корни, сроднившись с нею, разросся детьми и внуками…
Впрочем, именной список, не в пример имущественному, оказался недлинным, что понятно: из старшего поколения остались только Матрена и брат Мефодий. Тоня, славившаяся аккуратностью, растерялась: имена тетки Павли и Ксении, вместе с адресами, в ее записной книжке были обведены черными рамками. Нужно было связаться с двоюродными братьями и сестрами, а с ними близки не были: встречались по праздникам в храме или на кладбище, вот и все. Чтобы помочь ей, мать называла еще какие‑ то имена, увлеченно плутая тропинками воспоминаний, но эффект получился прямо противоположным. Тоне, измотанной напряжением и недосыпом, казалось, будто она распутывает какое‑ то затейливое вязание, силясь не упустить пойманные концы нитей, и только старуха знала, что нитка‑ то была – одна, как и клубок – один…
– Недолугие какие, – пожаловалась она сиделке, – Мефодю надо попросить, он всех сыщет. Брат мой старший, – пояснила охотно, наблюдая за темной, цвета чайной заварки, жидкостью, медленно перетекающей из шприца в ее руку. Между бровями взбухла крупная испарина, и она говорила, оттягивая время, чтобы не сдаться осколку и не закричать.
Мефодий неожиданно появился сам, никем не предупрежденный и – если уместно в данной ситуации – не приглашенный. Бывают обстоятельства… Строго говоря, есть одно обстоятельство, когда звать родных и близких нет необходимости, ибо они сами знают и чувствуют: пора.
Брат пробыл за ширмой недолго. Простившись, поцеловал Матрену, а когда выпрямился, увидел на изболевшемся лице улыбку. Она тронула его за рукав и кивнула куда‑ то в сторону:
– У тебя хохол торчит, как раз как у того журавля, во‑ о‑ он на ширме, видишь? Ну, ступай с Богом!..
С обоими сыновьями простилась тоже безо всякой торжественности, но давши обоим напутствие, которое ни с чем, кроме последнего привета, спутать было невозможно. При прощании в комнате неизменно присутствовала сиделка, но не вслушивалась, да и русский язык не был ей родным, так что она приближалась крахмальным айсбергом, когда возникала надобность проверить пульс или дать воды.
Старуха помолчала, медленно облизывая губы, и долго смотрела на Мотю:
– Сестре помогай, – она не тратила силы на излишние слова, зная, что сын понимает, – ей ребенка поднимать.
И тут же спохватывалась:
– Смотри, Митюшку не приводи, я страшная стала. Больших‑ то можно. – И, рукой отведя Мотины протесты: – Молчи, я знаю. Мне зеркала не надо – у меня ширма, как зеркало, – и торжественно протягивала перст указующий туда, где на черной лаковой поверхности сын увидел себя вполоборота и руку матери в свободно болтающемся рукаве.
– То‑ то, – продолжала, немного отдохнув, – ты вот что: Пава чихвостить станет, так ты смолчи, не ввязывайся; баба и есть баба. Я знаю, я сама папашу грызла. Слава Богу, он молчать умел, Царствие ему Небесное. Дети у вас; детям спокой нужен. Ну, ступай, Господь с тобой, – и крестила своего пожилого старшего сына, как в детстве, когда укладывала спать.
С невесткой простилась отдельно. Пава тяжело сползла на пол и долго рыдала, вытирая лицо краем простыни.
Младшему было велено прийти на следующий день, вместе с Вандой; с детьми осталась Ирина.
Симочка робел, но храбрился. Прошелся по комнате, выставив челюсть, потрогал зачем‑ то чернильницу, оставил; застегнул пиджак.
– Сядь ты, суета, – нестрого и устало произнесла Матрена. – И ты садись, – кивнула Ванде. – Мало сегодня напрыгалась? Дети что, здоровы?
Выслушала испуганный ответ, пытаясь понять, насколько он соответствует истине, и повернула голову к сиделке.
Та поправила подушку и дала выпить то ли лекарства, то ли воды; неслышно отошла.
– Я что тебе скажу, – начала старуха без обращения, и сын застыл, – ухожу я. Молчи! – прикрикнула нетерпеливо и тут же закашлялась. – Ухожу, скоро уже. Вот только благословлю вас. – Она вытянула руку и ждала, потом снова возвысила голос: – Ну!
– Мамынька, – начал Симочка, – мамаша, да я… хоть завтра в загс, на иконе могу…
Но старуха настойчиво повторила:
– Ну!..
Тогда оба поняли и протянули руки. Симочка, широко раскрыв глаза, смотрел на мать, а Ванда – на левую руку старухи со свободно болтающимся кольцом.
– Благословляю вас, – негромко произнесла мать и держала, не отпуская, руки, хоть Симочке неловко было стоять, – а то что же, разве ты у меня порченый какой?
– Завтра, мамаша, прямо завтра в загс, – истово обещал сын, – завтра, вот посмотришь.
– Не‑ е‑ ет, милый, – старуха держала, не отпуская, их руки, – нет: венчаться должны. Вы крещеные оба, да я благословила – в моленну должны идти. А то в костел можно; Богу все едино, Бог не в церкви живет. – Понизила голос и продолжала: – У тебя трое душ детей, а вы не венчаны. Не смеешь так жить, слышишь?!
Продолжала спокойным, будничным голосом, точно на базар уходила:
– Меня не будет, сестру слушай. Она тебя маленького вынянчить да выкормить помогла. Если пустяк, бздуры какие, то не заботь ее, ей самой трудно. А когда нешуточное что – сразу к ней! – и тоже не сказала, о какой сестре говорит, с тоской потянулась к Симочке:
– Ну, иди сюда!
Симочка торопливо шагнул вперед и от неловкости задел ширму, которая вздрогнула и сомкнула створку, точно локоть выставила. Ванда отступила назад – не мешать прощанию, а старуха медленно провела ладонью по жесткой небритой щеке сына, чуть задержавшись на подбородке, и нежно прижала губы к твердому упрямому лбу. И оттолкнула, снова закашлявшись:
– Христос с тобой, иди!
…Звонили к Тоне в дверь те, кого предупредил Мефодий; смущенно здоровались с нею, прощались со старухой – и уходили. Приехала после работы Надя: хотела, мол, мамашу проведать. Однако ни обмануть, ни обмануться не удалось – в доме пахло спиртом, антисептикой и безнадежностью. Смертью пахло.
Появилась растерянная Таечка. Села на кухне, вытащила папироску и подула в нее, но курить ей не позволили. Посидела, хрустя пальцами, потом спросила у крестной:
– Где… она?
Тоня мыла посуду. Резко обернулась и посмотрела Тайке прямо в лицо, красивое и брезгливое, с чуть вздрагивающей верхней губой. Поправив волосы, ответила спокойно, насколько сумела:
– Это бабушка твоя. Хочешь проститься – иди в кабинет, – и сама удивилась ярости, с которой отчеканила эти слова.
Задрав подбородок, Тайка решительно вышла, но дальше прихожей не двинулась. Попудрилась у зеркала и, послюнив пальцы, заботливо стерла с носа лишнюю пудру. Наклонившись совсем близко, широко раскрыла глаза и слегка улыбнулась. Выпрямилась, но в кабинет и теперь не пошла; остановилась в дверях кухни, вытянув губы трубочкой:
– Я бою‑ у‑ усь. И пахнет тут… как в больнице. Тоня повесила полотенце и спросила, не выдержав:
– Откуда же тебе знать, как в больнице пахнет? – и наговорила бы еще Бог знает чего, но сиделка приоткрыла дверь, началась вечерняя суматоха, и Тоня забыла про крестницу.
Гостья посидела в столовой, чтобы переждать суету; поболтала с Татой, открыла и сразу закрыла какой‑ то учебник. Дом жил своей жизнью: принесли телеграмму от Левы из Севастополя; старухе нужно было поменять белье; потом Тоня выскочила в магазин, где стояла в очереди, а, вернувшись, Тайку уже не застала. Поэтому никто не узнал, сколько времени любимая внучка провела у старухи и как проходило их прощание.
Действительно, так ли важны мелкие подробности и слова? Все сказанное означает только одно: живите, милые! Живите хорошо. Как нельзя рвать душу описанием агонии, сколь бы правдивым оно ни было, так же следует остановиться, рассказывая о прощаниях. Ведь каждый, кто пришел к старухиному одру, запомнил обращенные к нему слова, простился – и к месту!
– В моленну бы… еще раз постоять… – теребя простыню, тоскливо шептала она. – Ничего больше не надо. Ничего… – и чуть приподнимала свои говорящие брови, точно сама дивилась простоте последнего желания. Но здесь никто помочь не мог, даже Тоня.
Существует странная, непостижимая связь между явлениями и знаками: с того дня, когда стала известна старухина болезнь, то есть было названо слово, она прожила ровно столько месяцев, сколько в зловещем слове содержалось букв. А желание – желание ее сбылось: Матрена стояла в моленной, в гробу на высоком постаменте, на своем обычном месте, под иконой Трех Святителей, и простояла всю долгую панихиду. Она умерла 14‑ го числа весеннего месяца марта, в понедельник, словно нарочно выбрав то же число и день недели, что судьба назначила раньше для мужа. Ее опускали в землю, в промерзший и неподатливый желтый песок, в среду – в тот же день, как полтора года тому назад хоронили Максимыча. Тот же батюшка, что отпевал его, склонялся сейчас над старухиной могилой, и дымок от ладана зябко дрожал на холодном мартовском ветру.
Вокруг могилы так же, как тогда, стояли сыновья и дочери, теперь уже совсем осиротевшие, – а значит, не дети больше, ибо детьми остаются только до тех пор, покуда живы родители. Теперь они сами остались старшими и чувствовали спиной холод и одиночество: там, за ними, больше не было никого. Они обступили могилу, куда уходила мать, и стояли, как старик‑ отец мысленно их расставил: кроткие и гордые. Кроткие – Ира с Мотей – стояли рядом, и Федя бережно придерживал Иру за локоть, другой рукой обнимая жену. А вот и гордые – Тоня и Симочка, и все вместе стоят подковой, в той последовательности, как расставила бы их мать в детстве: по порядку появления на свет. Нет одного Андрюши, и Федя, сам того не сознавая, занял место кроткого среднего сына, тоже осиротев сегодня вновь и окончательно.
Гроб еще не опустили, когда громко, отчаянно зарыдала Тоня. Захлебываясь криком, прижимала к глазам черное кружево накидки, чтобы никто не видел, как ей больно и стыдно. Вчера она полезла на антресоли и наткнулась на валенки, которые обещала найти для мамыньки прошлой зимой, да так и не нашла, и теперь, от этого стыда и безысходности, она кричала, точно мать могла услышать и простить ее. Федя протягивал ей платок, но не мог произнести ни слова, даже шепотом; все время слышал, как слышат собственный пульс, слова матери: «Я на тебя одного весь курятник оставляю, ты смотри за ними…». Он совал жене платок и не мог понять, отчего же так плохо видно, хоть и в очках.
Все плакали, кроме младших. Они посматривали друг на друга и отворачивались, потому что знали: все равно не может быть, чтобы это насовсем. Лелька держалась за руку бабушки, а та сжимала ее ладошку вместе с варежкой, да иначе и быть не могло: ведь бабушка не существует без внучки, а внучка бывает внучкой до тех пор, пока у нее есть бабушка.
Отвесные стенки могилы были такого же точно цвета, как пасхальное тесто; может быть, это утешило бы старуху, ибо Пасха только через месяц, и куличей ей не печь. Да разве нужны ей теперь куличи, зачем? – ведь сквозь этот желтый песок они с мужем помчатся к себе домой, в свой Ростов, где течет великий Дон и плещутся созданные из Божьего света золотые рыбки – такие же, как здесь, у самого синего моря, где жили‑ были старик со старухой.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|