
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Гаетан Суси. Девочка, которая любила играть со спичками. Гаетан СУСИ. ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА ИГРАТЬ СО СПИЧКАМИ
Гаетан Суси
Девочка, которая любила играть со спичками
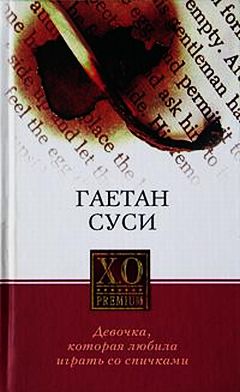
Гаетан СУСИ
ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА ИГРАТЬ СО СПИЧКАМИ
ЧАСТЬ 1
Глава 1
Пришлось нам с братом зажать вселенную в ладошке, потому что как‑ то утром, когда только‑ только начало светать, папа наш отдал богу душу и даже не предупредил нас об этом заранее. Его бренные останки напряглись от страдания, от которого осталась лишь пустая оболочка, все его приказы вдруг обратились в прах, все теперь было выставлено для торжественного прощания с покойным в спальне наверху, откуда еще вчера папа правил нашим миром. Нам нужны были его приказы, мне и моему брату, чтобы не распасться на части, они нас как цементом скрепляли. Без папы мы понятия не имели, что и как нам надо делать. Сами‑ то мы только и могли, что сомневаться, существовать, бояться и страдать.
Выражение «торжественное прощание с покойным», если вообще можно себе такое вообразить, здесь совсем не подходит. Брат первым пошел наверх, и именно он зафиксировал произошедшее событие, потому что на меня, как на секретариуса того дня, была возложена обязанность не спеша подняться с моей травяной постели под звездным небом, на которой я провел ночь, и не успел я занять за столом свое место пред книгой заклятий, как вниз по ступеням сошел братишка. У нас так было заведено, что, перед тем как открыть дверь в отцовскую спальню, надо было постучать, а как постучим, надо было ждать, пока папа разрешит войти, потому что нам запрещалось врываться к нему без приглашения, когда он занимался своими делами.
– Я постучал в дверь, – сказал брат, – но папа не ответил. Я ждал, пока… пока…
Из маленького кармашка он вынул часы, стрелки которых пропали, наверное, еще до потопа.
– …вот прямо до сих пор, точно, до сих пор, но он так и не подал никаких признаков жизни.
Он не отрываясь смотрел на пустой циферблат своих часов, как будто не осмеливался взглянуть ни на что другое, а я видел, что его лицо заливает страх – страх и оторопь, – как вода винный бурдюк. Что же до меня, то я поставил дату вверху страницы и сказал:
– Ничего хорошего в этом нет. Только давай сначала посмотрим, что по этому поводу сказано в свитке, а потом уж будем что‑ то решать.
Мы внимательно прочитали все двенадцать статей кодекса правил образцового домоводства, замечательного документа, составленного много веков назад или даже еще раньше, с большими заглавными буквами и иллюминированием, если б я только знал, что это значит, но даже самых отдаленных намеков, которые могли бы иметь хоть какое‑ то отношение к сложившейся ситуации, там и в помине не было. Я положил свиток на место, в пыльный ларец, ларец поставил в специальный шкафчик и сказал брату:
– Иди к нему в комнату! Открой дверь и зайди туда! Может быть, отец уже покойник. Но, может, он просто отключился.
Последовало продолжительное молчание. Не было слышно ни звука, только деревянные стены поскрипывали, потому что деревянные стены на кухне нашей мирской обители всегда поскрипывают. Брат пожал плечами и покачал головой.
– Что все это значит? Ничего в толк взять не могу. – Потом он угрожающе ткнул в мою сторону пальцем. – А теперь послушай меня внимательно. Я сейчас туда поднимусь, но если папа умер… ты меня понимаешь? Если папа умер… – На этом он осекся и отвернулся, как собака, которая знает, чье мясо съела.
– Не бери в голову, – сказал я. – Ты же знаешь, мы с этим совладаем.
И отправился братец в неведомое. И понял он, что дверь в папину спальню не заперта. Мы, конечно, уже догадались об этом, когда туда вошли, то есть о том, что дверь была не заперта. Но если бы папа предстал пред нами стоя, проспав, как можно было бы тогда предположить, всю ночь, можно было бы сделать вывод о том, что, проснувшись, он отпер дверь, чтобы упростить нам жизнь. Тем не менее братец мой, войдя в то утро в отцовскую опочивальню, сообразил, что папа, должно быть, всю ночь спал и преставился во сне, потому что он лежал голый, с закрытыми глазами, язык его вывалился изо рта и, кроме того, дверь в его спальню была не заперта. Иначе трудно было себе представить, зачем ему надо было корячиться и раздеваться догола, чтобы испустить дух, если бы всю ночь, следуя своему обычаю, он не сомкнул глаз. Из чего следовал единственный вывод о том, что он спал, причем спал голый, и скончался именно в таком виде без разрыва непрерывности. Такой была цепочка моих логических умозаключений.
Брат подошел ко мне бледный, как кость.
– Он совсем белый, – сказал брат.
– Белый? – переспросил я. – Что ты хочешь сказать? Какой – белый? Белый как снег?
Когда речь заходит о папе, нужно быть готовым к чему угодно. Братец размышлял над ответом.
– Помнишь запруду по другую сторону огорода, не сток, который справа, а омут за деревянным сараем? Ясно тебе, что я имею в виду?
– Да, – сказал я, – ту, что возле часовни. Ты о ней, что ли, говоришь?
– Если сбежать вниз по пологому склону, который сразу за ней, окажешься у высохшего ручья.
– Так оно и есть.
– Помнишь камни, которые там навалены? – Я их себе представил. – Ну вот, отец такой же белый, как они. Точь‑ в‑ точь такой же белый.
– Ты что, хочешь сказать, что он вроде как в голубизну отдает? – спросил я. – Он что, синевато‑ белый?
– Да, такой вот он и есть, синевато‑ белый.
Я спросил его о папиных усах, на что они стали похожи. Братец бросил на меня взгляд исподлобья, как зверь, которого побили, а он не понял за что.
– Разве у папы были усы?
– Да, – ответил я, – усы, которые он раз в неделю просил нас причесывать.
– Никогда меня отец не просил ему никакие усы причесывать.
Вот тебе и на! Братец‑ то мой ужасный лицемер, не знаю даже, писать мне об этом или нет. Сел он за стол, сокол мой ясный, аж коленки задрожали, словно вот‑ вот копыта отбросит и в рай отправится.
– А он еще дышит? – спросил я.
Папа дышал так, что это всегда можно было определить невооруженным глазом. Даже когда ему случалось отключаться и на вид в нем было столько же жизни, сколько в трухлявом пне, даже тогда, когда взгляд его, казалось, угас навек, достаточно было посмотреть на его грудь – сначала она была совсем плоской, а потом начинала раздуваться, как наша единственная игрушка – лягушка, пока не становилась такой огромной в объеме, что можно было принять ее за брюхо дохлой лошади, а после этого она начинала опадать, время от времени останавливаясь резкими толчками и давая тем самым понять, что папа все еще с нами, несмотря на случившуюся отключку.
В ответ на мой вопрос брат резко мотнул головой.
– Значит, он помер, – сказал я. И снова повторил ту же фразу, что бывает со мной очень редко: – Значит, получается, что он помер.
Даже странно как‑ то было, что ничего не случилось, когда я выговорил эти слова. Все осталось во вселенной не хуже прежнего. Все дремало себе, как всегда, посапывая, изнашивалось себе понемножечку, будто ничего в ней и не убавилось.
Я подошел к окну. Странно как‑ то день начинался, необычно, даже если учесть, что я встал не с той ноги. Похоже было, что денек выдался дождливый. Под низко нависшими тучами тянулись вдаль поля, бурьяном поросшие, урожая с них – с гулькин нос. У меня и сейчас звучат в ушах мои слова:
– Надо что‑ то делать. Думаю, его надо похоронить.
Мой брат, сидевший за столом, упер в него локти и разразился всхлипами, звук которых чем‑ то напоминал смех с набитым ртом. Меня это так разозлило, что я хлопнул кулаком по столу. Брат тут же прекратил реветь. Он так и сидел с поджатыми губами, втягивая в себя воздух и часто моргая. Его лицо при этом так раскраснелось, будто он откусил кусочек папиного жгучего перца.
Он подошел ко мне и встал рядом, прижавшись лицом к оконной раме, это у него манера такая была, из‑ за которой рама на высоте человеческого роста над полом всегда грязная. От его дыхания стекло запотело, как от дыхания любого, кто еще не преставился.
– Если нам надо его хоронить, – сказал он, – лучше это сделать прямо сейчас, пока дождь не пошел. Негоже папу в грязи хоронить.
По лугу к дому, покачивая головой, брела лошадь с провисшим брюхом.
– Только сначала нам нужно сшить ему саван, не можем же мы хоронить папу в таком виде!
И стал я как зацикленный повторять жалобным шепотом, размеренно стукаясь лбом об оконную раму:
– Саван, саван.
Потом я пошел к двери. Братец спросил, куда это я направляюсь.
– К сараю.
Он не понял. Что, я там саван в сарае для дров искать собрался?
– Пойду посмотрю, как там у нас дела с досками обстоят. А ты, – добавил я, – иди напиши обо всем, что только что случилось.
Этот сопляк неотесанный тут же завыл‑ застонал:
– Сегодня твоя очередь быть секретариусом!
– Мне слова не идут в голову.
– Слова, слова! Какие такие слова?
На самом деле, надо вам сказать, если бы у меня со словами хоть раз промашка вышла, я был бы готов шторы на окнах запалить, это я просто решил прикинуться недотепой, чтобы заставить брата хоть самую малость побыть в шкуре писца. Но братец‑ то мой еще тот лицемер, или я в этой жизни вообще ничего не смыслю. Короче говоря, чтоб не тратить времени даром на пустую болтовню, я схватил банку с гвоздями. Потом сжал зубы и насупил брови, напомнив ему папашу нашего, чтоб у него не оставалось никаких сомнений в моих намерениях, и это произвело неизгладимое впечатление, можете мне поверить.
Затем я сбежал по ступенькам с крыльца, стараясь не наступать на те из них, которые совсем сгнили, и, как обещал, пошел к сараю. Земля была влажной, с запахом грязи и гниющих корней, застрявших там, как порой у меня в голове застревают ночные кошмары. Дыхание мое клубилось белым паром, и при этом казалось, что пар живет сам по себе, не имея ко мне ни малейшего отношения. Серой беспредельностью земля тянулась вдаль до самой сосновой рощи, закрывавшей горизонт, а роща напоминала цветом вареный шпинат, который папа всегда ел на завтрак. По другую сторону рощи стояло село, а дальше, видимо, должны были раскинуться семь морей и все чудеса света.
Поравнявшись с лошадью, я остановился. Она тоже стояла неподвижно и глядела на меня. Кляча наша так состарилась и устала, что ее круглые глаза были уже не такими карими, как раньше. Уж не знаю, есть ли где‑ нибудь на земле лошади с такими голубыми глазами, как у доблестных рыцарей, картинки которых украшают мои любимые словари; мы ведь живем на этой земле не для того, чтобы ответы получать, так мне, по крайней мере, кажется. Я подошел к ней поближе и двинул ее по носу в память о папе. Животное отпрянуло и пригнуло большую голову. Я снова подошел к ней и ласково похлопал по крупу, я же ей не со злости в нос звезданул. Что и говорить, ведь это не ее вина в том, что с папой случилось. Может, и животным я ее зря обозвал.
Вязкая жижа цвета ржавчины, покрывавшая пол дровяного сарая, образовалась из опилок и сочащейся из земли дождевой воды, которая всегда будет из этого пола сочиться. Терпеть не могу в ботинках ходить по этой жиже – возникает такое чувство, что земля облепляет все тело, хочет меня внутрь, в утробу свою засосать через рот как у осьминога, который все внутрь норовит засосать и при этом еще музыкально чавкает. В последний раз я заглядывал сюда недавно, пару‑ тройку дней назад. Жатка была покрыта коростой из помета, весь пол завален какими‑ то разбросанными в беспорядке ржавыми железяками, плуг давно забыл вид бычьего хвоста. Что касается Справедливой Кары, она лежала себе в своем углу, сжавшись по обычаю в тугой комочек около своей миски. За последние годы она особенно не изменилась, и переносить ее с места на место надо было очень осторожно, ее даже дрожь прошибала, когда ее вынимали из ящика. Впечатление было такое, что она уже достигла предельной степени безумия, дальше которой просто некуда, честное слово, и что в таком состоянии она будет теперь пребывать вечно. Раньше, бывало, я каждый день подолгу держал ее на руках, перед тем как положить обратно в ящик. Справедливая Кара, скажу я вам, это не фунт изюма, придет день, и она еще весь мир удивит. А еще там внутри был стеклянный ящик, о котором я вам позже расскажу, когда время настанет подходящее и место нужное подвернется, потому что ничего об этом не сказать просто невозможно. Я здесь про это просто так говорю, потому что пошел в дровяной сарай, который у нас еще склепом называется, где я и схоронился, чтобы спастись от надвигающейся катастрофы и составить свое завещание, которое вы сейчас читаете. Тут меня и найдут, когда время найти настанет. Если только я еще где‑ нибудь не стану искать спасения.
Несколько старых горбылей коробилось у задней стены сарая, тоже сбитой из досок, таких трухлявых, что на светлое будущее им рассчитывать уже не приходилось.
Другие стены сарая были выложены камнем, сочащимся влагой. Доски эти уже ни на что не годны. И думать было нечего, чтобы я папе гроб из этих горбылей мастерил! Сел я на деревянную чурочку и подумал, что из них можно было бы сколотить что‑ то вроде креста на могилку, хоть доски и покоробились, это еще кое‑ как могло получиться, правда, если на тот крест бросит взгляд кто‑ то косоглазый, может, он ему даже прямым покажется. Потом я задумался над тем, будем мы что‑ то писать на кресте, или лучше об этом сразу же забыть. Горбыль он горбыль и есть – что с него взять?
Хоть душу мне и терзала боль утраты, я не сдержал печальной улыбки, взглянув на картинку самого своего любимого доблестного рыцаря, которую налепил на плуг, чтобы, заглядывая время от времени в сарай, любоваться на него в одиночестве и тишине, когда брат оставлял меня в покое и сам с собой забавлялся где‑ нибудь в другом месте. Эта картинка, которую я как‑ то вырвал из одного словаря, напомнила мне мою самую любимую историю – я всегда ее рисовал в своем воображении, когда глядел на любимую картинку. Вы понимаете, эта история должна была где‑ то когда‑ то случиться на самом деле в реальной жизни. Там говорится о принцессе, заточенной в башне замка злого волшебника или чокнутого монаха, и о прекрасном рыцаре, который пришел туда, спас ее и увез на крылатом коне, и мерцали те крылья конские, как угли горящие, если только я себе там правильно все уяснил. Я до одури мог зачитываться той историей, она так меня пленила, что со временем я начинал представлять себя то рыцарем, то принцессой, то тенью от башни замка, то просто фоном их любви – поросшей зеленой травой лужайкой у крепостной стены, запахом шиповника или влажной от капелек росы накидкой, которую рыцарь набрасывал на скованное ужасом тело своей возлюбленной – так в той истории принцесса называется. Иногда, когда, повышая свой культурный уровень, я читал другие словари, мне доводилось ловить себя на мысли о том, что хотя перед глазами у меня лежала этика Спинозы, мечты мои витали совсем в другом словаре, вновь и вновь уносясь к этой самой моей любимой истории о принцессе, которую вызволил из заточения доблестный рыцарь. Я даже до того дошел, что вечерами на сон грядущий пробовал читать ее брату, но он, как вы сами понимаете, скоро начинал храпеть как боров. Все меня в брате расстраивает, с ним даже помечтать ни о чем нельзя как следует.
Так что взял я все это, то есть две доски и лопату, и потащил с собой обратно, на кухню нашей мирской обители.
Брат так и сидел в той же позе на том же стуле, составляя собой, как иногда говорят, предмет обстановки. Он как круглый дурак, именно это выражение здесь самое подходящее, смотрел прямо перед собой на огрызок яблока, который вот уже три недели свисал на веревке с балки под потолком. Это у нас игра такая была – мы подвешивали на веревке яблоко, потом сцепляли руки за спиной и откусывали от него по кусочку – мне, надо сказать, в этом виде спорта равных нет. Время от времени брат мой дул в рассеянности на то, что осталось от мумифицированного фрукта, ссохшегося, как трупик кузнечика, чтобы раскачать его на веревочке. Он ни единой строчки так и не написал в книге заклятий. Его просто нельзя оставлять одного.
– Досок там приличных нет, – сказал я. – Придется мне идти в село и доставать гроб, но крест, по крайней мере, мы сами сможем сколотить.
Лошадь приплелась за мной следом и теперь таращила на нас глазища через окно. Это было вполне в ее репертуаре.
– У нас какие‑ нибудь гроши остались?
Не знаю, что случилось с моими словами, но они напрочь не доходили до сознания брата. Село, гроб, деньги – все эти необычные слова вывернули его способность к пониманию наизнанку. Он хотел, было, сделать какое‑ то движение, да, видно, передумал, начал подниматься со стула, но снова на него опустился. Он чем‑ то напомнил мне собаку, которая жила у нас раньше, папа ее вместе с хлебом насущным кормил нафталиновыми шариками. Так вот, он мне очень напомнил теперь ту собаку в первый час после того, как папа накормил ее нафталином.
Бог знает, почему мне пришла в голову мысль о том, что, если бы папа был в состоянии предвидеть случившееся, ему могло бы прийти на ум захватить с собой в могилу что‑ то близкое ему и дорогое. Например, нас с братом, подумал я, но такая перспектива показалась мне чересчур дерзкой. Наша очередь тоже, конечно, придет когда‑ нибудь, то есть, когда‑ то и нам придет время преставиться, может, нам это в один и тот же день суждено будет, а может статься, нас в разное время соборовать будут, если можно так выразиться, потому что папина очередь, она вроде бы всегда маячила на горизонте, где‑ то там, в неясном отдалении, как что‑ то вроде приказа или зова, исходящего из утробы земли, точно так же, как раньше все его приказы исходили из его спальни наверху. Я как себе это представляю, так и говорю. Но с этим, конечно, вполне можно было бы повременить, я хочу сказать, с нашей очередью преставиться, хотя бы несколько дней, а может, и недель или даже веков, потому что мы знаем из достоверного источника, то есть от папы нашего, что все мы смертные, и о том мы знаем, что ничто не вечно под луной, но папа тем не менее никогда не говорил нам, сколько именно будет длиться наше бренное бытие, мое и брата, и как скоро нам предстоит сделаться трупами, чтобы из состояния его подмастерьев перейти к положению его сподвижников.
Я открыл буфет посмотреть, есть ли у нас еще что‑ нибудь в кошельке, и вывалил его содержимое на стол. Там было с дюжину одинаковых монет из какого‑ то тусклого металла, которые раскатились по столу во все стороны, и мне их пришлось останавливать рукой. Хотя, они раскатились неправильное выражение, потому что на самом деле раскатилась она – дюжина, то есть, как один человек, тем хуже, потому что синтаксис я учил по графу де Сен‑ Симону, если не считать того, что мне папа объяснял. Все равно в голове у меня что‑ то не стыкуется. Я всегда путаю времена глаголов, какая‑ то белиберда иногда получается. В писанине моей, наверное, сам черт ногу сломит.
– Как ты думаешь, здесь хватит, чтобы купить папе сосновый ящик?
Сосновый ящик – это такая папина шутка, у него их, конечно, было не пруд пруди, но он, бывало, частенько вворачивал их в разговор, когда рассказывал нам о ком‑ нибудь, кто умер в дни его молодости, когда сам он был парнем хоть куда. Брат мой, как и я, понятия не имел, хватит ли нам этих грошей, потому что отец никогда не брал нас с собой в село, когда ходил туда с лошадью отовариваться продуктами. Возвращался он оттуда всегда сам не свой. Нам это совсем не нравилось, потому что он тогда щедро раздавал затрещины.
– Он бы должен нам был объяснить, сколько стоят деньги, – сказал брат.
– Он говорил, что это гроши, – возразил я. – Эти наши гроши стоят столько же, сколько деньги тех, кто живет в селе.
Забыл заметить, что из нас двоих я, конечно, гораздо сообразительнее. Мои убедительные доводы бьют наповал. Если бы эти строки писал мой брат, вам бы сразу бросилось в глаза убожество его мысли, никто бы в его писанине не понял ни словечка.
– Может быть, нам их понадобится гораздо больше. Когда папа туда ходил, он всегда брал их с собой целый мешочек.
У него их полно было, я думаю, он ходил куда‑ то и все время пополнял свой запас.
– А где этот мешочек? – спросил я.
Но брат мой все продолжал гундосить:
– Ему бы надо было нам объяснить, сколько стоят деньги.
В тех редких случаях, когда ему в голову приходит какая‑ то мысль, уйти ей оттуда бывает очень непросто.
Я заставил его мне помочь, и мы вдвоем обыскали буфет снизу доверху. Там не было ничего, кроме старого тряпья, распятий и папиной сутаны священника, оставшейся от тех времен, когда он был парнем хоть куда, а еще там лежали рассказы о святых, по которым папа учил нас читать, а потом все время заставлял перечитывать их снова и снова. Там на картинках были нарисованы люди с мягкими окладистыми бородами, которые шагали в сандалиях по залитым солнцем пустыням среди пальм и зарослей виноградной лозы, вдыхая ароматы жасмина и сандалового дерева, которыми, казалось, веет со страниц тех книг. Все их написал папа своим бисерным почерком, который стал теперь моим, то есть нашим. Он в них и иллюстрации вклеил, облизывая их предварительно с изнанки своим длинным, как у быка, языком. Я прекрасно помню, как смотрел на него, когда он был поглощен этим занятием. Многие из рассказов, которые он нам таким образом передал, были, если можно так выразиться, весьма туманными. Дело в них всегда происходило в иудее, которая находится где‑ то в Японии, или в каких‑ то других невообразимых землях, где, по нашим представлениям, отец жил до того, как нас поселили на земле в этой богом забытой глухомани. Мы долго верили, что все эти истории взяты из его жизни, что он хотел оставить их нам в наследство как память, которая могла бы защитить нас от всякой скверны. Так вот, если этому верить, отец был наделен даром творить чудеса, мог заставить воду хлестать из скалы, превращать нищих в деревья, а камешки в мышек, и еще бог знает что делать. Зачем только ему понадобилось оставлять те чудесные края и перебираться в эту глушь безлюдную, в эти поля и леса под небом, покрытым тучами, которые промерзают на шесть месяцев в году, где оливы не растут и овцы не водятся? Да еще со своей единственной забавой, с единственными своими спутниками – двумя тощими сыновьями, которые только тем и занимаются, что строят воздушные замки? Нет, со временем такая версия стала представляться малоправдоподобной. Была у нас еще и библиотека, но я о ней расскажу потом, о ее рыцарских словарях и пагубных влияниях.
– Хотел бы я знать, разрешил ли бы нам отец, чтоб мы эти гроши потратили? – вдруг спросил брат.
– Разрешил бы нам потратить, – поправил его я.
– Это что в лоб, что по лбу. Может, папе это пришлось бы не по нраву.
– Отец умер, – сказал я.
– Может быть, нам их вместе с ним лучше похоронить.
Я прислонил лопату к печке и сел за стол, вертя в пальцах монеты и подрагивая ногой. Я всегда, когда злюсь, ногой подрагиваю, чтоб не двинуть ею под зад, сами понимаете кому.
Уж полдень близился, а дело наше так и не сдвинулось с мертвой точки. Дождь барабанил по крыше, будто в нее кто‑ то гвозди заколачивал. Лошадь укрылась от дождя на веранде. На столе лежала твердая как камень краюха хлеба, мы молча сидели со сложенными руками перед мисками с супом, но не ели – кусок в горло не лез, что с братишкой моим случается нечасто. Конечно, мы не все утро молчали как истуканы, мы говорили о бренных папиных останках, о том, что раньше или позже всем приходит время преставиться, о том, что с нами теперь станется, о саване и могиле. Порешили мы на том, что обернем папу в простыню, так тому и быть, потому что другого савана нам все равно не найти. Теперь пора было переходить от слов к делу, но мы‑ то, вроде, не для такого дела рождены были, то есть не для того, чтобы идти наверх, брать там папино тело, оборачивать его простыней, потом стаскивать вниз по лестнице и доделывать все остальное – конца‑ края этой канители видно не было. А что касается могилы, мы пока так и не решили, где ее копать: ясно было, что рыть ее надо на невозделанной пустоши, но где именно? Хоть дело яйца выеденного не стоило, но у нас тут получилось, кто в лес, кто по дрова. Братец говорил, копать надо около оврага, неподалеку от сосновой рощи. А я, знаете, больше склонялся к дровяному сараю.
Сразу же хочу сказать, что привередами нас никак не назовешь, меня по крайней мере, и от супа с твердокаменным хлебом нам все равно было не отвертеться, хотелось нам того или нет, потому что настало время обедать. Просто обычно перед каждой трапезой папа делал какие‑ то жесты руками и что‑ то бормотал себе под нос. Без таких ритуалов, как это принято называть, приступать к еде было вроде как‑ то неприлично, даже предосудительно, можно сказать, потому что у отца на этот счет были, видимо, какие‑ то свои резоны. Я вам сейчас приведу один пример. Как‑ то раз, очень удивившись, что брат в неурочный час, то есть тогда, когда время трапезы еще не настало, сунул палец в банку с огуречным вареньем, отец взял колотушку, так она называется, и так ею брата отколотил, что тот потом три дня в постели провалялся, на все лады кляня судьбу за то, что родился в том обличье, которое она ему уготовила и которое когда‑ нибудь должно будет стать его бренными останками. Потом отец очень о нем заботился, целовал его и все такое. А я там вроде как ни при чем был.
Суп уже совсем остыл, я даже подумал, зачем его братец вообще разогревал. Все у него не как у людей, он на нашу лошадь очень смахивает. Я вынул из банки нашу лягушку, и мы в угрюмой сосредоточенности стали наблюдать за тем, какие фортели она выделывает. Она была нашей единственной игрушкой, или почти единственной, хотя, конечно, многих вещей понять ей было не дано. Она прыгнула дюймов на восемь, растопырив ноги, как брат мой, когда, вздрогнув, просыпается сам не свой, потому что во сне трусы обмочил, а потом распласталась перед нами во всю свою лягушачью длину, но это было скорее грустно, чем весело, и смеяться нам тут было не над чем. Чтобы как‑ то ее утешить, потому что лягушачья жизнь тоже имеет свои печальные стороны, брат дал ей дохлую муху, которую взял на окне в банке, специально для этой цели наполненной до краев мертвыми насекомыми. Еще она иногда квакала, надо отдать ей должное, и кваканье ее чем‑ то напоминало воронье карканье. Так вот, нет ничего утомительнее безделья, а мы с братом были поставлены обстоятельствами перед свершившимся фактом. Так что, я ему сказал, что надо приниматься за дело.
– Какое еще такое дело? – ответил брат.
Вот тебе и на! Ему всегда надо все разжевать и в рот положить, да еще и картинку нарисовать, чтоб скорее дошло!
И пошли мы с ним заворачивать папины бренные останки в простыню, чтоб снести их вниз и положить на кухонный стол нашей мирской обители. Дело это было совсем не простое, особенно стаскивать его вниз. Останки папины уже окоченели, и от этого у нас возникло много проблем. Когда мы касались его тела руками, казалось, что мы вообще не его касаемся. А если закрыть глаза, как это сделал я, чтобы лучше видеть, впечатление было такое, что плоть, которой касалась рука, принадлежит совсем не отцу, поэтому глаза пришлось раскрыть, чтобы убедиться в том, что на самом деле тело было его. Еще очень трудно было свести вместе опухшие папины ноги, чтобы пронести его труп в дверной проем, ноги его были как на пружине, которая их раздвигала в стороны каждый раз, как мы их отпускали. У нас уже где‑ то тридцать шесть лунных месяцев или даже больше была такая штука вроде морковки, сделанная то ли из камня, то ли из металла какого‑ то, я до сих пор так и не могу понять, из чего она, так вот, она какой‑ то волшебной силой притягивает к себе гвозди, и вот однажды брат мой ее сломал, морковку эту, и если соединить оба ее конца в том месте, где она была сломана, они той же волшебной силой так притягиваются друг к другу, что даже не видно, где она сломана, но если, скажем, один ее конец, левый, оставить, как есть, а другой, правый, повернуть задом наперед, а потом попытаться их соединить в этом положении, та же волшебная сила никак не дает это сделать, она их все время отталкивает друг от друга, уж не знаю, доходчиво я вам это объяснил или вы так ничего и не поняли. Но все равно, я для того об этом написал, чтоб стало ясно, что папины ноги расходились в стороны как два конца того магнита, точно, эта штука именно так и называется.
– Переверни его на другую сторону, – сказал мне брат, имея в виду труп отца.
– Нет, – возразил я и для убедительности добавил: – тогда у него причиндалы отвиснут.
На лестнице с нами такое случилось, что хоть святых выноси. То есть братец мой оступился, папа выскользнул у него из рук, перевалился через перила и грохнулся вниз, как пианино. Всегда с нами такие несчастья приключаются, никак нам не удается их избежать. Папа вертикально свалился на кухонный пол головой вниз, а ноги его торчком задрались вверх, как заячьи уши. Должно быть, у него что‑ то сломалось в шее, потому что в пол его тело уперлось затылком, а при жизни, сколько я его помню, он таких упражнений никогда не делал. Подбородок его уткнулся в грудь, и папа стал похож на человека, у которого все нутро скрутило от изжоги, а рыгнуть никак не получается. Я брату от души врезал по роже, и папа наш, будь он жив, ругать бы меня за это не стал, а братец застыл ошарашенно посреди лестницы, как побитая собака, прекрасно понимая, что гордиться ему нечем. Я схватил его за ухо.
– Вот теперь ты мне ответь, есть у него усы или нет? – сказал я, ткнув его, так сказать, туда носом.
Я по природе своей человек незлой, но, бывает, и на меня праведный гнев накатывает, скажу я вам, я всегда ставлю свои точки над i. Брат мой так заревел, что мало не покажется.
Мы отодвинули миски с супом и втащили папу на стол. Миски свалились на пол. Брат тер глаза рукавом. Саван весь развернулся, когда папа свалился вниз, а поскольку он был в чем мать родила, глаза наши тут же уперлись в его причиндалы. Они все были мягкие и вздувшиеся, гораздо большего размера, чем у брата и у меня, тогда, когда они у меня еще были, они болтались на его окоченевшем бледном теле, как детское личико, заросшее бородой. Сосиска свесилась на одну сторону, и дырочка на головке была раскрыта как рот человека, которого только что расстреляли. Я спросил брата, верит ли он, что мы и в самом деле оттуда появились, как телята рождаются или поросята. Брат попытался засунуть палец в это нежное отверстие, чтобы выяснить, достаточно ли оно растягивается, чтобы оттуда могли вылезти два таких пацана, как мы. Тогда сосиска вдруг стала набухать и подниматься, какая‑ то волшебная сила сделала ее такой же твердой, как окоченевшие бедра, над которыми она вознеслась как флаг, я вам так об этом рассказываю, как сам все это увидел.
Брат положил руку на грудь, как будто хотел удержать сердце, чтобы оно оттуда не выскочило. Когда он пришел в себя и снова обрел дар речи, который, бывает, иногда нас покидает, и ничего с этим не поделаешь, потому что такова жизнь, он сказал:
– Нет. Я скорее думаю, что он вылепил нас из грязи, когда попал в эти края, и мы стали последним чудом, которое он сотворил.
Я прикрыл папины причиндалы простыней, потому что я человек стыдливый, а братец мой опасливо осведомился, начиная нервничать:
– А теперь ты куда собрался?
Я уже взялся за ручку двери.
– В село.
Брат стал глазеть на все, что было вокруг. Когда он пытается что‑ то сообразить, он всегда начинает озирается по сторонам, и во взгляде его сквозит паника, как будто своих мозгов ему не хватает и он пытается найти мысли в тех вещах, которые его окружают, только я не думаю, что такой метод эффективен.
– А как же наша сестренка? – вдруг спросил он. – Что ты с ней собираешься делать?
Я взглянул на него, но оставил его вопрос без ответа.
– Я говорю, как с сестрой‑ то нашей быть? – повторил он, явно гордясь поганой мыслишкой, которая взбрела ему в голову.
Глава 2
Я вздохнул, понимая, что сейчас самое время вернуться к вопросу о только что окоченевшем папином теле, потому что сам он уже не мог за себя постоять. Правда, мне вспомнились какие‑ то папины недосказанные намеки, обрывки фраз, которые мы прошлой зимой обсуждали со всех сторон, о том, что у нас была сестра, сестричка такая маленькая, которая жила на какой‑ то горе или еще где‑ то, почем мне знать. Это же надо, сестренка! У нас!.. Хотя, когда мы об этом задумывались, до нас от времени нашего детства доходили какие‑ то смутные и отрывочные воспоминания, что правда, то правда. Когда‑ то с нами вместе играла маленькая девочка, можете себе представить наше удивление, или она всегда с нами там была, кто знает? А потом взяла и куда‑ то пропала, как падающая звезда.
Брат даже до того договорился, что мы с ней были похожи как две капли воды. Но были ли это подлинные воспоминания? Может быть, на самом деле то были просто образы прошлого, рождавшиеся в голове на основе наших догадок? Эти образы или воспоминания о младшей сестренке особенно доставали моего брата. Сам‑ то я из‑ за этого ночи напролет не мучался, а если и мучался, то редко. Меня очень трудно заставить делать вещи, которые мне не по душе. Я просто поворачиваюсь к ним спиной, пожимаю плечами и брызгаю на них кровью.
– Это нам просто во сне привиделось, – сказал я, продолжая держаться за дверную ручку.
Честно говоря, я подумал, что братец просто пытается заставить меня остаться дома. Поэтому я его спросил:
– Или, может быть, ты сам хочешь пойти в село?
Тут‑ то он и прокололся! Это было как удар ниже пояса, как будто я ему в челюсть вмазал, но на войне, как на войне. Я прекрасно понимал, что перспектива остаться один на один с папиными останками его не пленяла, но если бы я ему велел самому пойти в село, он бы тут же спрятался на чердаке, уж я‑ то его знаю: из нас двоих он, несомненно, более пугливый. С другой стороны, мы с братом никак не могли оставить здесь останки без присмотра и рука об руку отправиться себе, посвистывая, на другой конец сосновой рощи. Но нам же надо было положить папу в приличный гроб, а чтобы это сделать, кто‑ то из нас должен был принести себя в жертву и отправиться в село, чтобы обменять там монеты на могильный ящик.
– Я пойду туда прямо сейчас, – сказал я, так и не дождавшись ответа и напряженно пытаясь сообразить, почему отец решил установить такое неравенство между мыслительными способностями своих сыновей.
Перед тем, как перейти к правдивому описанию тех удивительных событий, которые произошли со мной в селе, мне надо рассказать о наших ближних, моих с братом, которых у нас было приблизительно около четырех. Из списка наших ближних я исключаю тех, чьи образы существовали только на бумаге, то есть тех, которые описаны словами, дающими им жизнь, рыцарей, например, или чокнутых монахов, потому что если про них тоже писать, тогда их получится слишком много; к числу наших ближних я отношу только тех, кто наделен такими же телами, как и мы, хотя во многом эти тела друг от друга отличаются, как мое тело отличается от тела брата, правда теперь, когда я стал об этом размышлять, мне кажется, что они гораздо больше похожи друг на друга, чем на наши будущие бренные останки, так же, как зеленое яблоко и красное яблоко больше схожи между собой, чем, скажем, с огурцом, вот их‑ то – таких ближних, было у нас всего где‑ то примерно четверо, если всех их смешать в одну кучу. Что же до тех людей, которые жили в селе, я пока еще не решил, к какой категории их надо отнести – ближних или дальних. Не включаю я сюда и нашу гипотетическую младшую сестренку, потому что все имеет свои пределы. А если слово ближние вам не по нутру, можно их называть нашими близкими, разницы здесь нет почти никакой. Вот, значит, если всех их смешать в одну кучу, такая получается картина. В начале каждого времени года отцу моему покойному наносил визит один тип, хотя это выражение, нанести визит, звучит здесь слишком высокопарно, потому что мы не знаем, встречались ли они где‑ нибудь еще. Мы с братом ждали прихода этого ближнего, но особенно по этому поводу не переживали, чтобы понапрасну не суетиться и нервы себе не трепать, мы просто знали, что, в конце концов, он придет, как снег, который раньше или позже обязательно выпадет, и кровь себе по этому поводу не портили. И как‑ нибудь поутру мы видели, что папа идет в поле. В самой его середине он останавливался со скрещенными на груди руками и ждал, независимо от того, шел дождь или нет, хоть бы дерьмо с неба сыпалось, а мы знали, что на нас вот‑ вот нагрянет визит, и спешили спрятаться. Выйдя из сосновой рощи, тот тип сходил с дороги и прямиком, через поле шагал к отцу, как слепень летит к единственному в саду цветку. Отец мой выслушивал его со скрещенными на груди руками. Потом тот ближний либо уходил, либо папа приглашал его в дом, вот тогда‑ то мы и старались где‑ нибудь схорониться. Они поднимались наверх, в папину спальню, откуда еще только вчера папа всем распоряжался, и, если мы с братом влезали на каменный карниз, по которому шел сточный желоб, подглядеть в окно, чем они там занимаются, мы видели, что они что‑ то пишут, а потом расписываются в больших бухгалтерских книгах, которые папа убирал в сундук, перед тем как проводить того малого обратно точно до самого центра поля, где он снова скрещивал на груди руки и смотрел, как визитер уходит той же дорогой, по которой пришел, пока тот не исчезал из виду, потому что папа с ним большое дело провернул. Но тот тип все равно нас время от времени замечал или из окна папиной спальни, когда заставал нас врасплох и мы не успевали вовремя укрыться от его взгляда, или иногда на кухне, когда он спускался оттуда по ступеням, и тогда этот тип бросал на нас взгляд, в котором сквозило такое отвращение, будто ему вот‑ вот тошно станет.
Другой человек тоже заглядывал к нам время от времени, но мы никогда не знали о его приходе заранее, хотя он нас навещал чаще и обычно приходил вместе с парнишкой, который, казалось, вечно оставался, каким был, не рос и не взрослел, и по тому, как грубо этот ближний обращался с мальчонкой, мы сделали вывод, что это его сын. Эти двое приезжали на телеге, и папа встречал их на обочине дороги, потому что даже мысли нельзя было допустить о том, чтобы они своими грязными башмаками топтали наше поле, о чем мы не раз им прямо так и намекали. Единственной причиной, которая, казалось, приводила их в наши края, было желание довести отца до белого каления, потому что после каждого их приезда он как с цепи срывался. Нам это совсем не нравилось, так как потом он всегда щедро нам раздавал затрещины. Хотя, на самом деле, эти люди привозили папе острый перец. Отец притаскивал домой полную до краев корзину этих перцев, ворча себе под нос что‑ то неразборчивое. Если я правильно помню, такой корзины ему хватало где‑ то на неделю. Папа наш места себе не находил, пока не сжирал все острые перцы, которые мог найти в сотне метров от себя, а, сожрав и наевшись, скатывался под стол, и в глотке у него как будто вулкан извергался, это надо было видеть! Этот же мужик со своим сыном каждый год приводили нам козла. Иногда этот человек, о котором идет речь, приезжал в своей повозке без парнишки, которого мы считали его сыном, вот почему я пишу, что их было всего где‑ то около четырех, потому что когда он приезжал один, мы не были вполне уверены в том, что в другие разы он и впрямь с мальчонкой приезжал, может, паренек этот просто нам примерещился, так что, если с ним, с этим пацаненком считать, всего ближних наших было пять человек.
Тот, который чаще всего нас навещал, или наведывался к нам, назывался попрошайкой. Если судить по тем знакам внимания, которые оказывал ему отец, он, должно быть, был какой‑ то важной шишкой, имевшей доступ к шлюхам и целомудренным девственницам, о которых я обязательно в подробностях расскажу вам дальше, когда время придет, как и о чудесах, которых у него всегда было полно про запас, а, кроме того, он был немой и выражался гортанными звуками, как собаки. У него была только одна нога, которая росла вроде как из середины его туловища, как шутовской жезл, он подпрыгивал, передвигаясь по земле, как сорока, будто это его клюка по ней несла. Отец всегда давал ему что‑ нибудь выпить и закусить, тем, что сам стряпал, обычно бутербродом, потом говорил нам сесть с ними вместе за стол, то есть за тот стол, за которым сидели они, но брать нам со стола что бы то ни было из еды запрещал, разрешая только наблюдать за тем, как ест попрошайка, хотя иногда нам тоже очень хотелось есть, особенно брату, потому что он большой любитель брюхо себе набить. Когда отец нам про этого попрошайку что‑ нибудь говорил, тон его всегда был торжественным. Отец часто просил его встать и снять плащ и рубашку, прикрывавшую так сильно заросшее волосами тело, что он здорово смахивал на овцу, три зимы не стриженную, потом отец оттягивал большим пальцем губы попрошайки, так что обнажались десны, и тот начинал давиться от смеха с набитым ртом. Или еще, бывало, папа наш вежливо просил его лечь на спину, и мы с братом по очереди склонялись над его лицом, оттягивали ему пальцами веки и внимательно всматривались в его зрачки, радужные оболочки и все остальное, заглядывая в самую глубь попрошайкиных глаз, где папе, должно быть, виделись созвездия. Потом отец просил гостя повернуться перед нами на единственном своем каблуке, делал при этом многочисленные замечания, пояснявшие нам, что к чему у этого бродяги, и не упускал при этом ни одной мало‑ мальски значимой подробности. А под конец отец делал с ним такое, что невозможно было себе представить ни с одним другим из наших ближних, сам открывал ему дверь, провожая из дома, да еще давал ему с собой на дорогу котомку с едой, хотите верьте, хотите нет. После этого он заставлял нас повторять то, что мы узнали на его уроке, а если мы его не слушали, мог врезать нам по затылку. Это нам совсем не нравилось. А когда в те дни наступало время что‑ нибудь перекусить, мы так и оставались не солоно хлебавши, потому что такова была отцовская воля, и нам, глядя себе под ноги, надлежало размышлять о том, что значит побираться, и братец мой страдал от этого больше моего, потому что у меня, как вы сможете убедиться дальше, было больше возможностей добывать себе средства к существованию.
Следующий мой ближний так меня удивил, что я до сих пор продолжаю оставаться в изумлении от того, что у меня с ним приключилось, и все в толк взять не могу, зачем он к нам приходил. Видели мы его только раз, и так уж судьбе заблагорассудилось, что пришел он к нам в один из тех дней, когда папа с лошадью ушли в село. Сам‑ то я не сомневаюсь в его существовании, потому что он со мной разговаривал, руками меня касался, чтоб мне провалиться на этом месте. Я был тогда на той веранде, что за домом, в любимом своем укромном местечке, огороженном досками, и писал себе что‑ то, а рядом лежали нераскрытыми мои словари вперемешку с валявшимися вокруг котелками, из‑ за которых я даже не заметил, как он ко мне подошел. Брат мой улизнул на чердак и там спрятался, даже предупредить меня не удосужился, как вы сами понимаете, а человек тот был одет во все черное. В руках у него был небольшой портфель, от внезапности его появления я даже вздрогнул, а он мне задал вопрос, который показался мне в высшей степени странным:
– Это дом господина суассона?
Я никогда не видел никого, кто был бы на него хоть чем‑ то похож, вот вам крест, даже когда представлял себе то, о чем читал, даже на иллюстрациях. Он был старше нас, но, конечно, значительно моложе отца, я говорю об этом, чтобы у вас не было сомнений в достоверности моих воспоминаний о нем. Ничего из его одежды не было порвано, ни один волосок не выбивался из прически, так аккуратно и коротко он был подстрижен, вокруг рта не застыли остатки огуречного варенья, и усов у него не было, вообще ничего. Мне показалось, что весь он лучится сиянием, как отец, когда он летом выходит из озера и с него стекает вода. Он снова меня спросил:
– Это дом господина суассона, хозяина месторождения?
Сами понимаете, я даже вида не подал, что что‑ то понимаю. Притворился, что продолжаю писать, будто ничего не случилось. Но я прекрасно чувствовал, что губы у меня дрожат, как говорится, так, будто во рту летают пчелы. Он подошел ближе и коснулся моей коленки.
– Эй, я ведь с тобой разговариваю…
Этого мне хватило выше крыши. Я втянул голову в плечи, подогнул коленки к груди и свалился на бок, как сова, страдающая эмболией. Я тупо уставился в землю как раз между ботинок этого ближнего моего, но ничего особенного там не увидел, хоть глаза мои были широко раскрыты. То есть я хочу сказать, у меня было такое ощущение, что, не вылезая из глазниц, они все сильнее и сильнее раздувались, как круги на воде, когда в пруд бросишь камень. И листочки мои, на которых я писал, в грязь улетели, вот беда‑ то какая… Ближний‑ то мой решил, и правильно сделал, больше со мной не связываться и отошел в сторону, оставив меня в покое помирать естественной смертью, потому что было видно невооруженным глазом, что еще чуть‑ чуть, и я отдам концы.
Хотя, к вопросу о глазах, я все‑ таки украдкой на него исподлобья поглядывал, недвижимый, почти без дыхания, подражая другу моему богомолу, угнездившемуся у меня на запястье. А ближний этот тем временем похаживал по дому, с неодобрением поглядывал на запустение наших заброшенных владений, озабоченно строил удивленные гримасы, как будто от вида крыши, пристроек, конюшни и башен у него в причиндале кровь стыла. Он оперся рукой о подоконник, взглянул на него, потом бегло окинул взглядом обшитую досками кухню, посмотрел на перчатку, которой коснулся подоконника, брезгливо скривился и вытер ее носовым платком. После этого ближний снова направился ко мне, и я подумал, что эта пытка никогда не кончится. Он сказал мне что‑ то на прощанье, но в бедной моей головушке так все смешалось и конфузливо перепуталось, что я ни слова не разобрал, и только потом он, наконец, ушел. Господи, боже мой, неужто он и впрямь восвояси отправился? Я ощутил огромное облегчение, ко мне вернулось мое человеческое достоинство, я откинул голову назад и глубоко вздохнул. Нескольких досок в обшивке кухни недоставало, и там, где они должны были быть, виднелась стена, находившаяся как бы в углублении, которое шло прямо под крышу, и с самого верха на меня, свесив голову вниз, весело глядел братец, который все это время провел на чердаке в безопасности. Потом много ночей подряд я с трудом мог уснуть, когда ложился или отрывался от писанины, сердце мое начинало так колотиться, что, казалось, из груди выскочит, и когда брат заставал меня в этом состоянии отключки, он с глумливым ликованием тыкал пальцем в мою сторону, поглаживая себе при этом промежность, будто сама природа его к этому подталкивала, и вроде как хотел мне сказать: «Ха‑ ха‑ ха, да он только о прекрасном принце и думает! Ха‑ ха‑ ха, да ведь он, небось, влюбился! »
Это приводило меня в такое бешенство, что из глаз текли кровавые слезы, потому что, что это значит такое – влюбиться? Я готов был его кровью обрызгать. Вот что я хотел рассказать о наших ближних, про которых мне скоро придется продолжить рассказ, и вы сами увидите почему.
Летом по утрам, когда у папы возникало желание помериться силами с озером, он сначала кончиком пальца на ноге проверял температуру воды, как это обычно делают медведи перед тем, как войти в реку, вот и я сделал такое же движение мыском ботинка, проверяя, крепка ли колея разбитой дороги, перед тем как впервые в жизни на нее ступить, но земля подо мной не расступилась, дорожка та накатанная вполне мой вес выдерживала, вот я по ней и пошел вперед, не оглядываясь, храни, господи, брата моего. Следом за мной плелась лошадь. О том, чтоб я на нее взобрался, и речи быть не могло из‑ за ощущения, которое я испытывал, а еще потому, что папа мой этого не одобрил бы, будь он с нами на этом свете, в этом я был совершенно уверен. А все потому, что с годами лошадь нашу все больше и больше пригибало к земле, и если б я на нее вскарабкался, она бы брюхом своим проскребла все дорожные выбоины и колдобины, а мне никакой радости не доставляет видеть, как животные мучаются без всякой надобности.
Это мне напомнило, что однажды братец мой сделал с бедными птичками. О куропатках можно думать что угодно, но их тоже надо попытаться понять. Брат их как‑ то поймал, штуки четыре или пять, уж не знаю, как это у него получилось. Так вот, он обмазал их скипидаром, если память мне не изменяет и слово это правильное, потом запалил спичку, обласкал их одну за другой пламенем и отпустил на все четыре стороны, как будто только о том и думал, как бы кому гадость сделать. Куропатки, что тут скажешь, они просто обезумели, это же так естественно. Замахали они изо всех сил крылышками и так быстро полетели, что тут же разбились о стекла в окошках часовни, чтобы покончить с пыткой и горем своим из‑ за этой огненной западни, и я бы то же самое на их месте сделал, это я вам точно говорю. А папа, когда узнал про это гнусное злодейство, сами можете себе представить, как он брата по‑ свойски отколошматил, потому что папу нашего охватывал священный ужас, когда дело касалось пожаров, уж не знаю, что мне в голову взбрело об этом написать. Но братишка мой, бедняга, в тот день, доложу я вам, от души схлопотал на орехи. Лежал он потом в чем мать родила, как будто папа из него весь дух вышиб. Теперь все это уже быльем поросло, как и всякая другая ерунда на планете этой окаянной.
Я вошел в сосновую рощу. Страха, который должен был бы меня охватить, как мне почему‑ то казалось, я не испытывал, ощущение было более странным, чем страх, я так себя чувствовал, будто это лошадь меня двигала вперед своим дыханием, очень странно, правда, и в то же время в душе я трепетал от ужаса перед каким‑ нибудь неведомым явлением, с которым вот‑ вот столкнусь, мне все казалось, что небеса вдруг разверзнутся и пошлют мне прямо под ноги молнию, чтоб я дальше вперед не мог идти, или за ближайшим поворотом дороги окажется бездонная пропасть, бурлящая багровым туманом, но ничего такого не произошло, и я продолжал путь, думая о том, не послать ли мне все это к чертовой матери. Еще меня очень одолевали незнакомые запахи. Они вдруг ни с того ни с сего возникали невесть откуда, и я даже подпрыгивал от неожиданности, потому что всегда подпрыгиваю, когда незнакомые запахи мне бьют в нос, как в тот раз, когда я клевал носом над словарями моими, а потом вскочил на ноги от неожиданности, потому что братец сунул мне под нос два пальца, которыми он прямо перед этим сосиску свою мял, и тут же сбежал, мерзавец, гогоча во всю глотку, а я рванулся за ним, чтобы обрызшть его кровью, и кричал ему вслед, что он не брат мне, а выродок какой‑ то, вот. Но на обочине дороги, что шла через сосновую рощу, росли кусты шиповника, и запахи были приятные, как будто фея решила себя потешить и меня удивить ароматами из своего рога изобилия, полного чудес, разбрасывая эти ароматы, как розовые лепестки на дороге, по которой должен проследовать принц. Мне это показалось добрым предзнаменованием.
И в то же время душу мне бередила какая‑ то опустошенность, потому что нет ничего без изъяна под твердью небесной.
Я никогда не покидал пределов наших владений с тех пор, как вырос настолько, чтобы помнить о том, что со мной приключалось, и эта моя воздержанность, как мне тогда казалось, должна была бы быть вознаграждена способностью к удивлению, но кроме запахов, о которых я уже говорил, разрыва непрерывности не ощущалось, я шел себе и шел вперед по пространству, которое, как мне представлялось, тоже само двигалось в ногу с моими шагами, и впервые в жизни воочию смог убедиться в том, о чем раньше только читал в словарях, а именно, в том, что земля круглая, как луковица. И если бы я в самом конце этой дороги снова вышел к нашему дому, я бы, наверное, даже не удивился. Я взял с собой на всякий случай лопату, чтобы, если понадобится, было, чем защититься от змеев или львов, представьте себе на минуточку, и конец ее точно так же шуршал по земле, как по камушкам в трех шагах от крыльца нашей мирской обители, и я себе сказал, что вряд ли надо было пускаться в путешествие, чтоб в этом убедиться.
Ну, да ладно. Мне в голову пришла замечательная мысль о том, чтобы обмотать лошадь веревкой, как подпругой, и на ее огромном животе, о котором я уже раньше писал, образовались две такие небольшие впалые выпуклости изрядно потрепанной плоти, а конец веревки свисал вниз, как сосиска у брата. А когда гроб был бы куплен, его можно было бы просто привязать к этой веревке, и лошадь волочила бы его за собой как сани, а я бы в свое удовольствие мог сколько душе угодно дурака валять, вот здоровото было бы! Видать, он парень не промах, секретариус‑ то наш. А потом вдруг с левой стороны за деревьями возникло село, и это так меня удивило, что я от неожиданности замер на месте как вкопанный, а лошадь, витавшая в облаках, уперлась теплым носом мне в спину прямо между шпатками, потому что шла с опущенной головой, как все звери, которые уже все на этой планете повидали и привыкли ничему не удивляться.
А я так удивился, потому что село совершенно не походило на мое о нем представление, и то, что я увидел, даже вообразить себе было невозможно, потому что я‑ то думал, там дворец стоит какой‑ то или замок какой‑ нибудь с подъемным мостом через ров, ковры‑ самолеты повсюду в воздухе, как жуки‑ светляки в Японии, обутые в сандалии пастухи с овцами, блестящие доспехи, как были у Жанны д’Арк уже под конец, но там стояли только такие же дома, как наш, разве что не такие старые и размером поменьше, все на одно лицо, будто близнецы, если только то, как я это слово понимаю, к ним может подойти. Я сразу же заметил церковь, как вы понимаете, в вопросах теологии я собаку съел, меня здесь на мякине не проведешь. Лопату я поставил у дерева, решив, что заберу ее на обратном пути, потому что село, как мне показалось, свирепыми чудовищами кишмя не кишело.
И первое, с чем я там столкнулся, с места мне не сойти, были колокола, потому что они звонили, а звон их у меня в голове вызывал совсем другие ассоциации. Сейчас объясню вам почему. Я уже говорил, что в вопросах теологии собаку съел, и все такое, потому что в церквах и во всем, что с ними связано, я знал толк с тех самых пор, как запомнил первые папины затрещины, потому что папа нам все про церкви объяснял и внутри, и снаружи, и картинки еще при этом в словарях показывал про неф, про крестные перегородки, трансепты с колокольнями и про все остальное. Папа нас заставлял все заучивать наизусть, и при этом ему было не до шуток, я ведь вам только что про затрещины не ради красного словца намекнул, думаете, нам нравилось битыми ходить? На вопрос: «Что делают колокола? » я неизменно отвечал: «Бу‑ у‑ у‑ м, бу‑ у‑ у‑ м, бу‑ у‑ у‑ м», потому что сбить здесь меня с панталыку не смог бы никто, я совершенно точно знаю, что этот ответ правильный, но только я никогда не связывал его с глухим звоном, время от времени доносившемся до нас со стороны сосновой рощи, если ветер дул в нашу сторону, то есть от рощи к дому, и я всегда думал, что этот звук доносится от туч или облаков, что это у них такая музыка получается, когда они сливаются друг с другом или сталкиваются, стукаясь друг о друга вроде как бы толстыми животиками, даже не знаю, как это лучше выразить, и только теперь до меня дошло, что на самом деле эти так хорошо знакомые нам звуки и есть «бу‑ у‑ у‑ м, бу‑ у‑ у‑ м» церковных колоколов, но как же, скажите мне на милость, я раньше‑ то мог об этом догадаться? На колокольне нашей часовни во владениях наших колоколов нет, и я не пророк. Это открытие так меня взволновало, что, ничтоже сумняшеся, я плюхнулся прямо на землю, словно на паперть церковную, как подрубленный, и подумал о том, какой этот звук грустный, и даже всхлипнул пару раз от печали этого звука глубокого, потому что доносился он до нас от земли, а тучи с облаками ни о чем нам не вещали, они просто грохотали. Но я тут же сказал себе, что не развлекаться сюда пришел.
И вторая вещь, поразившая меня до глубины души, заключалась в том, что не прошел я по селу и трех минут, как увидел ближнего моего и каким‑ то шестым чувством ощутил, что этот ближний оказался либо шлюхой, либо целомудренной девственницей. Это существо было одето во все черное, что сближало его с некоторыми другими моими ближними, если только я могу высказать здесь свое суждение, и шло оно, сгорбившись настолько, что мне его стало жалко, должно быть, она прожила на земле даже больше отца нашего, потому что при взгляде на ее лицо на ум тут же приходило сравнение со сморщившейся залежалой картофелиной, такая вот у нее была физиономия. Она взглянула на меня, можно сказать, вроде как с удивлением, как на что‑ то, что приятным зрелищем никак нельзя назвать, хотя, может быть, мне это только показалось, и так сложила руки, чтобы прижать сумку к своим опухолям, но с моей точки зрения это была излишняя предосторожность, потому что на ее сумку я вовсе не покушался, и к тому же она шла по другой стороне улицы, и между нами была лощадь, понимаете?
– Папа умер! – крикнул я ей.
Я так и не понял, уловила она смысл тех слов, которые вырвались у меня изо рта, или нет. Глядя на нее, я так и не смог определить, какого она пола – целомудренная девственница, шлюха или еще кто‑ нибудь, потому что опыта и всего остального у меня в таких вещах было маловато, и еще потому, что в словарях не всему дано объяснение, а я хорошо знаю свои возможности, можете мне поверить. И по опухолям и по всякому другому здесь судить нельзя, я сам живое тому доказательство. Мне тут же захотелось самым убедительным образом выказать ей безупречность своих благих намерений, потому что я совсем не люблю смотреть на беспричинные страдания. И я снова ей крикнул:
– Да пребудет с тобой господь, шлюха старая! – потому что, обращаясь к ней, я мог выбирать только одну возможность из двух.
Но я там был не для того, чтобы ближних своих благословлять, и потому, как только слезы мои высохли, я отправился дальше по дороге через село. Уж не знаю, откуда у меня взялось столько отваги, должно быть, ее питало мое чувство долга по отношению к отцу. Раньше, когда папа еще был жив, у меня не было никаких резонов обращаться к моим ближним, а теперь, когда он сам уже не мог за себя постоять, должен же был кто‑ нибудь взять это на себя и еще сосновый ящик ему найти, и это чувство ветром дуло во все мои паруса. А еще я заметил, что, единожды нарушив папин запрет переходить границы наших владений, я теперь мог и другие его запреты нарушать с такой же легкостью, с какой летом ходил в ближние рощи, где кусты оплетала тонкая паутина, украшенная серебряными каплями, которые потом утренними звездами оставались у меня на волосах.
На одном из домов черным по белому было написано: «Универсальный магазин». Вы уж меня простите, извините меня, пожалуйста, но читать секретариусы обучены. Дом был с большими такими окнами, за которыми стояли всевозможные товары. Я оставил лошадь посреди дороги и зашел внутрь со своими грошами. Там было очень много разных вещей, которые есть и дома, только они там лежали в огромных количествах, еда, например, в картонных коробках, а еще там были вещи, которых дома не увидишь никогда, например, бамбино, так это называется, и ростом этот бамбино был мне где‑ то по коленку. Я спросил у бамбино, можно ли мне обменять мои гроши на гроб, но с таким же точно успехом я мог бы задать свой вопрос белым камешкам цвета папиного трупа, наваленным на дне высохшего ручья. Я положил руку на череп бамбино, мягкий и покрытый светлыми волосиками, и – честное слово вам даю – это как‑ то на меня подействовало. А все, должно быть, потому, что мы с братом часто видели на иллюстрациях, как эти бамбино поднимаются в воздух, словно воздушные шарики, потому что на спинках у них крылышки такие маленькие, которые у них сохраняются еще несколько лет после чистилища для младенцев, которые умерли до крещения, до тех пор пока они не полиняют, не перевоплотятся и не изменят свой облик, как, например, гусеница в бабочку превращается, то есть никакого тебе вознесения не будет, пока положенный срок не выйдет. Так вот, как я уже говорил, положил я руку ему на голову, но, может быть, он тех звуков не понимал, которые с языка моего срывались, как с трамплина пружинистого, почем мне знать? Слова‑ то ведь у меня во рту, в пространстве между щек образуются, и язык мой потом оттуда выталкивает их наружу с невероятной скоростью, а потому я не исключаю, что все они проскочили поверх головы бамбино, у которого хоть, казалось, и были крылышки, но головкой своей он мне едва доставал до бедра. И тогда, чтоб до него лучше дошло, я попытался мимикой довести до его сознания идею о бренных останках – я замер на месте не двигаясь, закрыл глаза, показал ему пальцем на верхнюю губу, чтоб он понял, что речь идет о папиных усах, и все такое, а потом кончиком носа повел в сторону каких‑ то коробок в надежде, что он хоть что‑ то сообразит, но результат был такой, как вы уже сами поняли. И в этот самый момент к нам вышла шлюха.
Которая появилась из глубины магазина, так это заведение называется. Как можно было предсказать заранее, на ней было черное платье, на голове красовалась небольшая шляпка, которая, как мне показалось, была самой нелепой вещью в мире, с серой вуалью, ниспадавшей ей на глаза, как будто были такие вещи, которые ей не хотелось видеть или она готова была на них смотреть, только если видела их как бы вполглаза, как будто смотришь & а руку, которой прикрываешь глаза от слишком яркого света, и она натягивала перчатку. Она мне сказала, что закрыта по чрезвычайной причине похорон, а я ответил ей, что именно об этом я только и думаю: как же быстро новости разносятся! Из‑ за того, что глаза ее не были мне видны, я никак не мог определить, так ли она быстро соображала, как я, или она дотягивала только до той ступени, до которой дорос братец, и меня это сильно доставало, потому что, чем еще, кроме выражения глаз, скажите на милость, отличается человек от своих будущих бренных останков? Так что я стал стараться изо всех сил. Но попробуйте объяснить шлюхе, что перед тем как человека похоронить, вам нужно иметь гроб, который кладут в могилу! А она мне все свое твердит, закрыта я, закрыта, вы, что, не понимаете что ли? Если кто‑ то закрыт, это не мешает ему выполнять свой долг, сказал я ей, выходя из себя, на что у меня были все основания, потому что я уже раскипятился как чайник и был готов взорваться как бомба, но тем не менее сдержался и сказал ей в точности вот такие слова:
– Все очень просто. Вы и ваш бамбино даете мне гроб, я даю вам мои гроши, мы кладем внутрь бренные останки, а потом на опушке сосновой рощи копаем могилу и опускаем в нее гроб с останками.
Ну, и дела! Ее неожиданные всхлипывания поставили меня в тупик. Я никак не мог понять, почему папина смерть могла настолько ее опечалить, потому что большую часть времени, проведенного на земле, он оставался с нами, так что не могло быть ничего такого, что оправдывало бы такую сильную привязанность к нему этой шлюхи, что она прямо разрыдалась, услышав про его труп, – а я разве плакал? – хоть я‑ то ему сыном прихожусь, провалиться мне на этом месте. Она исчезла в глубине своего магазина, прижав платочек к носику и забрав с собой бамбино, который смотрел на меня, посасывая себе пальчик, и до меня донеслось, как она там кому‑ то там сказала:
– Разберитесь там, пожалуйста, сами. Я не могу это больше переносить.
Вот тебе и на! Я увидел двоих мужчин, которые шли в моем направлении, это, наверное, судьба так распорядилась. Я вздохнул про себя при мысли о том, что в этой жизни совершенно бессмысленно даже пытаться себе что‑ то объяснить, я вам самим предоставляю догадаться о том, какого цвета была их одежда. Это же надо, как странно все они были одеты! Больше мне к этому даже нечего добавить. Такое, понимаете, складывалось Впечатление, что в этой одежде они были как неживые. Уж не знаю, может, у них привычка такая каждый день в новой одежде ходить, или еще там что, но к виду людей, которые теряют своих отцов, они были явно непривычные, они так на меня уставились, как будто у меня посреди лба рог вырос. Один из них подошел ко мне поближе. Он мягко положил мне руки на плечи, и эта мягкость его вроде как‑ то меня тронула, а он стал потихоньку меня подталкивать к выходу, через который я сюда вошел, и сказал он мне при этом такие слова:
– Постарайся ее понять, она мужа своего хоронит.
Он сказал мне название специального магазина похоронных принадлежностей на другом конце улицы, где я мог купить гроб, если именно он мне был нужен, а еще он мне сказал, что тот магазин сегодня закрыт из‑ за похорон, как и ратуша, где я, по всей видимости, должен зарегистрировать собственного покойника. Потом он мне сдержанно так вручил свою визитную карточку, которую я здесь приклеил, облизав ее предварительно своим длинным, как у быка, языком:
Росарио ДЮБЕ
Адвокат, Мировой Судья и Нотариус
12, Главная улица, Сен‑ Альдор
Глава 3
Я встретился с лошадью посреди улицы и по глазам ее определил, что ей не терпелось узнать, увенчались ли мои усилия успехом, так что пришлось ей честно признаться, что поставленной цели я не достиг. Я взял ее под уздцы, и мы печально поплелись дальше. Шли мы по улице как потерянные, представляя собой поистине удручающее зрелище, потому что какое еще впечатление я мог производить, если из‑ за приключившегося конфуза мне предстояло вернуться к братцу без гроба? Так что уселся я на ступеньку на церковной паперти рядом с кучей собачьего дерьма, что я тут же определил по ее прекрасной форме, и присесть я там решил именно из‑ за нее, потому что вокруг нее вились мухи. Дело в том, что время от времени нам надо запасать корм для лягушки – нашей единственной, или почти единственной, игрушки, чтобы кормить ее тем способом, о котором я уже писал раньше, а когда речь заходит о ловле мух, должен вам сказать, что в этом искусстве с вашим покорным слугой никто не может сравниться, я даже могу одновременно поймать по мухе каждой рукой, и братцу до меня в этом деле, ой, как далеко. Но в тот момент у меня для этого ни желания не было, ни банки, куда мы складываем наших дохлых насекомых для этой цели, поэтому я просто давил пальцами пойманных мух и бросал их на землю, думая о том, что нечего по этому поводу печалиться.
Колокола тем временем перестали звонить, не помню, писал я уже об этом или нет, потому что в укрытии, где я схоронился, мне приходится писать очень быстро, и нет времени перечитывать написанное, но я убил не больше девяти мух, когда снова раздался колокольный звон, причем на этот раз звонил только один колокол, и звук его был тревожным и проникновенным, как биение сердца ребенка, который собрался помереть, если такое когда‑ нибудь случается, то есть я хочу сказать, если дети вообще помирают.
А потом они все повалили из домов во всех направлениях. Если вам хочется посмотреть на ближних, лучшего места для этого не найти! Они возникали отовсюду, бог знает, откуда, я насчитал их на все пальцы руки, потом двух рук и еще раз двух рук, всего их было никак не меньше, чем сорок–двенадцать, некоторые из них были больше на ближних похожи, другие, наверное, больше на дальних смахивали, подумал я себе, и все они говорили что‑ то, вроде как обсуждали, но меня‑ то им все равно было не запугать, а потом они все как один направились к церкви, где я сидел. Мы с лошадью, должно быть, выглядели очень странной парой, или я что‑ то в этой жизни недопонимаю, но судил я по тем взглядам, которые они на нас бросали, и вам я бы совсем не пожелал, чтоб на вас так кто‑ то глаза пялил.
Я встал на ноги, потому что понятия не имел, что надо делать в такой ситуации. Они все сбились в кучу около универсального магазина и стали похожи на овец на картинках, для которых нет большей радости, чем уткнуться в хвост соседа, который стоит спереди, потому что запах его бодрящий очень поднимает настроение, и двигаться как один зверь о пятидесяти–тринадцати копытах, который называется сороконожка. Мне стало ясно, что в той стране был такой обычай, что все старались уподобиться покойнику, который в тот день скончался, потому что у всех моих ближних рожи были такие, что краше вгроб кладут. Я говорил вам уже, что уже наступила осень? Повсюду валялись первые опавшие листья, еще зеленые, и я сказал себе, что они тоже здесь как будто специально раскиданы. Потому что, когда листья уже начинают краснеть, мух становится меньше, и это плохо, но, с другой стороны, летают они уже медленнее и ловить их становится легче, поэтому я очень скоро разделался со столькими мухами, сколько пальцев на двух руках без одного. В общем, мне как‑ то не светило присоединяться к стаду ближних. И того уже было достаточно, что они – мои ближние, и становиться одним из них мне совсем не хотелось, даже если бы они меня до себя допустили, в чем я глубоко сомневаюсь, и скоро вы увидите почему. Если я правильно разобрался, что там к чему, среди них было столько же шлюх и целомудренных девственниц, сколько и остальных, а бамбино было значительно меньше, уж не знаю, куда их могли попрятать и почему, самый маленький из них дорос мне где‑ то до опухолей, на нем была поношенная мужская шляпа, и выражение лица было такое печальное, что я даже стал сомневаться, был ли он на самом деле бамбино, и в любом случае, что касается крылышек, так от них у него только намеки, должно быть, остались. Тем временем из универсального магазина вынесли гроб.
Хотя, на самом деле это вовсе и не гроб был, а настоящий замок, сбитый из шести толстых досок. Никогда в жизни своей пропащей я не видел ничего прекраснее, и даже лошадь при виде него заржала, сделала то, что уже целую вечность ей делать не доводилось, она заржала. Лошадь заржала! Я, правда, так себе думаю, что, когда такое внимание самому ящику уделяется, вряд ли внутри него может лежать что‑ то дельное. Такая забота о форме, как мне представляется, ничего толкового не может оставить содержанию. И такая изысканность в отделке ящика, продолжал я гнуть себе свою линию, никак не соответствует той пустоте, которая в нем содержится, можете мне поверить. Деревянная крепость, думал я, убежище пустоты, что там еще может быть? Даже слов подходящих не могу подобрать, чтобы выразить то, что в душе накипело. Бывает, и со мной такое случается. Но вам надо было бы видеть, что могло бы получиться, если бы все это стал описывать мой брат!
Шлюха, с которой я недавно разговаривал в магазине, та самая, которая хвасталась, что покойник ей приходится мужем, с напыщенным видом вышла вслед за гробом, одной рукой она прижимала платочек к носу, а другой вела своего херувимчика, который, казалось, очень удивлялся всему, что творится вокруг. Мне стало его жалко той жалостью, какой один сирота жалеет другого, и если бы я близко к нему стоял, я бы его исподтишка до крови ущипнул.
Толпа понемногу преображалась в длинное колыхавшееся животное, во что‑ то вроде змеи с ногами, а там, где у змеи голова, я все ждал, что откроется гроб и из него высунется язык наподобие раздвоенного жала, хотя, если судить по тому, что мне доводилось читать, сами по себе гробы редко открываются изнутри. А хвост змеюки, от которого я находился на порядочном расстоянии, стараясь, как вы сами понимаете, держать дистанцию, еще даже не начал двигаться, когда поблескивавшая голова этой рептилии заползла в проем церковной двери, и один из ее колоколов стал бить ударами, отдававшимися у меня в висках, бу‑ у‑ у‑ м… бу‑ у‑ у‑ м… Я стоял там, переминаясь с ноги на ногу, скрипя зубами от нетерпения, но в мозгу свербела только одна мысль – скорее, хотел я им сказать, скорее давайте, быстрее. Но здесь вы обязательно, должны иметь в виду, что на похоронах, все всегда происходит очень медленно, быстро там никогда ничего не делается, даже если бы по большому счету ускорение этого процесса соответствовало доводам и этике спинозы, потому что тогда дело выглядело бы так, будто вам хочется поскорее избавиться от того, чего больгше нет, и вы, таким образом, уделяли бы слишком большое внимание несущественным мелочам. Чем больше кто‑ то превращается в ничто, тем больше ему нужна моральная поддержка. Отсюда и возникает потребность заботиться о покойнике, поскольку, когда кто‑ то умирает, ему особенно требуется помощь, потому что живые и сами за себя могут постоять, вот вусть они сами о себе и заботятся, если вы хотите знать мое мнение, и на самом деле так оно и бывает, насколько я могу судить. Недавно я вычитал в одном словаре, что на камни, которые лежат над теми ямами, куда зарывают покойников, полагается класть цветы, чтобы у них не возникло даже тени сомнений в том, что вы их туда закопали не ради собственного удовольствия, и что вы о них все еще думаете, и что, принимая все это в расчет, вам бы больше хотелось, чтоб они были с вами, а я так люблю цветы, которые мне никто никогда не дарил, как в тех самых чудесных историях, которые я читал, что я бы сам себя закопал в могилу, если бы только брат мой после этого решил мне приносить туда цветы, рассудив, по здравому размышлению, что лучше бы ему было, если б я с ним остался, сами посудите. Вот такие мысли роились у меня в голове, и, конечно, все они были навеяны свежими воспоминаниями о папе, когда я увидел, что последние могильщики заходят в церковь, а я стою там себе посреди площади, держа лошадь двумя пальцами под уздцы.
Нас потом обвинили в том, что мы, то есть я и лошадь, вошли внутрь, но разве кто‑ нибудь удосужился подумать о том, что именно привело нас в святой храм? А привела нас туда музыка. Я задал себе вопрос: как же это кто‑ то осмелился сотворить такое с бренными останками, которые уже даже сами за себя постоять не могут? Меня от музыки с души воротит, чуть наизнанку не выворачивает. Потому что музыка, понимаете, она как нескончаемое унижение, как ненасытный осьминог, который нас пожирает. Стоит мне услышать музыку хоть в сотне метров, как сердце из меня будто выпрыгивает, из живота моего, где ему жить положено, выскакивает на землю, пока я смотрю себе тупо вокруг, как потерянный, даже если глаза закрыты, а потом оно как на резинке в меня с оттяжкой возвращается И пулей мне в груди дырку пробивает навылет, она незаживающей раной возрождается в каждой ноте, и я могу от нее помереть самой блаженной смертью, вот какая она свирепая, и жестокая, и непереносимая, прямо как сама жизнь. Я даже не говорю о том, что в наших душах она оставляет самые жуткие воспоминания, Жуткие, если они хорошие, именно потому, что это только воспоминания, и жуткие, если сами воспоминания жуткие, так как это значит, что они нас не покинут, покуда мы не переступим порог могилы, за которым лежит никому не ведомое, и оно, может быть, еще хуже того, что творится, как говорят, на этом свете, уж не знаю, поспеваете вы за логикой моей мысли или нет.
Ну, да ладно, как бы то ни было, я‑ то знаю, о чем говорю, у нас еще совсем недавно в доме тоже музыка звучала, когда раньше, еще только вчера, папа там всем командовал. У нас там всякая музыка была, но особенно на меня действовали две ее разновидности. Прежде всего та, которую папа играл сам с помощью собственных пальцев и рта, а также моих ног, о чем я вам поведаю чуть дальше, потому что это того стоит. А еще была другая музыка, которую играли феи, но есть кое‑ что, о чем мне сначала надо вам рассказать, хоть это, может, вас и очень удивит, но вы уж мне поверьте, пожалуйста. У папы был один такой волшебный генератор, так эта штука называется, так вот, он у него всегда стоял в спальне, кроме тех случаев, когда он взваливал его себе на спину и, поддерживая руками, тащил через сосновую рощу в направлении холмов, если я правильно понимаю, чтобы его наполнить, и мы с братом никогда до него не дотрагивались, потому что не хотели, чтоб нам досталось на орехи. Я вам об этом рассказываю, чтоб вы могли себе представить, какими силами был наделен наш отец. Как‑ то раз он встал в позу, в которой выглядел очень забавно, и с торжественным видом начал объяснять, что во вселенной существуют невероятные силы, прежде всего на небе, и чтобы в этом убедиться, достаточно увидеть молнию, услышать гром, сочувствовать дуновение ветра и тому подобное. А теперь, если только вам хватит – воображения, представить себе, как можно одеть огонь в одежды, скажу вам, что вы сами можете вызывать эти силы, которые еще называются духами, вы можете заставлять их появляться пред собой в огненных сполохах, и если знать, как с ними обращаться, вы сможете их поймать и упрятать в ящик, а если, скажем, у вас еще окажутся подходящие веревки, тогда вы сможете привязать этот ящик к другому, в котором внутри черных дисков, дающих нам музыку, заключены феи, потому что все во вселенной между собой связано силой колдовских уз, вот именно об этом я и хотел вам рассказать. Папа, бывало, поднимался к себе в спальню и плотно закрывал за собой дверь. Нам даже дыханием своим нельзя было намекать на то, что мы вообще на этом свете существуем, отец требовал абсолютной тишины, чтоб он мог ее заполнить мелодиями, иначе подзатыльники нам были обеспечены. Я тихонечко располагался с другой стороны двери, не говоря ни словечка, дышать старался как друг мой богомол. Попробуйте себе представить, как вечером на пламя свечи летит мотылек и дотла в нем сгорает, сам я это много раз видел, вот и мое отношение к музыке точно такое же. Брат прижимался ко мне сбоку и начинал от этого дурацки хихикать, это все, что он умеет, или смеяться, напирая на меня и наваливаясь, или реветь, или из себя меня корежить. А музыка била искристой струей, и отзвуки ее мне напоминали о том, как мы с братом дурачились, зажимая друг другу носы смеха ради, и говорили о чем‑ нибудь с зажатыми носами. Иногда папин голос перекрывал мелодию, вел ее какое‑ то время, прилично искажая, и, должен вам сказать, это было прекрасно до жути. А еще, как я уже говорил раньше, у нас была другая музыка, которую папа играл с помощью пальцев, рта и моих ног. Дело в том, что у нас в доме, в библиотеке, вместе со всеми словарями стоял музыкальный инструмент, который и сейчас там должен стоять, если я правильно понимаю, несмотря на все, что на нас обрушилось за последние два дня. Инструмент этот невероятно сложный, он устроен в три слоя или в три ряда с клавишами в каждом ряду, а еще в нем есть всякие трубки разных размеров и такая штука вроде насоса, которую надо качать, чтобы дуть во все эти трубочки, как раз для этого и были нужны мои ноги. У брата ноги крепче, надо отдать ему должное, но он никак не мог удержаться от своего дурацкого хихиканья, хотя, как вы сами понимаете, подзатыльников ему за это перепадало достаточно, и потому отец поручал мне качать насос, воздух из которого дул в эти трубочки, и от тех усилий, которые надо было для этого прикладывать, как и ют тех чувств, которые вызывала в моей щуше музыка, я себе все глаза выплакивал, склонив голову и качая ногой насос, я качал, а слезы текли по щекам, как пауки свисали на своих паутинках, скатываясь дальше вниз по длинным моим волосам. Час спустя я чувствовал себя как выжатый лимон, да, именно так я себя и ощущал. А еще у нас были свирели, такие маленькие, как флейты‑ флажолеты, и бубен, но об этом я вам расскажу, когда время придет, как и про козла со всеми его причиндалами.
Так вот, мы с лошадью были до глубины души потрясены тем, что музыка, звучавшая в церкви, точь‑ в‑ точь напоминала звуки, доносившиеся из папиного инструмента с трубочками, а ведь я наперекор всем доводам разума лечу на музыку, как мотылек на пламя, которое мне всю душу сжигает, и мы, то есть лошадь и я, зашли внутрь храма, потому что та музыка доносилась изнутри.
И, скажу я вам, пусть тому пусто будет, кто затеял весь этот скандал, честное слово! Мы с лошадью прошли по всему длинному проходу между скамьями. Прямо перед нами стоял раскрытый гроб. Пока мы шли у всех на виду, священник без особого энтузиазма помахивал кадилом, уж я‑ то знаю, как эта штука называется, глаза его были прикрыты, он что‑ то бубнил себе под нос и выглядел так, будто напряженно размышляет над тем, что причиняет ему острую боль. В протянутой руке я держал свой кошелек с грошами и, проходя мимо рядов скамеек, печально показывал его сидящим на них людям, повторяя одно и то же: будьте добры, будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, гроб. Мы с лошадью, должно быть, представляли собой тоскливое зрелище. Уж не знаю, что там приключилось с сердцами людскими в этом селе, люди там все, наверное, просто бессердечные, так мне в тот момент показалось. Хотя, справедливости ради, должен вам сказать в оправдание села, что была там одна старая шлюха в третьем ряду, вся сгорбленная, которая, несмотря ни на что, взглянула на меня без ненависти, и мне даже почудилось, что под ее серой вуалью мелькнула печальная улыбка, в которой – господи, ты, боже мой! – было что‑ то напоминавшее сострадание, лишь одна старая шлюха во всей той церкви вошла в мое положение, и мне хочется думать, что создатель всего сущего припасет для нее легкую кончину, такую же, как для цветов или бабочек, я от души ей этого желаю, потому что до самой своей могилы не забуду ее понимающей улыбки. Тут двое схватили меня сзади так, что я и шевельнуться не мог. Уж не знаю, были это те же самые люди, которые совсем недавно говорили со мной в универмаге усопшего, бывают такие моменты, когда мне все во вселенной кажется взаимозаменяемым. Только я от этого взбеленился как бешеный козел и заорал во всю глотку:
– Вы же этой музыкой терзаете своего покойника!
Я так им это прямо в лицо и высказал, всем, кто там собрался, кроме старой улыбчивой шлюхи, которой в тот краткий миг послал улыбку в ответ. Их было всего двое, не помню, говорил ли я уже об этом, я имею в виду двух мужчин, которые схватили меня сзади, как подлые трусы, но они были гораздо сильнее меня, а с законами природы не поспоришь.
Лошадь моя, бедняга, так от всего этого бедлама перенервничала, что во весь опор вылетела из церкви, просто пулей вынеслась, я и представить себе не мог, что она способна на такую прыть, и поскакала она по дороге в направлении, противоположном тому, в котором мы двигались раньше. Она неистово ржала, брюхо ее чуть не волочилось по земле, и скакала она к сосновой роще, за которой стоял наш дом, где лежал папа, так до сих пор и не получивший своего гроба. Просто уму непостижимо! Они меня оставили посреди дороги, за порогом храма, угрожающе руками размахивали, пальцами своими в мою сторону тыкали, что‑ то мне говорили сделать, но было уже слишком поздно, я находился в таком состоянии, что абсолютно ничего не понимал в том, что происходит вокруг: я впал в отключку. Не знаю, сколько я там стоял на этой площади, потому что, когда я впадаю в отключку, время сжимается, или растягивается, или начинает описывать круги, и уследить за его ходом нет никакой возможности, а потом оно снова начинает перестраиваться в прямую линию только тогда, когда я опять начинаю двигаться, но, черт его знает, что происходит с часами в промежутке. Рука моя напряженная поднята вверх, ногти пропарывают брюхо небу, голова в недвижимости свесилась набок, глаза тупо уставились в одну точку, рот широко раскрыт, задница так отклячена, что кажется, из нее вот‑ вот комета со взрывом вырвется. Вам может показаться, что я выточен из камня, но откуда же вам знать, что, когда я впадаю в отключку, внутри у меня все напрягается и обостряется до беспредельности? Взгляд у меня затуманенный, как будто я смотрю на все через окно своим внутренним взором, тем своим глазом, который сокрыт внутри черепа, я вижу им все во всех направлениях, ничто от него ускользнуть не может, я возношусь в пределы свои телесные, как будто прячусь на чердаке и подсматриваю в глазок за всем миром, вот вам еще один глаз. Если только я пошевелю своим самым маленьким пальцем, который называется мизинец, как будто мне что‑ то почесать захотелось, вся вселенная может расколоться вдребезги, вот что я вам скажу, чтобы вы получили хоть отдаленное представление о том, что со мной происходит, когда я впадаю в отключку. Порой я ничего не могу с собой поделать, одна моя нога начинает подрагивать, и от этого стоит такой грохот, будто всю землю вот‑ вот охватит землетрясение, и я должен унять эту дрожь в ноге без помощи рук, чтобы предотвратить неминуемый катаклизм, а это гораздо труднее, чем качать воздух в трубки органа, да, именно так называется этот музыкальный инструмент. Папа, бывало, тоже впадал в отключку, не помню, говорил я вам об этом или нет. Это у нас семейное.
Но, как бы то ни было, через некоторое время все они стали вслед за гробом выходить из церкви, и было непонятно, собираются ли они следовать за ним до могилы, чтобы их там вместе с ним похоронили из‑ за какого‑ то дурацкого наваждения, какое бывало у нашей собаки, когда она от меня ни на шаг не отходила, пока из меня омерзительно текла кровь. На самом деле именно поэтому папа в конце концов и подложил ей в хлеб насущный нафталиновые шарики. Я вам позже подробнее расскажу про это дело с кровью, которое может показаться в высшей степени странным, да оно и в самом деле совершенно непонятное.
Так вот, вывалила вся эта толпа на улицу. По выражению их лиц было ясно, что они еще не привыкли видеть во мне своего ближнего, я бы никому не пожелал, чтоб на него кто‑ то так пялился. Все они постепенно сгрудились вокруг меня, образовав круг, и это было ужасно, доложу я вам, потому что я начал паниковать, крыша у меня от этого поехала, причем так сильно, что я даже стал постепенно выходить из отключки. Я медленно, урывками начал поворачиваться на левой ноге, как попрошайка, собирающий милостыню, потряхивает погремушкой, и делал я это очень осторожно, чтобы не изменить положение других частей тела, уж не знаю, доходчиво ли я вам обо всем этом рассказываю, и круг сгрудившихся вокруг меня людей стал понемногу расширяться, они отступали назад, как будто боялись каким‑ то боком влезть во что‑ то такое, связанное со мной, что не имело к ним совершенно никакого отношения. Не знаю, сколько времени я так простоял, поворачиваясь по часовой стрелке, но, понемногу выходя из отключки, я вновь обретал ощущение времени, и мне кажется, я продолжал так неспешно вертеться до тех пор, пока ряды правоверных вновь не сомкнулись вокруг гроба, постепенно удаляясь за ним по дороге на кладбище, где им предстояло его похоронить, хотя мне, по правде говорящие было до этого никакого дела. Но пошли туда не все, по причине, которую мне бы очень хотелось уяснить самому себе, потому что я так и не понял, что к чему, но некоторые остались и продолжали за мной наблюдать, как будто на том месте, где я стоял, испражнился папа римский, то есть, я хочу сказать, с напряженным любопытством, они отходили в сторону на несколько шагов, потом возвращались, замирали и снова на меня таращились, а потом опять уходили. Так продолжалось до тех пор, пока все они не исчезли из поля моего зрения, и я остался один, всеми забытый, стоять посреди площади села, как чудом уцелевший принц царства, опустошенного эпидемией холеры. Если хотите знать мое мнение, воцарившаяся тягостная тишина лишь усугублялась звуком танцевавших на ветру листьев.
И вдруг – случаются иногда в нашей жизни такие странные вещи – прямо передо мной, откуда ни возьмись, снова возникли два человека, опять двое, как будто они здесь все парами ходят, эдакие два щеголя, одеяния которых я даже не берусь тут описывать, скажу только, что тот, который стоял справа, был одет в сутану, хотя и не был тем священником, который махал кадилом вокруг тела усопшего, этот был значительно моложе.
– Вы кто? – спросил меня другой.
Опасаясь получить затрещину, я сделал вид, что не услышал вопроса.
– Вы откуда? – добавил тот, который был в сутане. – Из дома, что по другую сторону сосновой рощи? Что вы здесь делаете?
Как вы отлично понимаете, я не посмел говорить про гроб, опасаясь добавить масла в огонь, потому что уже усвоил кое‑ что из здешних нравов и обычаев. Не надо говорить о веревке в доме повешенного.
– Пойдемте с нами, – сказал тот, что был в сутане, и мягко положил руку мне на плечо. От этой его мягкости во мне что‑ то дрогнуло.
Он добавил:
– Мы вас не обидим.
Вот это, наконец, было уже что‑ то существенное.
Отключка моя, ставшая теперь лишь еще одним воспоминанием, прошла, и я последовал за ними. Вы понимаете, если со мной обращаться по‑ хорошему, из меня веревки вить можно, они, должно быть, это себе вполне уяснили. А все потому, что я родился под знаком осла, вот я такой и вырос, как теленок или поросенок.
Я пошел за ними, стараясь выглядеть так жалостливо, как только мог, пытаясь вызвать сострадание выражением рта, глаз, общим своим обликом и всем своим видом, чтоб они обходились со мною поласковее, чтоб помогли сердцу моему облегчить страдание, чтоб они думали, что я – не лишенный приятности молодой человек. Вид священника не вызывал у меня никакого отвращения. Я чувствовал себя в большей безопасности оттого, что сутана его была не первой свежести, с белесыми пятнами мела, он больше походил на ближнего, чем другие, папа ведь тоже был священником в возрасте парня хоть куда. У второго типа на поясе болтался револьвер, очень меня поразивший, потому что, судя по картинкам, которые я видел, мне всегда казалось, что огнестрельное оружие очень маленьких размеров, а на самом деле, господи прости, пистолет тот был такой же большой, как папины причиндалы.
Пока мы шли, я по кусочкам и фрагментам перевспоминал нашу жизнь, какой она была до сих пор и какой она уже никогда больше не будет, потому что все проходит, например, те звуки, которые доносились сверху, когда папа делал зарядку или мы ели все вместе и смеха ради повязывали нашей лягушке слюнявчик, и кормили ее мухами, и ту заботу, с которой папа относился к Справедливой Каре в дровяном сарае, когда мы вынимали ее из ящика, а теперь ее рассудок помутится еще сильнее, чем раньше, я думал обо всем этом, и это помогало мне жалостно выглядеть, потому что меня все больше переполняла скорбь и мне все сильнее хотелось плакать. Хорошее это словечко – перевспоминать, уж не знаю, есть ли такое слово на самом деле, но обозначает оно воспоминания о том, что прошло.
А теперь я вас попрошу следить за моим повествованием очень внимательно, потому что понять то, о чем пойдет сейчас речь, будет совсем непросто.
Они привели меня в ратушу, так это здание называется, если судить по надписи, повешенной над дверью, дом выглядел очень неплохо, так опрятно, что можно было только изумляться, и восхищаться, и ходить по нему в чем мать родила, и отплясывать на полу босыми ногами в бликах света. Мы шли по коридору, напоминавшему мне портретную галерею в наших владениях, о которой я обязательно должен буду рассказать вам позже, потому что эти портреты несколько часов назад внезапно пролили свет на мое собственное происхождение, потом мы вошли в небольшую комнату, где стояли столы и стулья, на стенах висели лампы с привязанными к ним веревками, которые все освещали магическим светом. Два человека, с которыми я шел, за всю дорогу не сказали мне ни слова, но между собой говорили не переставая, как мне казалось, оживленно и взволнованно, и священник называл второго, того, у которого на поясе болтался огромный револьвер, полицейским. Первое, на что я обратил внимание, когда мы вошли в ту комнату, было присутствие там еще кого‑ то, причем сначала я увидел только его скрещенные на столе ноги и руки, а головы у него вроде как вовсе не было, но я даже испугаться не успел, потому что заметил у него в руках раскрытый словарь под названием цветы зла. Они предложили мне сесть, и полицейский начал задавать мне вопросы.
– Вы живете в доме по другую сторону сосновой рощи, ведь так? И отец ваш – господин суассон? Это ведь его лошадь С была здесь с вами?
Я сидел, покачиваясь из стороны в сторону, как будто в такт мотиву, звучавшему в голове, и бессмысленно смотрел в пространство перед собой, ничего ему не отвечая. В этой связи, надо вам сказать, странная вещь происходит с этим словом – суассон, она заключается в том, что иногда мне хочется вздремнуть над своими словарями, и как только такое случается, я совершенно отчетливо слышу, как это слово – суассон, быстренько просвистывает у меня над ухом и исчезает, как форель, скользнувшая между ног, когда идешь летом по озеру, и у меня сложилось такое впечатление, что слово это имеет ко мне какое‑ то самое непосредственное отношение, что оно связано с самой сокровенной частью моего естества сильнее, чем любое другое слово, я так говорю, как думаю, и это слово – суассон вывело меня из дремотного состояния, и я пришел в себя в полном изумлении.
Священник и полицейский продолжали осыпать меня вопросами, и казалось, я их вывожу из себя, делая вид, что не слышу их просторечных выражений, но мне не хотелось делать им ничего дурного, и они, скажу я вам, стали теряться в догадках и других соображениях всякого рода, причем, хоть я в таких вещах разбираюсь очень неплохо, я бы никогда не поверил, что мой отец был такой важной персоной. Даже большие усы полицейского с проседью были похожи на папины, как будто он ему подражал! Его усы так напоминали отцовские, что можно было подумать, это с папиного лица слетела моя подружка стрекоза, как иногда, говорят, наши души отлетают, когда мы умираем, и угнездилась на верхней губе полицейского, провалиться мне на этом месте.
Господин, о котором идет речь, вместе с другим, который был в сутане, скоро стали так со мной разговаривать, будто знали меня всю жизнь, полагая, должно быть, что такой тон мне будет приятнее, и когда они спросили меня, не случилось ли что‑ нибудь с моим отцом, я, в конце концов, намекнул им, что понимаю человеческую речь не хуже всякого другого, и ответил, что он скончался сегодня утром на рассвете. Мой ответ произвел на них сильное впечатление.
Они попросили меня это повторить, такая новость должна была быстро разнестись из уст в уста, окажись она верной, но повторять сказанное я не люблю.
– Мы нашли его сегодня утром, он свисал с конца веревки, к которой прицепился, как человек, даже не предупредивший об этом заранее, – сказал я вместо этого.
Священник осенил живот крестным знамением. Полицейский воспринял мое сообщение более спокойно. Хочу вам напомнить, что у него с шеи не свисало распятие, которым он постоянно пытался поигрывать, как братишка мой делает, вы сами знаете с чем. Он сказал мне так вкрадчиво, как будто я был чем‑ то невероятно хрупким, с чем надо было обращаться соответственно:
– Ты сказал: «Мы его нашли». Кто это мы?
– У папы есть два сына, – ответил я. – Мой брат и я.
От изумления у них даже головы назад откинулись, как у голубей, когда они по земле ходят, оба уставились на меня, словно я оскорбил их в лучших чувствах, попробуйте их понять, этих современников моих и друзей. Полицейский сделал неопределенный жест рукой, как будто хотел сказать, что к этому мы вернемся позже, а потом спросил:
– А что ты о маме своей можешь нам рассказать? Там ведь еще мама твоя с вами живет?
– Никогда в нашем доме никакие шлюхи не жили, – ответил я.
По выражению их лиц я понял, что им требовались дополнительные пояснения, и добавил:
– Все матери – шлюхи, но если вам больше нравится, можно их еще называть целомудренными девственницами, разницы здесь нет почти никакой.
В тот же миг я схлопотал две пощечины от того, который был в сутане, одну он мне дал ладонью, другую – тыльной ее стороной, и сделал он это правой рукой, шричем гораздо быстрее, чем я тут описываю. Мне очень захотелось запустить себе руки в исподнее и обрызгать его кровью, но кровь из меня в тот день не текла, все зажило до следующего раза. Тут с кресла поднялся третий человек, у которого до этого момента были видны о руки и ноги, и я тут же узнал в нем нашего ближнего, который приходил к нам домой и назойливо приставал ко мне со своими расспросами, того самого принца, которым дразнил меня братец и говорил, что я в него влюбился, чтоб язык у него отсох. Казалось, его интересовало все, о чем мы говорим, но сам он не произнес ни словечка, как делают мудрецы или кошки. Он скрестил руки на груди, прислонился плечом к стене и смотрел на меня серьезно и с удивлением, по какой‑ то причине, о которой я даже не догадывался, может, он тоже влюбился. При одном его виде мне тут же захотелось все лицо ему вылизать, нос его во рту подержать, мне, бывает, всякое в голову приходит, и в теле моем такие вещи скрыты, которые остаются для меня самого тайной за семью печатями. Он все еще держал в руке свой словарь, заложив его пальцем на той странице, которую читал, и мне это пришлось по душе, потому что я тоже очень часто так делаю, прерывая чтение, чтобы помечтать о прекрасных рыцарях, когда дохожу до тех страниц, на которых про них написано, я тогда тоже эти страницы пальцем закладываю. Что же касается священника, он передвинул свой стул в угол и уставился в пол, причем глаза у него, казалось, стали как блюдечки.
Глава 4
Мне пришло в голову, что слово этого человека, обещавшего меня не обижать, несмотря на сутану, которую он носил, имело не большую силу, чем комета, которая вырывается из задницы.
Но, вернувшись к шлюхам, я попытался им объяснить, что мне, действительно, иногда отдаленно перевспоминалась целомудренная девственница, от которой приятно пахло, когда она держала меня на колене, и даже о херувимчике, сидевшем на другом приятно пахнувшем колене девственницы, который был на меня похож, как две капли воды, в чем пытался убедить меня брат. Но было ли это воспоминанием? И была ли она шлюхой?
Священник пришел в себя и с ошалелым взглядом, как у братишки моего, когда он сказал мне, что собака только что сдохла, хотя мне это было по барабану, как сказал бы отец, он повторил:
– Она не в своем уме. Или бес в нее вселился.
Те, что в сутанах, должно быть, ничего не смыслят в родах местоимений, уж я‑ то в этом толк знаю. Кроме того, я не понял, что случилось у священника со слюной, но в уголках губ у него выступило что‑ то вроде зеленоватой пены от краски, похожей на золу от бурых водорослей, хотите верьте, хотите нет, но я такое у своего ближнего увидел впервые, мне трудно судить, редкость это или что, но, как бы то ни было, я от этого просто в ужас пришел, можете мне поверить. Меня охватило такое к нему презрение, что вместо того, чтобы брызнуть на него кровью, я бросил на него взгляд, в котором сверкнула молния, потому что, как говорил мой папа, в нем всегда молнии сверкают.
Они снова начали между собой разговаривать, я имею в виду священника и полицейского, не обращая на меня внимания, если не считать взглядов, которые они на меня время от времени бросали, и от этих взглядов они как будто на долю секунды от ужаса теряли дар речи, слова свои я очень тщательно выбираю. Но там был еще и принц, и он смотрел на меня очень трогательно и дружелюбно, и когда я увидел, что он мне улыбается, я даже отвернулся в сторону, хоть ему могло показаться, что я из себя меня корежу, но мне очень хотелось, чтоб он понял, наконец, кто я такой.
Остальных двоих, казалось, больше всего волнует то обстоятельство, к которому они все время возвращались, как к припеву, что мой покойный отец был владельцем места рождения и его смерть должна была привести к переменам, а если хотите знать мое мнение, они очень боялись каких бы то ни было изменений. В конце концов они мне сказали, что я должен отвести их к папе.
– Папа исчез.
– Это еще что за новости? Что ты имеешь в виду? Ты что, потерял его останки?
– Тело его там, – сказал я, – но сам он исчез.
Это осмыслить они были в состоянии.
‑ Тогда ты должна будешь проводить нас к его останкам.
Чтоб дать им понять, что об этом и речи быть не может, я впал в отключку. Не волнуйтесь, она была не настоящая, я просто хотел произвести на них впечатление и вполне достиг своей цели. Тут принц сказал так мягко, так ласково, что ни в сказке сказать, ни пером описать:
– Разве вы не видите, что испугали ее? Она же вся дрожит.
Еще один меня принял за шлюху, его, должно быть, мои опухоли ввели в заблуждение, и я попытался ему это объяснить взглядом.
– Господин инспектор месторождения, я бы вас попросил не вмешиваться в это дело. Занимайтесь лучше своими стихами. – Это полицейский принцу сказал.
– Вот именно. Мне представляется, что как инспектора месторождения меня это дело слегка касается, вам так не кажется?
Эти двое, должно быть, друг друга недолюбливали, если называть вещи своими именами. А еще не могу не отметить, что полицейский мне напомнил брата моего тем, что выглядел как человек, который никогда не совал нос в словарь, и от этого таких людей переполняет ревнивое презрение к тем, кто использует палец вместо закладки, и я даже себе подумал, что хоть инспектор места рождения и принял меня за шлюху, если бы дело дошло до открытого столкновения с саблями наголо, я бы без всяких колебаний занял его сторону. Как еще можно относиться к тем, кто никогда свой нос не совал в словарь?
Священник и усатый полицейский пришли к выводу о том, что наш случай относится к форс‑ мажорным обстоятельствам и долг им велит пойти к мерину, который не смог пойти на похороны бакалейщика из‑ за гриппа, и все ему рассказать. Я сначала подумал, что они вообще ничего в словах не смыслят, и только потом до меня дошло, что они говорили не о мерине, а о мэре, потому что секретариус, имейте это в виду, это прежде всего читатель. Они сказали инспектору места рождения, чтоб он за мной пока присматривал, и были таковы, след их тут же простыл.
Должен вам честно признаться, мне и в голову не могло прийти, что до исхода дня я останусь наедине с инспектором места рождения, и, думаю, если взвесить все за и против, я бы скорее удавился на папиной веревке, потому что побаивался зова сердца, если мягко выразиться, а если придерживаться того, что написано в словарях о природе и вере, очевидно, что любить мне следовало брата, а не кого‑ нибудь другого.
Первое, что сделал принц, когда мы остались одни и я был вверен его заботам, он спросил меня, не желаю ли я чашечку кофе, или стаканчик молока, или сидра, или бог его знает, чего еще, а я только сказал, что хочу пить, как сухая губка на солнце, так прямо ему и сказал.
– Сколько тебе лет? Шестнадцать? Семнадцать?
Потом, так как я бы скорее дал себя разрубить на мелкие кусочки, чем ответил на его вопрос, он добавил с улыбкой, как будто хотел меня немного расшевелить:
– Или ты меряешь жизнь биением своего сердца?
Тут я сдержаться не смог:
– Коль по сердцу судить, мне почти уже сто.
– Знаешь, что ты сейчас сделала? – спросил он, ставя воду на огонь. – Сама того не подозревая, ты ответила мне четырехстопным анапестом.
Вся моя жизнь прошла в дерьме и грязи, и хочу вам сказать, что понятия не имею о том, какую величину можно измерить этим четырехстопным анапестом. Но я ведь вам просто передаю то, что он мне сказал, а вникать в это даже не пытаюсь. По правде говоря, я и сам не знаю, сколько времени живу на земле, но порой мне кажется, что я здесь провел вполне приличный срок. У меня накопилось столько воспоминаний, что их бы хватило и на тысячу лет. Чтобы согреть воду, инспектор места рождения отошел к другому концу стола, не помню, говорил я вам об этом или нет, и так как речь его текла вполне спокойно и рассеянно, я не всегда хорошо слышал, что он говорит, но это, казалось, не беспокоит ни его, ни меня. Мне было достаточно слышать его голос. Я хочу сказать, он был как музыка, и точно так же выворачивал меня наизнанку, причиняя изысканные страдания, меня так и подмывало лечь на пол, на живот, а он чтобы растянулся в неподвижности у меня на спине и продолжал со мной беседовать.
Я говорю, рассеянно, потому что пока он возился с чашками и кофе, его блуждавший задумчивый, взгляд то и дело скользил по раскрытому блокноту. Я видел, как он взял карандаш и исправил там какое‑ то слово, не сойти мне с этого места.
– Вы – секретариус? – спросил я.
Он попросил меня повторить вопрос. Тем хуже для него, я слишком дорожу словами, чтоб сорить ими, повторяя дважды. Я хранил молчание. Тогда он слегка вздохнул с оттенком некоторого пренебрежения, почти так же, как я иногда делаю от переполняющих меня чувств, глядя как в зеркало на свое отражение в воде, весной доходящей почти до края колодца, любуясь цветом собственных глаз, когда братец ловит меня и начинает надо мной смеяться, а я говорю ему с наигранным безразличием:
– Как меня эти зеркала утомляют, как они меня утомляют!..
Потому‑ то я и не поверил в безразличие инспектора, когда он со вздохом проговорил:
– Ну, допустим, я пытаюсь писать стихи…
Стихи, ну, что ж, я себе очень неплохо представляю, на что они похожи, в моих словарях о рыцарях их хоть пруд пруди. Это ведь я недавно пошутил, когда пытался вам мозги запудрить тем, что анапестом что‑ то измеряют. Ничего‑ то вы в вашем покорном слуге не поймете, пока не научитесь улавливать его чувство юмора.
– Я тоже пописываю, – сказал я с таким же вздохом, как и он.
А он так на меня глянул, что от этого его взгляда моим опухолям жарко стало и бедрам тоже, потому что эти части тела связаны между собой магической силой. Если бы братец мой на меня почаще так поглядывал, подумал я себе, жизнь могла бы превратиться в зачарованный лес. И так мне от этой мысли на душе полегчало, что меня просто понесло:
– Это отец заставлял нас по очереди выполнять обязанности секретариуса. Бремя этой ответственности возлагается на сыновей, вот что он говорил нам своим зычным голосом (что значит зычный, я, честно говоря, не очень себе представляю). Мне нравилось этим заниматься, и настроение от этого было приподнятое, а брата моего начинало трясти даже при мысли об этом, он тоже должен был описывать свои дни в книге заклятий, вперемежку с моими, но, читая, что он там понаписывал, можно было лопнуть со смеху, если смешинка в рот попадала, а бывало еще и так, говорю вам это, как на духу, что братец только притворялся, что пишет, а сам проводил карандашом линии на бумаге, братишка у меня на идиота смахивает, просто дурак набитый. А когда отец проверял, что мы писали в книге заклятий, у меня сердце щемило от обиды, потому что ему недосуг было вникать, где там кто что написал. Но я от этого не переставал оставаться его более умным сыном. А теперь, когда папа умер, я костьми лягу, но книгу заклятий мою никто не получит, а что до братца моего, так ему это все до фонаря, у него сердце не защемит, и вся жизнь его пропащая так и будет катиться под гору.
Инспектор подошел ко мне с чашечками кофе в руках, и по тому, как он держался, мне почудилось, что он думал о моей тяжкой доле, полагая, что я заслуживаю лучшей участи. Он, наверное, что‑ то хотел мне сказать, губы его шевелились, но изо рта не вылетало ни звука. В конце концов он произнес:
– Почему ты всегда говоришь о себе так, будто ты мальчик? И произношение у тебя такое необычное, где это тебя научили так странно разговаривать… Ты знаешь, что ты девочка? И я бы даже сказал – его губы расплылись в обнажившей зубы широкой улыбке, от вида которой у меня мелькнула мысль о лучах солнца, пробивших себе между туч узенькую дорожку в наши владения, – я бы даже сказал, очень, очень симпатичная девочка.
Клянусь, он произнес это второе очень так, будто оно было выделено курсивом.
– Разве что, слегка чумазенькая, – добавил он, потому что нет ничего без изъяна под твердью небесной, даже доброе слово может прозвучать насмешливо.
Потом он вынул носовой платок и хотел было мне им вытереть щеки, но я резко отдернул голову. Я вам скажу, мне тот носовой платок был как кость в горле, я бы очень хотел, чтоб он не у него был, у меня в руке, я бы тогда затолкал его себе между ног и держал там зажатым, но он‑ то ведь думал, что я шлюха, а потому меня так и подмывало объяснить ему, что это я крест такой несу, мне всегда это приходится подробно объяснять тем, кого я люблю, лошадь наша тому свидетель:
– А у господина священника, который меня ударил, тоже под платьем есть опухоли? Однажды, очень давно, со мной приключилась настоящая беда, я так думаю, что причиндалы мои куда‑ то подевались. Из меня несколько дней текла кровь, потом все зажило, а потом все началось снова, это от луны зависит, это все из‑ за нее, вот беда‑ то какая, и опухоли у меня на груди тоже начали расти. Брат надо мной смеется, потому что отец заставляет меня носить эту юбку, чтобы, когда кровь течет, она пятен на штанах не оставляла, а я начинаю из себя выходить, когда брат смеется, и гоняюсь за ним, чтобы забрызгать ему рожу этой кровью. Даже когда я был маленьким, помню, папа и брат писали стоя, а я всегда должен был приседать на корточки, потому что не хотел касаться своих причиндалов, даже смотреть на них не хотел, как все время делает мой брат, я на самом деле их и не чувствовал никогда до того дня, как потерял, уж не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю, или нет, а потом у меня начались кровотечения. Но разницы здесь никакой нет, отец знал, что я самый умный из его сыновей, и все тут. С причиндалами или без причиндалов, это роли не играет.
Мне показалось, что до него не вполне дошло то, о чем я ему рассказал, но помочь ему в этом было не в моих силах, когда я что‑ то говорю, я всегда все говорю как есть, и, если кому‑ то это кажется странным, моей вины в том нет, винить в этом надо сами обстоятельства. Он сидел ко мне лицом, не сводя с меня глаз, хоть это и не свидетельствовало о его хорошем воспитании, иногда изумленно улыбался, как будто я разыгрывал перед ним спектакль одного актера, как наша единственная игрушка лягушка.
А потом он стал задавать мне вопросы. Он это делал, стремясь мне помочь, я точно в этом уверен, и потому я себя лучше чувствовал, когда ему отвечал. Он спросил меня, зачем я пришел в селение, и я ответил, что пришел за могильным ящиком, который в просторечии еще называют гроб, и что я очень расстроился потому, что не смог его найти. Рассказывая ему об этом, я, как мне кажется, выглядел очень жалостно. Он спросил, на кого похож мой брат, и я ответил, что на идиота, который только и делает, что смеется или плачет, сказал, что он дергает меня за волосы, когда я читаю воспоминания графа де Сен‑ Симона, или заставляет меня нюхать свои пальцы после того, как с сосиской своей натешится, но он, как я потом понял, только хотел узнать, старше меня брат или моложе. Я честно ему сказал, что папа нас замесил в один и тот же день и час, и, если верить религии, случилось это, по всей видимости, очень давно.
Инспектор места рождения потер себе большим и указательным пальцами веки, как будто у него башка раскалывалась. Потом вытянул под столом ноги и смолк на долгую минуту молчания, сцепив пальцы рук на затылке, провалиться мне на этом месте. Глаза у него стали как у филина, огромные, будто изнутри огнем горели. Потом он склонился ко мне и сказал тихим таким голосом, каким иногда говорят во сне с кем‑ то, кого на самом деле не существует:
– А ты знаешь, что твой отец был богат? Баснословно богат?
Я кивнул, взглядом указывая на кошелек с грошами, и дал ему возможность сделать свои выводы. Честно говоря, мне уже некоторое время хотелось выйти на улицу. Мне трудно долго находиться в доме, даже в своем собственном, или в дровяном сарае вместе со Справедливой Карой, которая еще поразит людей, и я даже иногда ложусь ночью спать на земле, хоть лицо мое становится влажным от полевых звездочек. Я сейчас об этом вспомнил, потому что нахожусь в дровяном сарае, описывая эти события, и мне уже тоже становится трудно продолжать, меня так и подмывает заорать во всю глотку, но мне никак нельзя этого делать.
А еще инспектор мне сказал, что мне, конечно, неведомо, что для наших соседей моя семья составляет тайну за семью печатями. Никто из них понятия не имеет о том, что происходит на нашей стороне сосновой рощи, и потому люди плодят всякие небылицы, вот что из‑ за этого получается, и о нас расползаются разные ложные слухи. Он даже почему‑ то себе представил, что раскрывает мне глаза на жизнь, рассказывая, что отец был самым могущественным человеком в этих землях, как будто я об этом ничего не знал, и поэтому, сказал он мне, никто не мог даже помыслить о том, чтобы не выполнить его приказания. Без официального приглашения никто не имел права появляться в наших владениях, вы понимаете! Даже священник.
– Я в курсе, потому что мне об этом мэр около часа проповедь читал, когда я прошлой весной к вам заходил, тогда я впервые приехал в эти края. Ты помнишь меня? Я тогда все пытался с тобой поговорить… Кстати, как тебя зовут?
– Брат зовет меня братом, а отец нас называл сыновьями, когда еще только вчера всем распоряжался.
– А откуда он знал, с кем из вас он разговаривает?
– Почти всегда ему было все равно, с кем из нас говорить. Но если и случалась у него промашка, если, скажем, на его зов от зывался я, а ему нужен был брат, он просто говорил: «Не ты, мне другой нужен». И ни когда у нас с этим проблем не возникало.
– Да, теперь мне ясно.
Ясно ему было! Этому господину все было ясно! Да, кто он, в конце‑ то концов, такой, что он там себе о своей персоне воображает? Ей‑ богу, есть такие люди, которым что в лоб, что по лбу, как, бывало, говаривал мой отец, рассказывая о тех днях, когда был парнем хоть куда. Но этот господин, как вы сами можете себе представить, этот секретариус по стихам, не знал удержу, он перешел все границы дозволенного, когда с наглостью неотесанной деревенщины заявил:
– Ты бы не хотела, чтоб я тебе дал какое‑ нибудь имя? Чтобы только я тебя этим именем называл? Дикарочка. Я тебя буду звать дикарочка. Это имя созвучно запахам травы и дождя, которыми от тебя веет. Мне бы тоже хотелось представиться – меня зовут Поль‑ Мари.
Я вам скажу, у дикарочки надо лбом выстрижена челочка, это единственное место у меня на голове, где папа меня стриг, где‑ то в начале каждого времени года он брал кухонный нож и подрезал мне там волосы, а все остальные были очень длинными, очень темными, очень пышными, просто восхитительными, что правда, то правда, и улыбаясь мне улыбкой, от которой глаза его светились призывно, как свечи, инспектор места рождения нежно взял локон моих волос, щекотавших мне щеку, и заправил его за ухо. А я, не колеблясь ни секундочки, тут же вернул эту прядь на прежнее место у щеки, где она прекрасно себя чувствовала, премного вам благодарен. Он от этого рассмеялся и придвинулся ко мне совсем близко. А потом – даже не знаю, как сказать, все как будто само собой случилось, другого объяснения я и придумать не могу, – я медленно облизал ему языком щеку, и его это так поразило, что он отскочил от меня на свой стул как ошпаренный.
Тыльной стороной ладони инспектор вытер себе щеку, причем сделал он это не быстрым и резким движением, как если бы ему это было противно, а так, будто в этом его жесте отразилось удивленное влечение, как папа, бывало, гладил брата по голове, сначала избив его до потери пульса, от чего тот валялся на полу среди тыкв. Уж не знаю, какими я глазами смотрел на инспектора места рождения, но взгляд мой, наверное, был весьма убедительным, потому что в нем, должно быть, молнии сверкали, и если вы меня не поняли, моей вины в этом нет.
– Теперь мне ясно… – Снова ему все ясно было! – Ты, сдается мне, маленькая дикая козочка, правда?
Он это сказал с сардонической улыбкой, если слово сардонический значит то, что я имею в виду, но я видел, что лицо его побледнело и стало слегка зеленоватым, а прекрасные голубые глаза расширились от страха, потому что, не помню, говорил я вам уже об этом или нет, но, как казалось маленькому дикому козлику, глаза инспектора были похожи на глаза закованного в латы и доспехи доблестного рыцаря, державшего в руках меч‑ кладенец, именно так, если память мне не изменяет, называется в моих рыцарских романах мудреное рыцарское облачение.
Как бы то ни было, я не берусь объяснить то, что произошло потом, честно вам говорю, потому что вдруг он оказался совсем рядом со мной, и в теле моем как будто катаклизм случился или даже что‑ то еще более замечательное, чего мне никогда не понять, как бы мне это не объясняли, но я зубами нежно так прикусил ему щеку, а потом стал ему вылизывать нос, лоб, веки, а руками в это время ерошил ему волосы. Я чувствовал, как его руки ласкают мне все тело, как будто он хотел всего меня касаться одновременно, он меня так к себе прижимал, будто хотел внутрь себя затолкать, и тело его при этом благоухало запахами кедра, сельдерея и пихты, а я каждый раз умирал, потом возрождался и снова хотел умереть, чтобы все повторилось опять, и теперь повторялось, и всегда, но скоро силы покинули маленького козлика, который так и стоял там, еле держась на ногах, почти что уже умерший, руки обвисли как плети, рот переполнял солоноватый привкус рыцарской кожи, чувствовавшийся на языке.
Почему же потом он так внезапно и резко схватил меня за запястья и сильно сжал их своими руками? Он отошел от меня на шаг, на лице его застыло выражение страха.
– Мы не должны этого делать, – прошептал он, и в шепоте его мне послышался благоговейный ужас, слова я подбираю самые точные.
Я высвободил запястья из его захвата, сил моих в теле уже почти не осталось, они, должно быть, сами собой куда‑ то улетучились, маленький козлик лег на свой выпуклый животик у ног рыцаря, и мне страшно захотелось, чтобы он растянулся на мне во весь свой рост, придавив меня к полу всем своим весом, и, застыв в неподвижности, нашептывал бы мне что‑ то на ухо, но вместо этого его как ветром сдуло в дальний конец комнаты, можно было даже подумать, что ему сбежать куда‑ то хочется, так оно, должно быть, и было на самом деле, как еще по‑ другому это можно было объяснить? Чувство было такое, как будто мне прямо в сердце вонзили кинжал или меня зовут не дикарочка.
И, поскольку я застенчивый маленький козлик, надменно отвергнутый, можно даже сказать, потерпевший полный крах, потому что некий господин отказался сделать счастливыми несколько кратких мгновений моего бытия и не растянулся во весь свой рост у меня на спине, теперь я буду говорить о себе, как о шлюхе, используя местоимения женского рода, хотя, если верить тому, чему учит религия, я как был, так и остаюсь сыном моего отца и братом моего брата. То есть я хочу сказать, что, продолжая повествование о бедах своих и несчастьях, я буду теперь говорить о себе так, как будто я целомудренная девственница с опухолями и регулярными кровотечениями, это хоть немного облегчит мне печаль от выпавших на мою долю страданий, но тут я должна на время остановиться, чтобы кое‑ что вам объяснить: про сарай, где я пишу, также известный под названием склеп.
Я схоронилась в сарае, где все это описываю, потому что на братца моего снизошла благодать и он помешался в рассудке, так это называется, а меня охватила паника. Я еще очень напугана, потому что в склепе, где я пишу, есть маленькое окошко, грязное до невозможности, но я смогла его протереть маленькой своей ручонкой и только что увидела, что кто‑ то движется по дороге в нашем направлении, но я так и не могу разобрать, кто это к нам приближается, потому что он еще очень далеко, может быть, это лошадь, а может быть, рыцарь или даже нищий попрошайка, прихрамывающий на своей культе и позвякивающий бубенчиками шутовского своего колпака. Мне, бедняженьке, от страха вопить хочется благим матом, но делать этого никак нельзя. Ну вот, я уточнила обстановку, в груди полегчало так, что я даже могу глубоко вздохнуть, поэтому можно дальше продолжить это повествование о моем романе с инспектором места рождения в ратуше, ведь, что ни говори, вещи надо называть своими именами.
Инспектор снова подошел ко мне, когда я лежала там, растянувшись во весь рост на полу, и сказал, чтоб я там не валялась, как вареная спаржа, а поднималась на ноги, говорил он мне это сочувственно и ласково, но, скажу я вам, мне его сочувствие тогда нужно было как собаке пятая нога, мне от него совсем другое было нужно. Я на какое‑ то время замешкалась, глядя на его потрясающие ботинки размером с огнестрельное оружие, соображая, стоит ли мне вообще возвращаться к жизни, после того оскорбления, которое он мне нанес своим пренебреженческим ко мне отношением. Не знаю, есть ли такое слово, но оно вполне стоит того, чтобы существовать. В конце концов я поднялась на ноги, но это привело к весьма печальным последствиям. Если бы мы задумывались о причинах того, почему мы дышим, земля стала бы лысой, как яйцо. Ногти у меня крепкие и острые, как гвозди, так вот, одним из них я процарапала рожу моего прекрасного рыцаря от глаза через всю щеку, чтоб мне пусто было. Он снова схватил меня за запястье и на этот раз сжал его с такой силой, будто хотел мне причинить боль, как давеча священник. На шее у него я увидела три пятна, выдававших его сильное волнение, они напомнили мне пятна, раз в год выступавшие у отца и брата, когда мы все вместе смеялись, еле держась на ногах от чудесного вина, отмечая пятницу, в которую умер иисус. По щеке инспектора тремя струйками, похожими на трех сестричек, потекла кровь, пущенная моей рукой, ее капельки походили на бусинки. Он уставился на меня, тяжело дыша, и во взгляде его я увидела панический страх.
– Да ты и впрямь настоящая ведьма – Резким, как пушечный выстрел, движением я так мотнула головой, что она оказалась рядом с его щекой, и я уже высунула язык, чтоб слизнуть со щеки его кровь, мне этого хотелось до трясучки. Но он отпрянул от меня всем корпусом. Потом насильно, даже я бы сказала, грубо, он принудил меня снова сесть на стул, где я сидела раньше. Брови у меня сами собой нахмурились, и зубы заскрежетали – я не могла сдержаться. Он тоже решил произвести на меня впечатление, потому что вдруг стал мне что‑ то очень быстро говорить. В глаза он мне, правда, смотреть не осмеливался, поэтому я поняла, что победа осталась за мной, хоть он и обозвал меня вареной спаржей.
Он сказал мне, что бедная маленькая девочка даже представить себе не может, что ей уготовано в будущем. Теперь все у нас с братом будет по‑ другому. Возникнут самые разные проблемы с наследством, но для меня это все как темный лес, правда? (Я кивнула. ) Ясно только одно: папа нас теперь не защитит, продолжал он. Все будет решаться по закону, в сбответствии с которым будет рассматриваться наше дело, и так далее, и мы, брат и я, окажемся целиком во власти тех людей, которые будут рассматривать наше дело.
Не знаю, кого он относил к числу тех людей, но он так кому‑ то пальцем грозил, будто все они невидимками затаились где‑ то в этой комнате. Не ясно мне было и то, что такое закон, о котором он говорил так, будто носился с ним как с писаной торбой. А потом инспектор доконал меня окончательно, потому что от этих его слов мне как будто дырку в груди просверлили:
– Я очень сомневаюсь в том, что вы с братом сможете продолжать жить в ваших владениях.
Я выскочила из комнаты очертя голову. Бежала я наугад, сердце билось так, что, казалось, вот‑ вот из груди выскочит, и уже у самого выхода из здания, так этот дом называется, инспектор места рождения меня догнал.
– Я тебе постараюсь помочь, честное слово, – проговорил он, переводя дыхание. – Сам еще не знаю, как это сделать, но я попытаюсь. Я сделаю все, что смогу, чтобы хоть до завтра выиграть время, я им скажу, что ты мне дала обещание прийти сюда завтра с братом, я все сделаю, чтобы перестроить ваш дом…
Что он говорил потом, я не знаю, потому что оставила его далеко позади. Сломя голову я пронеслась через все село к дороге через сосновую рощу, и там, как выяснилось, меня поджидала лошадь. Я зашвырнула, да, именно это слово здесь больше всего подходит, зашвырнула кошелек с грошами в самые заросли и три раза плюнула в ту сторону, чтобы отвратить опасность сглаза или наговора. Потом стала остервенело чесать себе голову, как будто хотела выцарапать оттуда всех бесенят с чертенятами, успевших там поселиться. После этого, наконец, перевела дыхание и начала понемногу приходить в себя. Лошадь подняла зубами с земли лопату, которую я по дороге в село оставила прислоненной к дереву, и так тревожно на меня глазищи вытаращила, что я ей обо всем рассказала. Ясно было, что она, бедняга, тоже очень переживает, в ее круглых глазах даже навернулись слезинки. Я сказала ей, чтоб она прямиком отправлялась в наши владения, пришла домой раньше меня и успокоила брата, который, должно быть, страшно волновался, потому что день уже прошел, а мы еще не вернулись.
От всех моих злоключений я была измотана до крайности, опустошена до предела, у меня было такое чувство, что все в голове распалось, раскрошилось, перегорело и вот‑ вот обвалится лавиной пепла. Силы были на исходе, очень ныло и кололо сердце, как будто все здоровье мое прахом пошло. Я остановилась, чтоб наломать веток и воткнуть их себе в длинные волосы, я их так сплела, что получилось что‑ то вроде тернового венца, а потом пошла себе вперед такой походочкой, что вам могло бы показаться, это так меня в танце кружит от печали моей. Я запамятовала, говорила я вам или нет, что руки мои удивительно грациозны, как октябрьские волны на пруду, потому что я еще и названия всех месяцев знаю, все друзья мои – слова. Я всегда очень удивляюсь, замечая, как после сильного потрясения на меня нисходит глубочайшее безразличие к тому, что станется с бренным моим бытием, такой уж у меня характер, ничего с этим не поделать. Я неспешно кружусь вокруг своей оси в юбке, как друг мой сатурн, моя планета, я смеюсь в душе моей, но делаю это, как и он, незаметно, храня свой смех на маленьком алтаре собственного молчания, который никому не показываю. Движенья ног моих легки, похожи на полет тех птиц, что кружатся вокруг меня, их цвет такой, как цвет моих глаз, все птицы кружат со мной в вальсе, и это мой большой секрет, и даже те из них, которые сейчас летают на другом краю земли. Я часто думаю о том, чтоб вместе с эльфами парить в вершинах сосен, и чтобы было там тепло и свет шел, как от пламени свечи, и чтобы я бросала всюду горсти золотых крупиц, которые устлали б землю всю вокруг мерцающими звездочками, потому что я для этого явилась в этот мир, но сделать так я не могу. А еще, должна вам сказать, мне вообще не хотелось бы возвращаться обратно, никогда не хотелось бы возвращаться, мне бы навсегда остаться на той дороге в сосновой роще, между селом и нашими владениями, и быть здесь ненавязчивым божеством расстояния, разделяющего все сущее, маленькой феей тропинок, ведущих в никуда. Но я собрала всю свою храбрость в обе ноги и продолжила путь. Причем, сделав это, я нашла в себе силы подавить часто меня посещающее величайшее искушение что‑ то глубоко засунуть себе промеж ног, внутрь кожи моей, иногда даже силой это туда затолкать, траву, например, или бутоны цветов, или гальку, такую круглую и мягкую, как взгляд лошади. А иногда я еще беру в руки свои опухоли и так сильно их сжимаю, что больно становится, потому что должен же кто‑ нибудь за ними присматривать, пока разум мой витает в облаках, странствуя по стране моей мечты, где все дарит сердцу радость, и где, к несчастью моему, недостает только меня. Любого может постичь неудача, что тут еще скажешь, таков закон природы.
Так вот, когда уже настала ночь и я вновь переступила порог нашей кухни, меня страшно поразило, если учесть, в каком я была состоянии, что братец мой держал в руке пилу и был готов пилить на части папины бренные останки.
ЧАСТЬ 2
Глава 1
Я где‑ то вычитала, что всюду во вселенной существует такая штука, которая называется сообщающиеся сосуды, и это сущая правда. Потому что иногда рука у папы становилась тяжелой, и он награждал братца моего градом затрещин, так что у него только искры из глаз сыпались, а потом братец проделывал то же самое со мной, вот это и называется сообщающимися сосудами. Братишка размерами поменьше меня будет, но, даже не знаю, как так получилось, он весь сделан будто из жесткой резины. Когда он на меня набрасывается, мне ничего не остается делать, как согнуться в три погибели, защищая голову, и молиться о том, чтобы время текло как можно быстрее. К концу того срока, который был папе отпущен на земную жизнь, ко мне он приматывался очень редко, а если строго следовать истине, не могу не отметить, что последний раз это случилось при царе горохе, или даже еще раньше. С тех пор, когда терпение его истощалось или просто так, для порядка, чтоб жизнь медом не казалась, он давал мне только легкие подзатыльники, как будто напоминал мне, что я его сын, и, чтоб не кривить душой, еще я должна сказать, что подзатыльники, которыми он меня награждал, были лишь бледным подобием тех затрещин, которыми он осыпал брата, а брат это отлично понимал и потом забивался в свой угол и тихо там себе что‑ то бурчал под нос, переполненный низменной ревности, потому что братишка мой завистлив от природы, в этом, как мне кажется, заключается его главный порок.
Должна признаться, что папа считал меня более умным своим сыном, мне кажется, я уже писала об этом раньше, как и о том, что я себя хорошо вела, уткнув нос в словари или собирая цветы и мурлыча себе тихонечко мотивы из музыки фей, когда шиповник очень красиво смотрелся в грязи рядом с тыквами, и я себе не теребила беспрестанно причиндалы, как сами знаете кто. А еще очень важно, что я никого не обижаю, нет у меня такой привычки, если только маленькую козочку не переполнит ужасная справедливая ярость, как, может быть, вы соблаговолите припомнить, тот случай с моим возлюбленным, когда я ему щеку ногтем разодрала. Все это я к тому говорю, что не было никакой несправедливости в том, что братишка мой чаще, чем он того заслуживал, растягивался как мертвец на заднем дворе нашего дома среди картофелин в мундирах.
А еще я это к тому говорю, что, когда я увидела, на какое святотатство он покушается, зажав в руке пилу, я ничуть не встревожилась, совсем ни капельки, а стала только мягко, как женщина, успокаивать его, убеждая объяснить мне до того, как он что‑ то начнет делать, почему он с такой решимостью собирается резать папу на кусочки. Можете себе представить, что он мне ответил? Вот что он мне сказал:
– Перед тем как папу хоронить, его надо обратить в пепел.
У лошади, как и у меня, причиндалы не висят, это я вам говорю на тот случай, если раньше сказать запамятовала, но она все еще была обмотана веревкой вокруг брюха, как подпругой, которую я намотала, чтобы тащить этот поганый могильный ящик, а конец той веревки так и болтался у нее между ног, как отвисший причиндал. Дело в том, что лошадь вошла в дом следом за мной, а это было из ряда вон выходящим событием, свидетельствовавшим о том, что не все в порядке в датском королевстве. Она легла на бок, и, поскольку одна половина ее большого брюха была прижата к полу, вторая его половина очень увеличилась в размерах, если я доходчиво выражаю свою мысль, и это напомнило мне папину грудь в те золотые времена, когда он еще дышал. Внезапная и совершенно необычная рассудительность доводов моего брата озадачила меня, бедняженьку, чуть не до потери пульса:
– Ты пошел в селение за гробом. Где же твой гроб?
– Во‑ первых, это гроб не мой, а папин. А во‑ вторых, я не смог его там найти.
Брат забурчал себе что‑ то под нос, забубнил, раньше я такого бурчания никогда от него не слыхивала, хоть возможностей у меня для этого было предостаточно. Потом он резко смолк и бросил в мою сторону помутившийся взгляд, причем смотрел он на меня прищурившись, и в зрачках у него отражалось что‑ то такое, от чего у меня мурашки пошли по коже.
– У нас нет такого большого ящика, чтобы целиком положить в него папу, – сказал он, – и вина в том твоя.
Я бросила на него взгляд, полный оскорбленного достоинства.
– Да, ты в этом виноват! Поэтому мы его сожжем. Возьмем его прах, если тебе ясно, что я имею в виду, и положим его в миску от папиных острых перцев, чтобы похоронить ее с ним внутри. А теперь посмотри сюда, видишь, какого размера наша печка? Попробуй‑ ка, затолкай туда бренные останки мертвеца!.. Мы должны будем жечь его по кускам.
И зубья пилы уже коснулись папиной ноги. Знаете, сказать, что меня охватила паника, это то же самое, что вообще ничего не сказать.
– Нет, прекрати! Мы не можем так поступить!
– Ты можешь предложить что‑ то другое?
Пила, которой он стал махать у меня перед носом, извивалась и так музыкально звенела, что в другое время и при других обстоятельствах, я бы, наверное, от этого захихикала.
– А потом мы возьмем все его бумаги и ящик с феиными магическими чарами и похороним их вместе с ним. И еще Справедливую Кару, чтоб ты знал. Мы все это вместе со Справедливой Карой зароем в одной яме!
– Справедливую Кару?
Такое он сделать не мог. Такое он просто не мог сделать.
– Но мы же тогда лишимся дара речи!
К счастью, папины останки стали твердыми, как камень, то, как утром его тело окоченело, было просто шуткой, по сравнению с тем, как оно окоченело сейчас, а я‑ то знаю, что по большому счету братец мой лентяй, и скоро ему надоест справляться с той задачей, которую он перед собой поставил. Из папы вытекло всего несколько капель крови, цвет ее был каким‑ то странным, она стала такой густой, что даже и не текла, как следует, и это дало мне какое‑ то время, чтобы на меня снизошло озарение, если это то самое слово, которое я имею в виду, и в конце концов оно на меня снизошло.
– Они придут сюда грабить наше добро, как бандиты! Орды ближних готовы на нас наброситься. Они все у нас отнимут, мы даже на кухне не сможем больше жить.
Услышав это, он застыл, как будто его хватил паралич.
– Что ты сказал?
Есть такие обстоятельства, которые не подвластны нашему контролю, когда нам приходится повторять только что сказанное, пусть слова меня простят. Я повторила ему приведенный выше абзац более или менее дословно.
У братца моего аж шея позеленела.
– Я тебе сейчас объясню, – сказала я, воспользовавшись его оцепенением, чтоб забрать у него пилу.
Ни слова не говоря, он дал мне это сделать, челюсть у него отвисла, и он, пребывая все в том же оцепенении, покорно прошел несколько маленьких шажков, как, бывало, шел после того, когда папа для профилактики колотил его головой о ствол дерева. Я тянула братишку за собой в библиотеку.
Что касается словарей, так я уверена, что у нас их было больше, чем сосен в сосновой роще, может быть, даже больше, чем веток у тех сосен, у нас их были мириады, если такая вещь существует на самом деле. Уж не знаю, прочитала ли я хоть половину из них, но, должна вам сказать, читала я их предостаточно. Я себе все время повторяю, что в один прекрасный день все их прочту, по крайней мере те, которые не порваны и не рассыпаются в руках в прах, как отсыревшая мука, но я ничего не могу с собой поделать, мне всегда хочется перечитывать самые мои любимые, те из них, в которых повествуется о блистательных кавалерах в доспехах, сверкающих, как ложки, этику спинозы, которая сбивает меня с толку, как все великие истины, не говоря уже о воспоминаниях графа де Сен‑ Симона. Не знаю, в каком уголке мироздания происходили все эти истории, в каких заморских странах, исходя из того, что я повидала, мне трудно поверить, что такие вещи вообще случаются на земле, особенно теперь, когда я собственными глазами видела, на что похоже село, потому что оно совсем не оправдало витавших в моем воображении ожиданий, но, когда я читаю графа де Сен‑ Симона, меня как будто кружит в вальсе. Меня кружит в танце в самых дальних закоулках сознания, как будто от грохота призрачных армий, развеивающихся дымом, потому что маленькая козочка способна понять лишь малую толику Сен‑ Симоновой премудрости, но когда я его читаю, я будто на крыльях парю в поднебесье, и все тут. Например, чтобы избежать раздоров и разладов, король покончил со всеми церемониями и постановил, что в его покоях не будет проводиться ни одна помолвка, а браки будут заключаться сразу же в часовне, и поэтому отпала необходимость ради этих церемоний носить длинный камзол со шлейфом и расшитыми вставками, такие камзолы теперь каждый день носили только телохранители принцессы, находившиеся при исполнении обязанностей, а еще, чтобы покров держали епископ меца, назначенный королем в первосвященники в память о дяде, и местный священник короля, которым был назначен аббат морель к тому дню, когда монсеньор герцог бургундский один должен был подавать принцессе руку, как при входе, так и при выходе из часовни, и ни один князь не мог ставить свою подпись в книге священника после монсеньора герцога, причем обо всем этом Сен‑ Симон написал в одном предложении, и если мне удалось чему‑ то научиться как секретариусу, то этим я обязана графу, его громогласному голосу, его потрясающим историям и его построению фраз, в которых слова взбираются к вершинам смысла с треском горящего полена, вы уж мне поверьте, если поняли, что я имею в виду.
Сырость, постоянно и непрестанно исходящая из земли, уже сделала свое мокрое дело с частью словарей, провела уже свою долгую, неспешную и неумолимую работу, поразив их плесенью, влажность гложет все наши владения, и словари гибнут естественной смертью, как и все остальное, гниение все доканывает, оно свое дело знает туго! Меж стопок книг, так наши словари на самом деле называются, надо расчищать проходы, они выше нашего с братом роста, и, поскольку нам неведомы диковинные земли рыцарей и иисуса, такое хождение среди словарных курганов до последнего времени приводило меня в самое пьянящее возбуждение на этой планете, если не считать тех кратких минут, что мы провели вместе, и ты снизошел до того, чтобы прижать меня к груди, пока язык мой блуждал по лику твоему, о, доблестный мой рыцарь, и тех мгновений, когда я танцую с моими бликами света, о чем я расскажу дальше. Не было и речи о том, чтоб лошадь следовала за нами, всему есть свои пределы. Я запретила ей это одним взглядом, и она осталась стоять на пороге, являя собой жалкое зрелище с разноцветными своими глазами. Лошадь обделена лишь даром речи, но даже это зависит от того, что вы называете речью. Мы с братом уселись на какие‑ то старинные подушки, покрытые бархатными гардинами, которые, очевидно, в те славные дни, когда нас и в проекте не было, украшали высокие окна библиотеки с разбитыми стеклами, откуда сюда задувает ветер, порой несущий град и вихрящиеся тучи снежинок, эти подушки, покрытые старыми бархатными гардинами, служили мне постелью, когда я не спала под звездным небом, о чем, мне кажется, я уже писала. Я стала рассказывать брату о том, что произошло в селе, смотрите выше, опуская тем не менее некоторые эпизоды, которые, в соответствии с моими представлениями о приличиях, могли показаться непристойными, и вопросы, которые он мне задавал, были такими странными, он в таких подробностях вдавался во многие детали, причем детали настолько незначительные, что временами я даже не знала, что ему ответить, и заняло это целых тридцать‑ шестнадцать дождливых дней, но в конце концов он все‑ таки ухватил суть дела, которую я заставляла его повторять, как урок, чтобы вполне убедиться в том, что он уяснил себе суть той передряги, в которую мы попали. А после этого он смолк, будто воды в рот набрал. Он взял бутылку чудесного вина, потому что отец, бог знает, почему, всегда настаивал, чтобы вино хранилось в библиотеке, и стал братец пить вино из горлышка, уставившись прямо перед собой таким взглядом, будто принимает серьезные решения со всеми вытекающими из них последствиями. Я‑ то знаю, как вино может ударить в голову, и мне казалось, что теперь для этого был не самый подходящий момент.
– Сегодня не пятница, когда умер иисус, – строго сказала я.
– А откуда об этом знать господину в юбке? – огрызнулся он, полагая, что это его замечание поставит меня в тупик.
– Ну, ладно, тогда скажи мне, прежде всего, где же козел? Кроме того, пятница, когда умер иисус, всегда наступает в то время года, когда лед на пруду начинает таять.
Говоря это, я в дцатый раз повторила себе, что господь не мог пожаловать такую награду, как смерть в назначенный день каждого года. Если бы это случилось со мной, а очередь моя, как ни крути, все равно раньше или позже подойдет, я не буду здесь ходить вокруг да около, я, как отец, разберусь со всем одним махом.
Братец пожал плечами, будто хотел показать, что это ему как прошлогодний снег. Меня так и подмывало сказать ему, что сейчас нам не время как свиньям кататься по полу, давясь от смеха, как мы всегда делали, следуя папиному примеру, когда накачивались чудесным вином, но он мне в ответ сказал такое, от чего всю меня просто передернуло, вы знаете, что он мне заявил?
– Забирай‑ ка ты свои опухоли и отваливай отсюда, чтоб духу твоего здесь больше не было!
Забирай‑ ка ты свои опухоли и отваливай отсюда, чтоб духу твоего здесь больше не было, вот какой привычной любезностью наградил меня братец – а ведь пока я тебя не встретила, он был единственным на всей земле существом, которого хотела полюбить маленькая козочка. Но, знаешь, когда я была с ним, у меня не возникало и тени желания, чтобы он растянулся у меня на спине, причем совсем не потому, что у него и в мыслях этого не было, если тебе понятно, что я имею в виду. Иногда я себе говорю, что если причиндалы не отваливаются, можно делать все, что в голову взбредет, но стоит пропасть естественному, как все оборачивается ужасом. Тьфу. Хотя, может быть, это рыцарские словари мне так голову вскружили, внушили мне, что здесь, во владениях наших, от такого типа любви можно ждать чего‑ то возвышенного.
Я оставила брата в мрачном одиночестве размышлять над его тайными планами.
Взяла керосиновую лампу и отвалила со своими опухолями. Я шла по коридорам, пытаясь осмыслить, каково сейчас положение дел во вселенной. Мне бы надо было захватить с собой книгу заклятий. Я прекрасно понимаю, что лучше всего мне было бы как можно скорее залезть в нее с головой и рассказать там обо всех невероятных и удивительных событиях, произошедших со мной и братом с рассвета, но голова моя кружилась не в ту сторону, за весь день у меня во рту маковой росинки не было, если не считать разных трав, съедобных грибов и отцветших цветов, которые я собирала по дороге через сосновую рощу, в селе и на обратном пути, я, должно быть, забыла вам в этом признаться, и это помогло мне весь день продержаться. Обычно мне ничего другого и не нужно, пока ночь не настанет, разве что кусочек твердого как камень хлебушка, но этот день мне все силы вымотал, меня пошатывало из стороны в сторону, и я дала себе зарок, что до рассвета заставлю себя проглотить две картофелины. Тело, оно как бездна, все внутри черным‑ черно. И говорить нечего о том, что портретная галерея меньше пострадала от всемогущей плесени. Все картины висели в рамах на стенах, там их было в два раза больше, чем десять пальцев у меня на руках. Некоторые из них мне очень нравились, те, где были нарисованы такие пейзажи, которые я себе даже вообразить не могу, так мало они похожи на все, что я знала до сих пор на этой планете старых гор. Там же висело несколько картин с изображениями каких‑ то серьезных личностей, которые были очень друг на друга похожи, казалось даже, что личность была одна и та же, только костюм у нее менялся, нос на всех портретах был один и тот же, честное слово, и под каждым можно было прочесть разные имена и разобрать даты, лишенные всякого смысла, такими они были древними по сравнению с теми датами, что мы писали в книге заклятий, но на всех портретах без исключения стояла еще такая надпись: суассоны из коетерланта. Еще на этих портретах были нарисованы шлюхи и целомудренные девственницы, которых называли маркизами, если я правильно поняла, были и графини, и мне показалось, что я, скорее всего, тоже шлюха суассон, причем эта мысль меня вдруг осенила так отчетливо, как будто мне в мозг внезапно ворвался тигр, какая же я болтливая, господи, подумала я, мне бы даже в мемуарах Сен‑ Симона можно было отвести место.
Лошадь, следовавшая за мной по пятам, останавливалась перед некоторыми картинами, всем своим видом выражая не то явное недоумение, не то разочарование. Я, кстати, даже представления не имею о том, до какого возраста отпущено жить лошадям. Нам кажется, что мы знаем что‑ то о некоторых существах, но на самом деле мы и понятия не имеем о том, когда истекает срок их годности. По всей видимости папа замесил ее задолго до того, как замесил нас с братом, если только он ее и в самом деле замесил, может быть, отец с лошадью сосуществовали вместе с начала вечности, как взаимодополняющие друг друга состояния, выражающие единую сущность, если следовать положениям этики. Но все это лишь гипотезы и подобные им умозаключения, тесно связанные с религией. Перед тем как покинуть портретную галерею, я нагнулась, увидев на полу что‑ то такое, чего раньше я там никогда не видела, и это меня заинтриговало. Но на самом деле ничего интересного в этом не было. Там лежал высохший труп енота, лапа которого попала в капкан.
Тут я чуть было не свалилась на пол, потому что нога моя в том самом месте, откуда она начинает расти из тела, запуталась в цепях. Я вам сейчас попробую объяснить, почему так получилось. К петлям дверного косяка северной двери портретной галереи были так привинчены цепи, что, если бы кто‑ то захотел, он мог бы привязать там кого‑ то за раскинутые в стороны руки и ноги. Тогда человек, привязанный цепями за лодыжки и запястья, стал бы похож на букву х, если называть вещи своими именами. Таким человеком был наш папа. Время от времени он нам приказывал заточать себя в цепи именно таким образом, и это еще не все. От братишки моего еще требовалось всем весом наваливаться на папину спину, так, чтобы максимально растянуть в стороны его руки и ноги, хотя в папином возрасте это никак не могло пойти ему на пользу, особенно если судить по тому, как хрустели его косточки. И потом в точке максимального мышечного растяжения, если этот термин значит именно то, что я хочу сказать, мне следовало встать прямо перед ним и стегать его по голому животу мокрой тряпкой. В груди у него раздавались странные звуки, меня от них с души воротило, и я всегда плакала, когда папа заставлял нас такое с собой вытворять. Потом он просил нас снять его с цепей, но мы это делать не могли и от этого тоже очень мучались. Поскольку он нам приказывал не снимать себя с цепей до наступления ночи, мы ждали ее прихода, чтобы освободить его от оков, не внимая его мольбам, в этом отношении приказ был совершенно категорическим. Наш сыновний долг требовал от нас уважения к его распоряжениям, в противном случае нам грозили полновесные затрещины. Свисая так с цепей, папа поливал оскорблениями высокомерных личностей, висящих в портретной галерее в обрамлении своих рамок, а я так и не могла понять, что они могли ему сделать, чтобы заслужить такое его благословение, но им на это было в высшей степени наплевать, двух мнений тут быть не может. Тем не менее меня все равно охватила печаль, и на прекрасные мои волосы закапали слезинки. Вот такие чудаковатые упражнения проделывал мой родитель. И подумалось мне еще, что никогда нам их больше не доведется увидеть.
Пройдя в дверь, я оказалась в огромном помещении с зеркалами, где взгляд мой неизменно притягивало расположенное вдалеке самое запретное место наших владений, куда, пока папа был жив, доступ нам был категорически запрещен, но я туда захаживала частенько, особенно по ночам, когда глодала меня грусть‑ тоска заунывная. Помещение это было таким огромным, что там хоть двести ближних могли махать локтями, как мы с братом любили делать, подражая курам, и никто из них даже не коснулся бы локтями друг друга, хотите верьте, хотите проверьте, потому что это место имеет историческое значение. Брат мой туда ходить боялся как черт ладана, потому что в воздухе там постоянно раздавался какой‑ то шепоток, особенно по вечерам, перешептывание какое‑ то, о котором подробнее я расскажу дальше, а братец‑ то мой – дебил, если вы себе этого еще не уяснили. Никакое другое помещение не могло быть меньше похоже на нашу скромную кухню, обшитую досками, где мы проводили большую часть нашей земной жизни, чем этот зал, облицованный мрамором, с огромным камином, канделябрами и такими большими окнами, что в высоту в них могли бы уместиться три маленьких козочки, стоящие друг у друга на голове. А канделябры, свисавшие с потолка, были сделаны как клубничины с хрустальными подвесками и такими шарами, которые ловили свет, а потом его отражали, и блики его начинали плясать и весело смеяться, честное слово, и все со всех сторон начинало кружиться как будто в танце, а если вам повезло и сквозь разбитые стекла задувал ветерок, тогда раздавался веселый перезвон хрустальных подвесок, чистый‑ чистый, как рыба в воде. Правда, некоторые канделябры попадали на пол, как перезревшие плоды, и вдребезги разбили мраморные плиты, глядя на них, можно было подумать, что это какая‑ то огромная выпотрошенная мошка, кишки которой полны яиц – гниение! делай теперь свое дело. Еще я хочу, чтоб вы знали, что там был такой огромный, необъятный верблюд с крылом, в него можно было бы без всякого труда упрятать троих мертвецов. Я говорю крыло, но точно не знаю, как эта штука называется, она чем‑ то напоминает стол, и если верить иллюстрациям, такая вещь есть у всех верблюдов, но у нашего она всегда стоит торчком, как крышка раскрытого гроба, и поскольку в потолке над верблюдом зияет старая‑ престарая дыра, когда идет сильный ливень, капли дождя падают внутрь, на туго натянутые струны, издающие печальные звуки, которые могли бы быть шопеном, слова я подбираю очень точные. Я часто взбиралась на этого верблюда с должным к нему уважением и обходительностью, потому что этот большой черный предмет мебели всегда представлялся мне чем‑ то строптивым и непокорным, живущим собственной таинственной жизнью, и я с опаской пробегала рукой по белым клавишам его клавиатуры, которые были желтыми, как лошадиные зубы. Мне бы хотелось, чтоб он со мной заговорил, хотелось услышать его глубокий подлинный голос, когда он поет, может быть, он оказался бы вовсе и не печальным, если б кто‑ нибудь соблаговолил его приласкать, следуя, так сказать, моему примеру, но папа никогда не извлекал звуки музыки из огромного верблюда, не спрашивайте меня, почему, потому что у папы даже в причиндалах его музыка звучала.
Все это происходило в дневное время, потому что ночью, об этом я расскажу вам чуть позже, здесь было просто потрясающе, но сначала я должна вам поведать о серебряной посуде, потому что, если говорить о ней, следует иметь в виду только дневное время. Она стояла во встроенных в стену больших шкафах, которые в высоту составляли три роста маленькой козочки и высились чуть не до самого потолка, поэтому мне приходилось пользоваться стремянкой, шкафы были закрыты застекленными дверцами чудесных ярких оттенков, которые переливались всеми цветами радуги, вот почему она была защищена от все поражавшей вокруг плесени, я имею в виду серебряную посуду. Иногда, в те дни, когда обстоятельства чудесным образом складывались так, что ярко светило солнце, отец отправлялся в село, а брат на другом конце наших владений тешился своими причиндалами, я устраивала здесь себе праздники. Вы даже представить себе не можете, сколько тут всего стояло в этих шкафах, мне едва хватало четырех часов, чтобы все это вынуть и расставить, я, естественно, все еще говорю о серебряной посуде. Даже не помню, собиралась ли я об этом писать, но я так люблю опрятность и аккуратность, что они меня просто с ума сводят. Ложки там были всех разновидностей, какие только можно себе представить, а еще там были блюдца, тарелки, чашки, ножи, и, если бы я захотела перечислить все, что стояло в шкафах и ящиках бального зала, сделанное из золота, стекла, серебра, бристольского стекла, философского камня, все восхитительные вещи, которые только можно себе вообразить, их список не кончился бы никогда. Я внимательно разглядывала каждый предмет серебряной утвари, так эти вещи правильно называются, я бы не стерпела, если бы на них появилось даже маленькое пятнышко, все должно было сверкать и искриться, я все оттирала до блеска, наводила полный глянец, никогда моя юбка не находила себе более достойного применения. Я стирала пыль и убирала мусор с мраморных плит на полу, снова мне попалось это слово, разбросанный как попало, и с величайшей любовью и заботливостью расставляла мои солнечные блики под самыми высокими окнами этого замечательного лабиринта, искрящегося и блистающего чистотой, куда солнце заглядывало потанцевать. Я думаю, что этих предметов серебряной утвари было добрых сорок сотен пятьдесят‑ тринадцать, каждый раз, когда я пыталась их пересчитать, выстроив рядами, у меня голова начинала кружиться не в ту сторону, и я сбивалась со счета, так их там было много, вот вам крест. Иногда меня кружило вокруг них в вальсе голыми ногами по щербатым холодным мраморным плитам. Но чаще я просто глядела на них, разведя руки в стороны в полном обалдении, застывала, как испуганный мышонок или воробышек, и чувствовала, как все горести и утраты каплями капают у меня с крыльев, как с сосульных сталактитов, падающих весной с крыши, которые отец при жизни называл цуляля, потому что в возрасте парня хоть куда он был миссионером в Японии, только не спрашивайте у меня, где это находится, хоть это и наверняка на другом конце сосновой рощи.
Но самые странные вещи происходили в бальном зале по ночам, доказательством чему служат мои воспоминания. Папа, вы же знаете, какой он у меня, так вот, когда он плакал по ночам, глядя на дагерротипы, это слово правильное, мы с братом могли делать все, что нам заблагорассудится, кроме, естественно, пожаров. Я хочу сказать, что справа от него, там, где у паскаля разверзалась бездна, можно было хоть из пушек палить, папа бы даже не моргнул глазами, из которых одна за другой ему на кончик носа скатывались слезы, капая оттуда на покрытые веснушками руки, я так понимаю, это у него еще одно такое упражнение было. А я спешила улучить этот момент, чтоб улизнуть в бальный зал. Если строго следовать истине, надо вам сказать, что добраться туда после наступления темноты можно было, только пройдя часть пути сквозь ночь, поскольку кухня нашей мирской обители, которая выходит на распаханное под пар поле, раскинувшееся около библиотеки и портретной галереи, вся сбита из толстых досок с бревнами, ее с нашей скромной помощью папа сам задумал и сколотил собственными и нашими руками золотой век тому назад, мне даже кажется, это было тогда, когда у меня еще причиндалы болтались между ног, так вот, кухня, как я говорила, находится примерно в шестидесяти локтях от надворных построек, за теми башнями, где располагается бальный зал.
Еще нужно было перебраться через лужу, в которой валялись свиньи, аккуратно обходя спящих животных, потому что у нас еще и своя лужа была, раньше я, должно быть, об этом написать запамятовала. Частенько, если только нам удавалось выбраться из той ямы, надо было идти по сдохшим курам, валявшимся где‑ то на протяжении дюжины локтей. А что до конюшни, так о ней мы для большей ясности вообще умолчим, туда уже с незапамятных времен никто не заглядывал, даже наша лошадь не отваживалась туда внутрь заглядывать, можете мне поверить на слово, потому что нечего было и думать открыть в нее дверь без помощи пушки.
Если мы оборачивались, с этого расстояния, как бы ни было оно незначительно, кухня нашей мирской обители уже не была видна даже при свете дня, потому что ее загораживало огромное здание библиотеки и портретной галереи. Я обычно останавливалась передохнуть в теплице, она так называется, потому что там беспорядочно и буйно растут самые разные симпатичные сорняки. Есть там еще и балкон, куда я любила захаживать, он как барабан выдавался над зданием, уступом зависая над трясиной, и оттуда открывался вид на далекие дальние дали. Насколько хватало взгляда, повсюду раскинулась сосновая роща. А еще горы и серое небо. Иногда по вечерам на закате линия горизонта была обозначена так четко, что мне казалось, я могу на нее упасть, пролетев весь путь до другого конца света, и я даже отводила взгляд, опасаясь, что голова начнет кружиться не в ту сторону.
И последнее – это наш дом, похожий на замок. Он еще выглядел вполне сносно, и даже инспектор по сносу не нашел бы в нем серьезных изъянов. Там могла бы разместиться целая армия и еще три императора со свитами. Но теперь там гнездились только голуби с воробьями, причем они постоянно вздорили между собой, подражая курам. Два его крыла, выстроенные в форме подковы, венчали башни. Ко всему этому примыкали хозяйственные постройки, о которых я здесь даже упоминать не буду, потому что, если вы захотите все это себе представить, вам придется нанять специалиста по геральдике или тригонометрии, а у меня, конечно, есть пороки, но не до такой же степени!
Тем не менее должна сказать, если вы от каждого конца подковы проведете прямые линии, то именно там, где они пересекутся, и будет расположен бальный зал, где‑ то в двадцати локтях в сторону, но сейчас уже настало самое время рассказать вам о том, что здесь происходило по ночам.
Я заходила туда и тихонечко, чтобы не беспокоить тени, о которых речь пойдет ниже, устраивалась на ящиках, в которые папа складывал слитки, он, должно быть, из‑ за этих самых слитков и запрещал нам строго‑ настрого заходить в это помещение. Сначала я давала глазам приноровиться к темноте, уставившись в щербатое зеркало в дальнем конце комнаты, то есть я хочу сказать, что все оно было в зеленых пятнах, покрывавших его как чешуйки. Цвета оно уже не отражало, такая судьба ждет все больные зеркала. Оно вам все показывало только черно‑ белым и пепельным с сухим привкусом былого. Это зеркало было чем‑ то сродни остановившимся часам, которые показывают не настоящее время комнаты, а отражают ее самые отдаленные воспоминания, как бывает, когда смерть побеждает жизнь, можете мне поверить, если только вы в состоянии, и я вам объясню, почему так происходит.
Как‑ то раз я долго всматривалась в зеркало, не отрывая от него пристального взгляда, и шепот, о котором я вам уже говорила, начал нарастать, он становился похожим на журчание или монотонное бормотание, в котором различались звуки доносившегося издали смеха, шуршания шелка, веера, раскрытого взмахом руки, сновидений птиц, прижимающихся во сне к прутьям клетки. Однажды я привела сюда с собой брата, потому что хотела убедиться в том, что это у меня не глюки, и что вы думаете? Как только раздался шепот, его стало бить мелкой дрожью, он весь затрясся, как желе, и пулей вылетел отсюда вон. Я осталась одна. Тем хуже для кретинов. У меня нет страха перед тем, что происходит не так, как заведено, что идет вразрез с будничной рутиной мира, это как протест против все пронизывающего одряхления, против того, что все в этом мире неизменно изнашивается, если только вы улавливаете, что я имею в виду.
А потом на выздоравливающем зеркале начинают возникать облики. От бликов лиц доносится приглушенный, постепенно нарастающий рокот голосов. Бархатные платья и камзолы, парики, кавалеры в долгополых сюртуках с фалдами как сорочьи хвосты, еще их, кажется, называют фраки, толпа обликов множится, им уже не хватает места в зеркале, и они выходят из него, заполняя пространство зала, который теперь принадлежит им. Это вас обязательно должно удивить, но когда облики обретают передо мной очертания настоящих людей, и сзади меня, и спереди, и справа, и слева, у меня возникает такое чувство, будто я теряю реальность собственного облика, то есть я хочу сказать, что постепенно становлюсь невидимой, смотрю на руки свои и вижу прямо сквозь них щербатый мраморный пол. Скоро я уже как будто больше не существую. Превращаюсь в одно из воспоминаний бального зала, дошедшее до нас от других времен, и, скажу я вам, чувство возникает такое, что все здесь происходящее составляет часть моего далекого детства, если оно у меня вообще когда‑ то было. В самой гуще толпы я чувствую руки шлюхи или целомудренной девственницы, которая меня обнимает, от нее пахнет свежестью, она склоняется надо мной, чтоб нашептать мне что‑ то на ухо, и ласково мне улыбается, хоть я больше уже вроде бы как и не существую. И кажется мне еще, что папа здесь где‑ то поблизости, хоть я его и не вижу. Господи, как же от этой шлюхи приятно пахнет, если даже она и впрямь шлюха, так нежно и свежо, как от куста дикой розы. И вдруг я замечаю, что издали ко мне приближается бамбино, тоже улыбающийся во весь рот, причем у меня возникает совершенно явственное ощущение того, что лицо у бамбино – точная копия моего, и улыбается он моей улыбкой, но он – не я, мы с ним просто похожи, как две капли воды. Не знаю, доходчиво ли я вам обо всем рассказываю, но стоит мне закрыть глаза, как я снова вижу это в памяти своей так отчетливо, будто все происходило наяву. Потом понемногу толпа рассеивается, шепоток стихает, я остаюсь в одиночестве, изумленная в окружившей меня гулкой тишине, в которую из разбитых окон задувает ветер, развеивающий по углам отзвуки шепота с мягким шелестом присвиста. Я об этом вспоминала, возвращаясь на кухню нашей мирской обители из зеркального помещения портретной галереи, и думала, что надо еще раз зайти в бальный зал, в последний раз перед тем, как нас смоет волна катастрофы. В одной руке я держала лампу, в другой – книгу заклятий, а в голове все время вертелась мысль о том, что надо бы обязательно заглянуть к папе, хоть помочь ему я уже ничем не могла. Вы, конечно, можете мне сказать, что я слишком вдаюсь в подробности, но мне только хочется доходчиво и добросовестно описать факты в их первозданном облике. Когда мы сегодня утром разложили папины бренные останки на столе, я помню это совершенно отчетливо, его ладони были обращены вниз, к земле, а пальцы слегка сжаты, как у человека, страдающего от головокружений, который хватается за траву, глядя в небо, потому что боится свалиться вверх и пролететь весь путь к неподвижным звездам. Его руки были в том же самом положении, когда брат попытался расчленить его тело на части, я прекрасно помню, что тогда снова обратила на это внимание. Теперь же папины ладони были обращены к небу, а пальцы вытянулись, как будто кто‑ то поставил на них печать, и так далее, я все говорю, как есть. К этому я бы еще только добавила, что он стал лысый, как арбуз, вокруг губ все было будто гладко выбрито, от усов и следа не осталось, ни одной волосинки на лице, просто ничего, и все тут. Чтобы быть сыном моего отца, надо уметь ничему не удивляться и не бояться неожиданностей, вот я к чему клоню.
Глава 2
Пока я случайно не наткнулась на этику спинозы, в которой ровным счетом ничего не поняла, потому что он ее, должно быть, написал, чтобы огонь в платье наряжать, я задавала себе множество вопросов, которые, как теперь мне стало ясно, совершенно не имеют значения, может быть, они вообще бессмысленны, но тем не менее эти вопросы постоянно вертелись у меня в голове, хоть я и старалась их от себя отогнать, глядя на поразительные бренные останки отца и пытаясь как‑ то осмыслить наше положение во вселенной. Я думала о том, что теперь с нами станется, и прежде всего со мной. Если так случится, что мы не сможем больше жить на нашей земле, куда же, черт возьми, нам податься, спрашиваю я вас? И, если такое случится, окажемся ли мы с братом в одном и том же месте, или наоборот, нас с ним навеки разлучат? От одной мысли об этом голова моя начала с такой скоростью кружиться не в ту сторону, что мне пришлось ухватиться за стул, на котором я сидела, не то под тяжестью опухолей я свалилась бы на пол.
А что, если они решат похоронить нас вместе с папой– кто знает, что им в голову взбредет? – и для этого сделают так, чтобы срок нашей годности истек до положенного времени, потому что, как же тогда иначе им удастся нас похоронить вместе с отцом, ведь это даже в каком‑ то смысле, можно сказать, гуманно, и тут у меня волосы стали вставать дыбом от другого вопроса: с помощью каких средств они решат превратить нас с братом в бренные останки, то есть, как именно они решат перевести нас из состояния подмастерьев в качество вполне полноправных сподвижников, если вы следите за ходом моих рассуждений.
Именно в этот момент в голове моей снова завертелись все те вопросы, которые я себе обычно задавала до того, как прочла в высшей степени невразумительную этику спинозы, из которой совсем недавно, всего лишь год назад, я в числе других вещей узнала о том, что истинная религия представляет собой размышления не о смерти, а о жизни – делай, гниение, свое дело! На самом деле это была одна из папиных присказок, смысл которой заключался в том, что наша работа состоит в стремлении к осмыслению, точно так же, как работа овсяной каши состоит в том, чтобы быть овсяной кашей, хоть я и не уверена, улавливаете ли вы в этом логику. Давайте, я вам это сейчас объясню. Когда я была еще совсем маленькой козочкой, еще меньше той, какой стала теперь, поскольку известно, что все мы смертны, я иногда размышляла над тем, куда мы с братом попадем, когда в положенный строк станем трупами – в рай, чистилище или ад, потому что после соответствующей проверки других возможностей не остается. Я пришла к выводу о том, что в чистилище людям внушают, что они в аду. Этого, как мне кажется, уже вполне достаточно. Потому что если мы уже настрадались, хотя бы на минуточку представив себе, что муки будут вечными, то всякая необходимость в вечных муках отпала бы сама собой. Что же касается ада, то я никогда не утверждала, что его нет, но самое страшное наказание, которым бог мог бы покарать дьявола, старалась я себя убедить, состояло бы в том, что он прекратил бы посылать людей в ад, потому что дьявол ревнив и тщеславен, как мой братец, а эти качества – пресвятая богородица! – вполне заслуживают наказания, и это больше всего беспокоит меня в моем брате, если только допустить, что создатель всего сущего и впрямь низвергает людей в ад в соответствии с решением, которое никакими силами не может быть опротестовано. Я даже, было, подумала про себя: «Бедный дьявол». И тем не менее, если судить по моему собственному жизненному опыту, недостатка в его кознях в нашем мире не ощущается.
Все это, как я говорила, происходило еще до того, как меня просветила спинозина этика, поскольку она учит нас с высоко поднятой головой проходить мимо этих суеверий, которые годятся только на то, чтобы вгонять в страх и морочить головы, лишенные элементарного образования. Но, столкнувшись со свершившимся фактом превращения папы в труп, должна признаться, я уже больше ни в чем не была уверена. Мне кажется, перспектива того, что лукавые прохиндеи из села заставят нас с братом сыграть в ящик даже без помазания, так на меня подействовала, будто они меня уже насадили на шампур и со всех сторон обжаривают как шашлык на костре этих уходящих в седую древность предрассудков относительно ада и тому подобного. Это же надо – все эти бредни приходится постоянно держать в голове, свихнуться от этого можно. Но если бы никто себе таких вопросов не задавал, жизнь на земле стала бы совсем скучной.
Так я и сидела, глядя на окоченевшее папино тело, на колченогом стуле, где папа любил сидеть, выходя из отключки. Я сидела очень прямо, расправив плечи, в спину будто кол вогнали, в общем, в такой позе, которая присуща графиням и людям с таким прекрасным образованием, как мое собственное. В правой руке я все еще держала керосиновую лампу, а книгу заклятий – в левой, в той руке, которая ближе к сердцу, и лампа при этом упиралась основанием мне в коленку. Откуда‑ то сбоку из мутной темноты до меня доносилось какое‑ то копошение, но я к нему давно привыкла, наши владения – как земля обетованная для мелких тварей, повсюду вокруг себя мы оставляем труху и тление. Тем не менее, сказала я себе, папины бренные останки – явление знаменательное. Важное событие, имеющее значение для вселенной во всей ее печальной совокупности. Его останки отбрасывают тень на наши жизни – брата и мою, но это самое малое из того, что можно о них сказать, потому что тень эта отброшена гораздо дальше, до той самой земли, которую называют святой, если она вообще где‑ то существует. Что теперь станется со всей планетой, со всеми ближними, которые кишмя кишат вокруг нас? Охватит ли их ярость и боль отчаяния, когда до них дойдет эта новость, станут ли они повсюду бомбы разбрасывать, как где‑ то написано, и сжигать все, разбивать вдребезги, глаза свои выплакивать и волосы на себе рвать вокруг той ямы, в которой мы собираемся похоронить его тело? Снизойдет ли сам господь, гневливый и небритый, на поля наши? Погибнут ли вместе с нами леса? И так далее. Все эти мысли мельничными крыльями крутились у меня в голове.
Когда отец существовал по эту сторону бытия, жизнь мира, по крайней мере, имела значение, хоть и не была она ни прямой, ни гладкой, – вот та мысль, которую я пытаюсь сформулировать. Неизменные пути звезд и орбиты галактик, овощи, неустанно растущие на мохнатом теле земли, даже мелкие твари, с суетливой аккуратностью копошащиеся в зарослях и рассылающие из густых трав свои запахи, у всего этого имелось свое предназначение, и хоть оно не было явственным, всегда тем не менее соответствовало папиным приказаниям. А теперь, когда он стал покойником, будто чудовищной силы ураган пронесся над землей и одним махом смел все, что на ней находилось. Не знаю, насколько доходчиво выражена эта моя мысль, и переживаю поэтому так, что аж тошно становится. Вам, должно быть, уже показалось, что с тех пор, как я начала использовать по отношению к себе род местоимений, присущий шлюхам, мне стало очень недоставать уверенности в себе.
Но больше всего, пока я так сидела и смотрела на папины бренные останки, меня тревожил вопрос о том, что теперь произойдет со Справедливой Карой. Я вам сейчас расскажу, как я о ней узнала, я имею в виду Справедливую, чтобы вы не подумали, что я собираюсь изобрести колесо. Как‑ то раз, задолго до того как я стала естественным источником крови, и, скорее всего, в ту пору у меня все еще болтались причиндалы из того места, которое им определено религией, я ночью наблюдала за папой, пока он думал, что мы с братом погружены в небытие сна. Отец пошел к дровяному сараю, также известному под названием склеп, и провел там много часов подряд. Было бы неправильно судить о моем папе лишь по затрещинам, у него под грудью что‑ то было, то есть, я хочу сказать, в груди, и скоро вы сами сможете в этом убедиться. Он взял с собой керосиновую лампу, потому что по ночам в склепе царит царство тьмы, и в нем бывает небезопасно, так как там повсюду все разбросано вкривь и вкось. В то время я, как говорится, была в том возрасте, когда высокая трава доставала мне до лопаток, и у меня уже была привычка проводить ночи под звездным небом, когда волосы рассыпались мне по плечам и на них оседали холодные капельки росы, а изумрудные комары, с которыми мы всегда были на дружеской ноге, как и все другие мелкие твари, старавшиеся, как правило, держаться от меня подальше, преспокойненько разбегались себе во все стороны, чтоб не тревожить мои ночные кошмары. И когда папа шагал через поле, он, бывало, проходил настолько близко, что едва на меня не наступал, но при этом был так глубоко погружен в свои мрачные мысли, что даже не замечал меня в высокой траве, можете себе представить? Мне бы никогда даже в страшном сне не привиделось совать свой нос в папины дела или – упаси господи! за ним подглядывать, вдаваясь в то, что меня не касается, то есть я хочу сказать, пытаться выяснить, чем папа занимался в склепе по нескольку часов кряду, никогда бы мне это и в голову не взбрело до той самой ночи, когда внезапно ушки у меня оказались на макушке. Должна вам признаться, что иногда со мной во сне приключаются всякие странности – то я говорить начинаю, то ходить, принимаюсь что‑ то делать, сама не зная зачем, и при этом даже понятия не имею, что я это делаю, иногда даже что‑ то записываю, хотя на следующий день эти записи удивляют меня до крайности. Так вот, в ту ночь, о которой идет речь, я как сомнамбула, именно так это называется, прошла несколько локтей от того места в поле, где обычно погружалась в состояние восстановительного небытия, и уши мои оказались на расстоянии трех лягушачьих скачков от двери в дровяной сарай, вот я о чем толкую. Расслышав звуки плача, я встала, как будто меня подрять подняли, а разбудить забыли, и подошла в этом состоянии к низкому окошку в склеп, но это еще только начало. Отец стоял там на коленях и рыдал, прижавшись лбом к стеклянному ящику, который я увидела впервые, чтоб мне с места не сойти, и с того самого момента меня так понесло по бесконечному склону колдовских заклятий, что еще не один год нести будет.
Надо вам сказать, что тогда со мной такое случилось в первый раз, потому что в этом мире у меня нет никакого интереса к тщете нашего мирского бытия, кроме некоторых четко определенных категорий, предметов, и мне никогда не приходило в голову, что в нашем дровяном сарае может находиться что‑ то такое, что могло бы для меня иметь какое‑ то значение, поэтому я и не подходила к нему ближе, чем на четыре или пять локтей, как и к некоторым другим хозяйственным постройкам в наших владениях, откуда же мне, скажите на милость, в таком случае было знать, что там находится внутри, включая Справедливую Кару?
Которую я тогда и увидела в самый первый раз в жизни моей распропащей. А если бы до того самого дня кто‑ нибудь мне сказал, что папа хоть как‑ то интересуется цветами, я бы, наверное, тысячу раз обмозговала это в своей бестолковке и все равно не поверила. Но папа наведывался туда по нескольку раз в неделю, совершенно не подозревая о том, что я подглядываю за ним в окошко сарая, когда он разбрасывает лепестки вокруг стеклянного ящика и бубнит себе что‑ то тихонечко под нос, будто говорит с такими же близкими, как вы или я. Отец мой всегда был старым, сколько я его знала, таким старым, что я могу только строить догадки, пытаясь представить его себе другим, таким, каким он был в возрасте парня хоть куда в сутане в Японии. После того случая я несколько лет видела его там в слезах, как тогда, в самый первый раз, такого старого, как горы, говорящего со стеклянным ящиком, будто он был совершенно нормальным, и при этом у меня всегда от удивления, как от горя, щемило сердце, будто я вдруг замечала каплю крови, сочащуюся из старого сухого валуна, вот вам крест. Уж не знаю, улавливаете вы, о чем я речь веду, или нет.
Как бы то ни было, со временем это стало для меня чем‑ то вроде тайной мессы, на которой присутствовала я одна, и даже священник, служивший ее в склепе, не подозревал о том, что я рядом. Конечно, мне совсем не хотелось, чтоб он узнал, как я за ним подглядываю, потому что это было чревато затрещинами, которые я себе прекрасно представляла, поэтому, когда дело подходило к концу и с первыми лучами зари он собирался уходить из сарая, я брала ноги в руки и стрелой сматывалась оттуда, только воздух вихрился в окружавшей тишине, как вокруг подружки моей стрекозы. Больше того, со временем я с легкостью могла определять тот момент, когда папа закончит, можете мне поверить. Когда все было сказано и сделано, у этого священника, если можно так выразиться, Не ita missa est, состояла в том, что он ухаживал за Справедливой Карой, заботливо сметал с нее пыль, менял ей покровы, осторожно перекладывал ее в другое положение, а потом нежно клал обратно в ящик с невысокими стенками.
Но как‑ то раз, когда папа оттуда выходил, уж не знаю, что с бестолковкой моей приключилось, но я там замешкалась перед самой дверью, а он как увидел меня, так, прямо, и оторопел. Он взмахнул рукой, а я подняла локоть на уровень щеки в полной уверенности, что меня ждет, сами знаете что, но против всяких моих ожиданий он мягко погладил меня по голове и, заглянув внутрь склепа, сказал не без доли натянутости, но спокойно:
– Это – справедливая кара. Вот откуда взялось то имя, которое мне врезалось в память.
Так я узнала о Справедливой и обо всем остальном, что хранилось в склепе, а потом я частенько туда с папой наведывалась, и воспоминания об этом стали для меня священными. Я помогала ему со стеклянным ящиком, я даже вроде как перешла с ним на ты, подражая папе, говорила с ним как с самым настоящим ближним, как будто у меня тоже крыша поехала. Под конец мы вынимали Справедливую Кару из ее ящика, если только не делали этого раньше, что тоже иногда случалось, и, не отрывая от нее взгляда, смахивали с нее пыль. А потом, бывало, мы часами сидели там вдвоем с папой моим, взявшись за руки, с места мне не сойти, и эти воспоминания тоже стали для меня священными. Должна вам признаться, что в это время со мной происходили какие‑ то странные вещи. У меня возникало такое ощущение, будто ко мне возвращаются перевоспоминания о тех временах, когда все в наших владениях треклятых было совсем не так, как теперь. И прежде всего солнце: тогда оно все заливало своим светом. И всегда этот свет меня повсюду преследовал, чтоб мне пусто было. Я носилась из стороны в сторону, а он мне светил даже на каблуки и подметки, хоть стой, хоть падай, и под конец я даже начинала уставать, не говоря уже о том, что он мне все время слепил глаза. И с луной было то же самое. Я шла, как иногда говорится, куда глаза глядят, потом возвращалась обратно тем же путем, а она – это же надо! – все так же висела себе в небе между вершинами деревьев, даже если я не шла, а бежала. Даже сегодня. Я иногда думаю, что не просто так на земле живу в свете этих двух светил. Та же проблема и с облаками, похожими на помпончики. Но об этом – ни слова.
А еще мне кажется, если вернуться к тому невообразимому времени, времени, о котором я думала, держась за папину руку в склепе, что тогда я едва дотягивала ростом папе до коленки; он казался мне высоким, как стена, всегда смеялся или улыбался, как будто у меня в какой‑ то период жизни росли из спины два крылышка, как у бамбино. Причем все эти картины моей прошлой жизни неизменно дополнял образ шлюхи, если она таковой являлась, от которой так приятно пахло ласковой свежестью, как от цветов дикой розы на опушке сосновой рощи. От этого времени моего бытия у меня в памяти остались еще более отчетливые воспоминания, чем от того, когда я еще не доросла до папиного колена. Рядом со мной тогда стоял еще один херувимчик, но то была не я, хоть мы с ним были похожи как две капли воды, в чем меня постоянно пытался убедить братец, а папа держал в руках увеличительное стекло, которое называется лупа, и волшебная сила помогала ему ловить в это увеличительное стекло лучи солнца, которые выжигали на деревянной дощечке черные линии, и над ними вился легкий дымок. Папа улыбался, выписывая на дощечке буквы этими сфокусированными лучами света, и мне, когда время настанет, надо будет подробнее вам рассказать про ту дощечку, вы тогда сами поймете почему.
Заканчивая рассказ об этих мемуарах, так, кажется, называются мои перевспоминания, должна вам сказать, что они меня долгое время очень волновали, особенно во сне, а потом еще прошлой зимой, когда братишка пытался меня убедить без всякого на то основания в том, что где‑ то в горах, бог знает где, у нас есть маленькая сестричка, но про этот наш спор я уже где‑ то писала, точно это помню. Надо признаться, что спать мне это не мешало, хоть и очень меня доставало. Я только пожимала плечами, а если у меня тогда шла кровь, я его ею забрызгивала. А в другое время, я хочу сказать, когда папа был не в дровяном сарае, он вел себя как обычно – все себе больше помалкивал, как козел, который приходил к нам по весне, погруженный в свои мрачные мысли, командуя из своей спальни наверху, как делал это еще только вчера.
Что же до братца моего, он, как узнал о Справедливой Каре, перепугался до такой степени, что штаны обмочил; думаю, его и сейчас еще из‑ за этого мучают по ночам кошмары.
Так вот, сидела я там и глядела на папины бренные останки, перевспоминая все это, конечно же, без всякого смысла, и хотелось мне только, чтобы кто‑ нибудь мне объяснил, какая польза от памяти. Я, пожалуй, изо всех своих сил постараюсь упрятать все эти мысли в самый дальний уголок бестолковки моей и больше не буду об этом думать, а вместо этого стану отражать происходящее через его осмысление, как учит нас этика. Я собрала воедино все свои мысли о нынешнем состоянии вселенной, сконцентрировавшись на нашем с братом положении. Отец наш стал ни более ни менее, как неодушевленной вещью, потому что души в нем уже не было, причем у меня возникло такое чувство, что даже эта бездушная вещь нам уже не принадлежит. Орды ближних нагрянут к нам из селения, они даже отдаленного представления не имеют о наших обычаях, ничего не уважают, еще меньше понимают, с пеной у рта что‑ то пытаются доказать, они взбалмошные и назойливые, как мухи, они все у нас отнимут: и владения наши, и мои словари, Справедливую Кару, вполне возможно, тоже у нас заберут, а вместе с ней и дар речи, и даже сами папины бренные останки возьмут себе и похоронят их там, где им заблагорассудится, в дерьме и в грязи.
Но самое страшное заключалось в том, что если бы они даже и оставили нас с братом в покое, у нас больше не было будущего. Если бы мы продолжали следовать папиным правилам, в каком‑ то смысле повторять его деяния, как молитвы по четкам, я так думаю, мы бы просто воду в ступе толкли, потому что все наши устоявшиеся порядки были осмысленными лишь постольку, поскольку папа был жив, как и все хрупкие символы огромного распавшегося мира, которые я еще улавливаю то тут, то там, как разноцветные шарики, висящие на новогодней елке, наряженной для бамбино на одной из моих иллюстраций, я смотрю на них, а они лопаются один за другим, как мыльные пузыри, от одного только факта папиной смерти, который вселяет в меня благоговейный ужас. Потому что этот факт вплотную придвинул ко мне «горизонт нашей жизни».
Должна вам признаться, хоть я и гнала от себя эти мысли, у меня было сильное искушение пустить все по течению, сдаться, дождаться прихода соседей и отдать себя на их волю, потому что у нас с братом не было теперь ни собственных принципов, ни законов, которые мы могли бы противопоставить их правилам. Я даже запретила себе мечтать о том, что придет прекрасный рыцарь, возьмет меня на руки и умчит на белом коне в расчудесные дальние края, но прежде всего я старалась не думать о том, что у прекрасного рыцаря будет твоя улыбка, твои глаза и твой меч‑ кладенец, блестящий, как ложка.
Я нутром чуяла, что единственный мой шанс, если это выражение точное, состоит в том, чтобы быть свидетелем происходящего, и я собрала всю свою храбрость в обе руки, то есть взяла книгу заклятий и карандаш и написала первое предложение, а слезы мне жгли щеки: Пришлось нам с братом зажать вселенную в ладошке, потому что как‑ то утром, когда только‑ только начало светать… – или что‑ то в этом роде, так как времени мне не хватало, мне не хватало всего, и поэтому я даже не могла перечитать то, что написала.
Не знаю, сколько времени я писала так быстро, как только могла, пока сердце мое стучало так сильно, что его биение отдавалось в пятках, потому что луны не было, небо подернула дымка, но за раз я, должно быть, без остановки исписала с дюжину страниц, проносясь сквозь слова и фразы, как ружейная пуля сквозь библию. Когда секретариус вбивает себе в голову нестись сквозь слова, лучше вам убраться с его пути, а то может не поздоровиться – на такой скорости и шею сломать не долго. Мои труды прервал звук, раздавшийся в животе, если я правильно припоминаю, его называют бурчанием, и тут я вспомнила о данном моему несговорчивому брюху обете съесть до рассвета хоть пару картофелин, который я так и не выполнила. Когда я закрыла книгу заклятий, мне показалось, что папины коленки слегка передвинулись. Его ноги были такими же окоченевшими и прямыми, похожими на палки, как когда мы сняли его утром с его злосчастной мачты, а теперь они чуть согнулись, как у дохлого паука. Но, в конце концов, за что боролись, на то и напоролись. Для очистки совести, хотела бы здесь отметить, что его голые ноги странным образом напоминали две заплесневевшие буханки хлеба – как по форме, так и по цвету. Немногого мы стоим в глазах смерти – как до ее прихода, так и после ее наступления, – вот та немудреная истина, которую решила довести до вашего сведения ваша покорная слуга.
Из разбросанных там и сям мешков я вытащила картофелину и свеклу, на которую наткнулась еще раньше, пошла к ведру, чтоб их вымыть, а потом обтерла сатурновым кольцом своей юбки. Треть свеклы, уже ставшей квелой, была обглодана. Свеклы – они как мы, и крысы, которые их глодают, тоже такие. Съедят их или оставят гнить, они здесь долго не задержатся, на земле нашей грешной, никто здесь долго не задерживается, и не пытайтесь уверить меня в обратном. Я уселась на корточки под столом, на котором лежал папа, и начала жевать. Потом подняла книгу заклятий и продолжила писать могучей кистью простертой длани, а сверху тем временем стали доноситься какие‑ то странные звуки. Лошадь, лежавшая на полу неподалеку от меня, уселась на задние ноги и взглянула на меня своим пристальным разноцветным взором. Из всех спален раздавался такой грохот, будто там в паническом смятении неслись куда‑ то наперегонки многочисленные ноги. Казалось, весь этот шум передвигается в направлении веранды, служившей чем‑ то вроде бельведера и примыкавшей к папиной спальне, откуда еще только вчера папа… Я вся съежилась, объятая страхом и охваченная дурными предчувствиями, сжав в руках дорогую мою книгу заклятий. С лестницы с грохотом спустился брат. Все круша на своем пути, он пронесся к шкафу, и так в порыве яростного гнева долбанул рукой по стулу, вся вина которого состояла лищь в том, что он стоял у него на пути, что стул отрикошетил папе по животу. Вот тут‑ то до меня и дошло, что братишка мой совсем слетел с катушек.
– Ты что творишь? – спросила я, не осмеливаясь вылезти из‑ под стола.
Брат пыхтел над крышкой банки с гвоздями, пытаясь ее отвинтить. Он раздраженно махнул в мою сторону рукой, давая мне понять, чтоб я не возникала.
Потом унесся обратно наверх, забрав с собой пилу и молоток. Оттуда снова донесся невероятный грохот, еще более грозный, чем раньше. Я зажала ладонями уши, мне казалось, я истошно вопила. Больше всего на свете мне хотелось убраться отсюда куда подальше, чтоб найти спасение хоть в селе, бросившись в ноги лукавым прохиндеям, – так меня уже братец мой достал вместе со всеми трупами, похоронами и другими злоключениями – такая жизнь хуже каторги. Но я не могла оставить брата моего. Я понимала, в каком он был смятении, видела, как он с дьявольской одержимостью катится в пропасть, и мне надо было бросить себя как тот стул на его пути, чтоб спасти от неминуемой погибели, сказать ему, по крайней мере, о том, в каком свете мне видится наше нынешнее положение. Поэтому я пошла к нему наверх по той самой лестнице, с которой только сегодня утром мы спустили папу вниз, как пианино.
Половинки! Я никогда не знала, откуда они взялись, но разве нам дано знать, откуда на нас свалилось все, что есть в распроклятых наших владениях? Их у нас, наверное, почти столько же, сколько портретов в портретной галерее, и в незапамятные времена они мне даже очень нравились. Я тогда еще любила их наряжать, ей‑ богу, то в одно их одевала, то в другое, но они в этом всегда выглядели нарядно, и я вела себя с ними, как будто мы вместе с Сен‑ Симоном были при дворе короля‑ солнца, где собиралась тьма тьмущая прекрасных рыцарей и графов, разодетых в пух и прах с рыцарскими фалдами, как у ближних наших, сами себе можете вообразить, и в глубине души я настолько была сыном своего отца, что представляла себя при том дворе графиней. Мы называли их половинками, потому что у них было только тело, сделанное из воска и дерева. У них отсутствовала та часть внутренностей, которая отвечает за страдания и потому дает основание называться полноправным ближним, если я доходчиво выражаю свою мысль. Их еще можно называть чучелами, что тоже вполне приемлемо, хоть немножко неправильно и не совсем точно, а если кто‑ то болтает невесть что и языком метет как помелом, лишь бы треск стоял, речи его это чести не делает.
Брат выстроил их всех на бельведере в один ряд около перил ограды и усадил на стулья. У одного в руках была метла, у другого – большая ветка дерева, у третьего – что‑ то вроде граблей или заступа, и, глядя на них с небольшого расстояния, можно было подумать, что это нечто вроде караульного помещения, вот, оказывается, какая мысль осенила убогое сознание моего братца. Мне никогда раньше не доводилось видеть его в состоянии такого возбуждения, мне даже казалось, что из ушей его и из задницы искры сыплются.
– Братец, – сказала я, – неужели ты думаешь, что вооруженные метелками половинки смогут остановить ближних?
Брат засветил с полдюжины керосиновых ламп, мутный свет которых даже отдаленно не напоминал рай, я вас уверяю. Он продолжал метаться как бешеный от одного конца бельведера к другому, вооружая своих солдат тем способом, который я только что описала, и время от времени прикладывался к бутылке чудесного вина, хлебая его прямо из горлышка. Это же надо! А потом сказал:
– В этих владениях я хозяин. Пусть только сунутся! Разговор с ними меня не испугает! Им ответит жерло моей пушки!
– Твоей пушки? Какой еще пушки? – попробовала я его урезонить. – От папы только бренные останки остались, тело его никогда больше не пошевельнется!
– Теперь я стал папой!
Он выпятил грудь колесом и стал себя колошматить по ней кулаками, как папа наш, бывало, делал, будто в подражание гориллонам.
Летом я не раз с серьезным видом пыталась втолковать бабочке, сидевшей у меня на коленке: «Я – твой хозяин», я это просто так делала, ради забавы, но моего жевательного аппарата было недостаточно, чтоб ее в этом убедить, и мы помирали со смеху, то есть я хочу сказать, что подружка моя улетала – попробуйте объяснить бабочке, что значит быть хозяином владений! То, что даже бабочка не в состоянии понять, никак не может быть чем‑ то очень важным, такое у меня в этом вопросе сложилось мнение. Хотя, сразу же хочу оговориться, мнения по этому поводу в нашей семье расходились, то есть, я хочу сказать, когда папа еще дышал как целый человек.
Как бы то ни было, я оставила братца наедине с его больной головой, здесь это будет самым уместным выражением. Взяла лампу свою керосиновую и стала спускаться по лестнице.
– Ты куда пошла? – заорал он мне вслед так истошно, будто его голым бросили на раскаленные угли.
Ничего ему не ответив, я выскочила на улицу в ночь, живущую своей жизнью. Я пошла в направлении, сами знаете чего – дровяного сарая, известного также как склеп. Мне казалось, там я буду в относительной безопасности, потому что братец мой, уподобившийся кретину, до смерти боялся туда заходить, сами знаете почему. Опершись на каменный стол, где царила Справедливая Кара, я локтем слегка ее подвинула, чтоб освободить себе место, и сразу стала писать, так сказать, ковать железо, пока горячо, такая вот у меня жуткая привычка. Оторвалась я от своего сочинения только для того, чтобы, дрожа от страха, подойти к двери и бросить взгляд на то, что творил мой брат, охваченный безумием. В каком‑ то смысле ему удалось достичь поставленной цели, потому что, и в самом деле, с этого расстояния половинки можно было принять за настоящих солдат, таких, как нарисованы в моих словарях. Время от времени он рупором складывал у рта руки и орал что было мочи:
– Пусть они только сюда сунутся! У меня есть пара словечек, чтоб высказать этим ближним!
Я вернулась к столу печальная, дрожа от страха. Как бы мне хотелось теперь быть на твоей стороне, под твоей защитой, такой маленькой, трепещущей от восхищения пред твоим величием. Но я откинула волосы назад так, что они заструились по плечам, глубоко вздохнула и собралась с силами, которыми наделил меня карандаш.
Пару‑ тройку раз в небе прочерчивали пути огненные шары, запущенные братом с бельведера, по‑ своему они даже были красивы. Я и отдаленного представления не имела, из чего он их делал, понятия не имела, как он их так запускал, что они долетали до середины поля. Один из них упал так близко от дровяного сарая, что я уже чуть было не вскрикнула, но сдержалась, решила, что лучше будет не подавать голос. Такая изобретательность у этого типа с куриными мозгами, у братца моего, могла появиться только вследствие умопомешательства, как я уже вам говорила, это у него так вдруг вспыхнуло в голове озарение после долгих лет умственной отсталости и привело к тому, что рассудок его совсем помутился.
К тому же братец стал бить молотком по большому прямоугольному листу железа, от чего грохот стоял такой, будто гром гремел, это, я думаю, он делал для того, чтобы люди поверили, что он накоротке со стихиями, которые, как он пытался представить, подвластны его воле, но кто же, скажите на милость, мог в такую чушь поверить, кроме него самого, повредившегося в бедном своем рассудке? Это же надо до такого додуматься!
Тут до меня вдруг дошло, что эти огненные шары, которые я видела в небе, были сродни горящим куропаткам, только теперь юпитер младший делал их из скипидарного дерева, если только оно так на самом деле называется. Да, бог с ним, с деревом, только птичек очень жаль. У того, – кто с ними такое мог сотворить, ни стыда быть не может, ни совести.
Так прошла вся ночь. Я отдала ей ту часть себя, которая ведает записью слов на бумагу. Страниц двадцать исписала своим бисерным, сжатым почерком, это вам не фунт изюма. К концу работы голова моя уже была ни на что не годной. Мозг таял, сочась сквозь глазницы, глаза болели так, будто мне песок в них насыпали, а карандаш так и норовил выскользнуть из руки и убраться невесть куда.
Так вот, доложу я вам, положение складывалось совершенно безвыходное, куда ни кинь – всюду клин, и я уже дошла до такого состояния, что стала подумывать над тем, не последовать ли мне за ариадниной нитью папиной веревки и тоже не повеситься ли, чтобы в мгновение ока одним махом покончить сразу со всеми проблемами, для того, должно быть, веревочки и придумали, мои милые. Но, что же тогда с братом станется? И увижу ль я тебя еще когда‑ нибудь, суженый мой? А как же останутся без меня птицы, в тайне со мной танцующие даже на другом конце света, и блики мои солнечные, кто же тогда будет Справедливой Каре покровы менять?
Луч зари позолотил горизонт. Услышав стук молотка, я выглянула из сарая в последний раз. Мой брат прибивал стул к вершине двух стремянок, предварительно связанных ремнями. Делал он это в огороде, где‑ то в дюжине локтей от дома Сами можете проверить, они там так еще и стоят, стремянки эти распроклятые. Вот тогда‑ то я и увидела на другом конце поля, около самой сосновой рощи, на фоне кустов дикой розы чей‑ то силуэт, только я никак не могла определить, кому этот силуэт принадлежит. Мне кажется, я уже раньше где‑ то писала в моем завещании об этом странном видении, должно быть, где‑ то страниц пятьдесят тому назад. Потому что вскоре я поняла, кому принадлежал этот силуэт на фоне зари: то был не кто иной, как наш ближний, стоявший на своей деревянной культе, который ходил по этой земле, подпрыгивая, как сорока. К нам пожаловал нищий.
Или попрошайка, если вам так больше нравится. На нем был его широкий плащ, весь засаленный, это слово к нему больше всего подходит, казалось, ему сноса не будет, и, скажу вам откровенно, нам здесь только его недоставало во всей этой катавасии, ей‑ богу. Когда он подошел ближе, я заметила, что шел он своей развязной походкой сенатора. Иногда ритм ее сбивался, и, казалось, клюка его хмелела от охватывавшего ее ощущения свободы и независимости, внезапно начиная описывать в воздухе странные кренделя, как будто павлин веером раскрывал свой хвост или колесо от телеги начинало вращаться вокруг собственной оси, но деревянная нога его продолжала преданно и верно ступать то на траву, то на утоптанную землю, синтаксис здесь дан с любезного разрешения де Сен‑ Симона. Не помню, говорила ли я вам о том, что этот наш ближний, то есть попрошайка, был человеком беззаботным, то есть, можно сказать, без затей. Те, кто под твердью небесной особенно высокого о себе мнения, палец ему в рот не положат, голову вам даю на отсечение.
Глава 3
Братец мой взглянул на него искоса, рука его зависла в воздухе, брови насупились. Из того места, где я пряталась, мне показалось, что на лице брата появилась тень выражения нерешительности и удивления, и во мне даже надежда затеплилась, но по здравому размышлению я решила, что такая мелочь никак его не выведет из состояния умопомешательства.
Братишка мой продолжал постукивать молотком по стулу, который собирался прибить к верхней части двух стремянок, дрожавших от каждого удара мелкой дрожью, и снова я осталась горевать в одиночестве.
А нищий тем временем поставил свою ногу деревянную посреди поля, клюку свою изогнутую повесил на руку и стал хлопать в ладоши и смеяться, явно ошарашенный плотницким мастерством братца моего. А когда он бросил взгляд на бельведер и увидел половинок, вооруженных метелками и швабрами, у него даже челюсть отвисла. Он хлопнул себя по бедру а глотки его раздались звуки, похожие на те, которыми выражают свои чувств собаки, но об этом я уже писала раньше. Потом он подошел поближе и постучал костяшками пальцев по той стремянке? которая стояла слева, как обычно стучатся в дверь, чтобы привлечь внимание брата в чем он и преуспел. Он провел указательным пальцем у себя под носом, явно намекая на усы, что должно было означает его желание узнать, где папа. Братец в ответ склонил голову на бок, закрыл глаза, высунул язык, а свободной рукой показал, что держится за воображаемую веревку над головой, стремясь таким образом изобразить повешенного, – двух мнений тут быть не могло. Сначала нищий оцепенел. Потом, должно быть, решил, что это – хорошая новость, и, продолжая пребывать в прекрасном расположении духа, направился к склепу, где я пряталась, о чем ни он, ни братишка мой не догадывались. Здесь он сел, прислонившись спиной к стене. Потом стал глазеть на братца, как будто тот играл спектакль в театре одного актера, как наша единственная игрушка. Нищий так сидел, смотрел на него и бубнил что‑ то себе под нос, вроде пру‑ пу‑ пу, если я это правильно вам передаю, как лошадь наша пофыркивает губами своими, и при мысли об этом я еще подумала, куда она могла запропаститься, я имею в виду нашу клячу, которая исчезла, будто сквозь землю провалилась. Потом нищий вынул из кармана тухлый бутерброд и обстоятельно, без всяких комплексов откусил от него приличный кусок. А братец мой тем временем закончил свое дело и взгромоздился на самой вершине стремянок, держа в руке перо, как скипетр, а высохший труп енота, который я несколько часов назад видела в портретной галерее, нахлобучил себе на голову, как корону. Так он там и сидел – то ли король задрипанный, то ли шут гороховый. А нищий захлопал в ладоши.
Мне страшно хотелось спать, но я противилась сну до последнего, чтоб успеть завершить свое завещание до того, как разразится катастрофа. Но силы меня оставили, просто выскользнули из меня, как карандаш из пальцев. Что бы мы ни делали, как бы ни складывалась обстоятельства, что бы с нами за день ни происходило, к ночи мы всегда ложимся и засыпаем, потому что другого нам не дано. Будто нас кто‑ то ведет на коротком поводке, усталость нас всегда одолевает, клонит к земле и неизменно побеждает, вгоняя в сон, так уж наша жизнь устроена. Должно быть, это смерть нас так по жизни ведет.
Проснулась я от взрыва. Я никак не могла проспать больше половинки оборота часов, потому что день еще только занимался. В головке у маленькой козочки царила такая сумятица, что на пути к двери я то и дело натыкалась на всякий разбросанный хлам и даже ногу себе в одном месте до крови пропорола о плуг, мне кажется, рана причиняла мне острую боль и к тому же прилично кровоточила. Но, как говорится, нет худа без добра, потому что это привело меня обратно в себя.
Взрыв случился потому, что брат мой, бог знает где, откопал писклю, зарядил, и над одним ее концом еще вился голубоватый дымок, как у папы изо рта, когда он рыгал, смолов корзину острых перцев. Я была в курсе того, что братец знал про наши владения такие подробности, о которых я и не подозревала, так как у нас были некоторые постройки, куда я никогда даже не заглядывала, а он там, бывало, проводил целые дни напролет. Что же касается меня, то пока можно было собирать дикие розы и полезные грибы, пока у меня была дневная порция словарей и блики солнца на серебряной утвари, меня очень мало заботила суета мира нашего грешного, заниматься которой нас толкает религия, как я уже, кажется, раньше писала. Братишка мой, без всякого сомнения, знал о существовании пискли уже давно, и теперь, глядя на него, я начала понимать некоторые вещи, которым раньше не придавала никакого значения. Вы понимаете, когда папа наш уходил в село, я время от времени слышала точно такие же взрывы, но тогда я себе говорила, что это, должно быть, так ветки внезапно ломаются – от ветра или от накопившегося в них ледяного дождя, потому что в нашей части света ледяной дождь год от года накапливается, сохраняясь все лето, что мне здесь еще вам сказать, так что донесшийся звук, как мне показалось, происходил именно от этого. Я теперь припоминаю, что в такие моменты я никогда не знала, куда братец мой подевался, а теперь, я так себе думаю, он, наверное, ходил за своей пищалкой и палил из нее по куропаткам. Потому что – и это тоже вдруг отчетливо всплыло у меня в памяти, – как раз в один из тех дней, когда я слышала взрывы, брат заявил, что нашел у дороги двух мертвых птичек, а потом – только представьте себе на минуточку – он их сварил и съел вместе с папой, просто в голове не укладывается. Я, конечно, как вы сами понимаете, к ним даже не притронулась. Меня бы наизнанку вывернуло, если б кто‑ нибудь насильно мне в рот засунул кусок куропаткиного трупа, и, когда я смотрела на то, как они ели, меня внутри душили рыдания, хоть снаружи я и не подавала виду. Тьфу ты, пропасть, я же совсем не про писклю хотела написать, а про пищаль. Господи, ты, боже мой, как же бедная моя головушка притомилась, из нее даже значения слов стали выскальзывать, а ведь это – все мое достояние. И даже пищаль, если такая штука и впрямь существует, не вполне точно отражает действительность. Мне бы, наверное, надо было сказать фузея. Хотя, на самом деле, точным термином для обозначения этой хреновины должно быть ружье. Вот такие пироги. А братец мой тем временем снова пальнул в направлении сосновой рощи. Уж не знаю, было ли там что‑ нибудь, что он решил на тот свет отправить, а если и было, то отправил он это туда, куда хотел, или нет, только отдача от выстрела была такой сильной, что сбила его с ног, и он приземлился на задницу. И звонко при этом рассмеялся. Потом встал и стал стоять, пошатываясь на неверных своих ходулях. Он взял бутылку вина и начал прямо из горла лакать, запрокинув голову назад до отказа, прямо как свинья настоящая, но скоро что‑ то вроде как слегка сбило его с панталыку – до него дошло, что бутылка опустела, и он так ею хряснул об стену, что разлетелась бутылочка в мелкие дребезги, а у меня от такого его поведения даже голова пошла кругом.
Теперь, когда наступило утро, стало ясно, что охранники на бельведере были всего лишь половинками, а трон, который он себе соорудил на вершине двух стремянок, ни на кого не мог произвести впечатления, даже на меня. Так я стояла и смотрела на него с такой злостью, что у меня начала трястись голова. Тут я увидела нищего, который вприпрыжку ковылял вдоль холма, он давеча начисто у меня из бестолковки моей выветрился. Из карманов его хламиды засаленной вываливались ножи с вилками, он ухмылялся себе глумливо, как крыса поганая, и той рукой, в которой не была зажата клюка, прижимал к груди охапку нашей серебряной утвари и всякое другое добро из бального зала. Пасть его в оскале ухмылки растянулась до ушей, хоть завязочки пришей, рожа так и лучилась вся от удовольствия, а глазенки тем временем мутновато бегали, сверкая искрами жадности. Как вы сами понимаете, он был такой довольный от наживы своей, выпавшей ему как манна небесная. Тем временем маленькая козочка вернулась к своему завещанию. А куда, скажите на милость, ей было еще возвращаться?
Бумажные страницы громоздились кучей, перечитывать написанное мне было недосуг. Я с трудом продвигалась вперед, используя подручные средства, Сен‑ Симон сказал бы, наверное, что я беру неприятельские бастионы, но я верю словам, по большому счету они всегда говорят то, что должны сказать. Бросьте камень с закрытыми глазами, потом, не подглядывая, повернитесь пять раз вокруг своей оси, и даже до того, как вы откроете глаза, вам будет точно известно, что камень упал на землю, хоть вы и представления не имеете, в каком направлении его бросили. То же самое происходит и со словами. В конце концов они всегда где‑ нибудь находят свое место, в какую бы сторону вы их ни запустили, только это на самом деле и имеет значение. Я совсем не собираюсь тем самым говорить, что секретариус позволяет себе писать, как писали в незапамятные времена при царе горохе. Мне только хочется дать вам понять, что когда она пишет, ей приходится нелегко, а это совсем не одно и то же. Вот такие они, эти маленькие козочки не от мира сего.
Скоро я услышала, что братец зовет меня, вопит, во всю глотку надрывается, и уже по тому, как он выговаривал слова, мне стало ясно, как сильно чудесное вино повредило его бедную головушку. Я тут же присела под грязным окошком на корточки, даже носа не смея высунуть, чтобы взглянуть на то, что теряло снаружи свои очертания. Братец мой, пьяный в дымину, как шпана малолетняя, взгромоздился на лошадь, которая вдруг снова возникла невесть откуда, прохиндейка лукавая, являя собой при этом самое печальное зрелище. Ноги нашей несчастной скотины напоминали ветки дерева, которые вы поставили на землю и пытаетесь согнуть, чтобы смастерить лук. Под весом брата брюхо ее провисло так низко, что он своими пятками чуть землю не скреб. Глядя на нашу клячу, ставшую похожей на бассета, – я прекрасно себе представляю, как выглядят эти собаки, потому что наш пес, который преставился, поев нафталиновых шариков, тоже был бассетом, – на походку ее, распластанную под весом братца моего, можно было подумать, что лошадь нашу превратили в сосиску чары какой‑ то злой феи, потому что, должна вам сказать, далеко не все феи бывают добрыми. Лошадь едва двигалась вперед, спотыкалась на каждом шагу, ее заносило в разные стороны, а братец мой ей все время норовил под ребра каблуками своими звездануть, можете мне поверить, черти в преисподней его со всех сторон как следует прожарят, но это еще не все. Веревка, которой я прошлым утром обмотала лошадиное брюхо как подпругой, так и была обмотана, а к концу ее, волочившемуся сзади, был привязан мешок, размеры которого сами по себе свидетельствовали о том, что там находилось внутри. Тут я увидела нищего, которому на все происходящее было в высшей степени наплевать, весело подпрыгивая на культе своей деревянной, он скрылся на кухне нашей мирской обители.
А юпитер младший тем временем все продолжал меня звать. На голове его королевской короной все еще был нахлобучен труп енота, встретившего смерть свою в капкане.
И в это самое мгновение раздался ужасный звук, похожий не то на рокот, не то на жужжание. Он неторопливо приближался к нам, нагнетая ужас, – именно это слово самое точное, потому что казалось, он доносится прямо из ада, который был у нас под ногами, того самого ада, в который мы должны верить, чтобы нас самих туда не отправили, хоть на самом деле братец мой никогда ни во что верить не хотел. А у папы нашего, должна вам сказать, в числе любимых его присказок была одна, гласившая о том, что маленькие фомы неверующие плохо кончают, когда берутся огонь в платья обряжать, не веруя в то, что со спичками играть опасно.
Вдали показалось что‑ то, чему я даже имени не могу подобрать, грохочущее, как гигантский шмель величиной с осла, хоть осла на самом деле даже сравнивать нельзя со шмелем по размеру, оно глухо рокотало, двигаясь в нашем направлении от сосновой рощи, а, может быть, и от всех семи морей. Брат мой никак не мог прямо усидеть на нашей кляче, потому что лошадь была очень напугана этим треском, громыхавшим как грохот, иногда доносящийся с неба от тех странных птиц, которых папа, если память мне не изменяет, называл археопланами, когда мы с братом его слышали, тут же пулей куда‑ нибудь сматывались. Как только лошадь увидела, что шмель этот движется в нашем направлении, она стала пытаться бить землю копытом, но это у нее бедняги не очень получалось, потому что колени у нее на ногах подгибались, и она упиралась мягким брюхом в грязь земли, в которую сердца наши когда‑ нибудь вернутся прахом.
Шмель тем временем остановился неподалеку от брата и встал ко мне своей мордой, хоть сам он и понятия не имел, что я схоронилась в том месте. На самом деле шмель оказался сложной машиной, какой мы еще никогда в наших владениях не видывали, если не считать той, которая мне все ноги измучила, я имею в виду орган. В ней было два колеса, вот и все, что я о ней могу сказать, и управлял ею рыцарь в шлеме, хотите верьте, хотите нет, и когда рыцарь с нее спустился, рокочущее жужжание тут же стихло, с места мне не сойти. С головы до пят рыцарь был облачен в кожаные одеяния, и когда он снял шлем с очками и плотно сжал их в руке, сердце мое скакнуло так, как лягушки скачут, прыгая в воду, потому что, то был ты, возлюбленный мой, во всем своем неописуемом великолепии твоих рыцарских доспехов.
Брат мой не проронил ни слова, только глядел на рыцаря и его боевого коня, вселявшего ужас, и трясся как осиновый лист на ветру.
Рыцарь ему сказал:
– Где твоя сестра? – но тут же поправился, – твой брат. Где твой брат, который носит длинную юбку? Послушай, я тебе зла не желаю. Я – инспектор месторождения…
Братишка мой, напуганный до невозможности, молчал, будто воды в рот набрал. После минутного замешательства рыцарь направился к дому. Братец в приступе ярости саданул каблуками нашей кляче по бокам, чтобы пустить ее в галоп, но для бедной скотины это было чересчур, она ничком свалилась в грязь, и брат полетел туда же вслед за ней.
Он встал, нисколько не заботясь о еноте, который так и остался валяться в грязи, куда отлетел при падении, и понесся так, что только пятки сверкали, чтобы обогнать инспектора места моего рождения. И взобрался братец на стремянки своего трона, откуда чуть снова в грязь не свалился, мне надо вам все это сейчас очень быстро объяснить, а потому пишу я с ошибками и не всегда доходчиво, но вы уж меня все‑ таки выслушайте, потому что я уже говорила о том, что в нашей семье случаются отключки, и это правда, когда речь заходит о папе и обо мне, а у брата их не бывает. У юпитера младшего были другие средства, к которым он прибегал, когда его вынуждали к тому обстоятельства. Иногда случалось, только не спрашивайте меня почему, что когда он бывал чем‑ то сильно напуган, его начинал бить страшный колотун и, казалось даже, у него возникают проблемы с дыханием, как будто в него вселялся какой‑ то чудовищный зверь и начинал вязать узлами его потроха, как будто он из последних сил старался, чтоб сердце его не остановилось, как будто и так далее, и тому подобное, и смеяться тут совершенно не над чем. Если вас интересует мое мнение, такие его припадки были ничем не лучше наших отключек. Так вот, с братцем моим тогда случился именно такой припадок, когда он сидел на троне перед инспектором моего места рождения. Я только надеялась, что он штаны себе не обмочит, что случалось с ним иногда в этом горе его, потому что, как тут ни крути, тогда в твоем присутствии графине, наверное, стало бы чуточку стыдно за свою семью.
Я отлично помню, что сказал инспектор места рождения, потому что все это, как говорится, навсегда запечатлелось в моей памяти, я видела, что ты специально говоришь очень громко, намеренно это делая, в надежде на то, что где бы я ни находилась, до меня донесутся твои слова.
– Послушай меня, я пришел тебе помочь как друг. Я знаю, ты слышишь, что я тебе говорю, даже если иногда тебе это бывает не очень понятно. Я бы мог как‑ то помочь вам уладить ваши дела. Я инженер, а к тому же… Так вот, я хочу тебе сказать, что через несколько часов все они сюда заявятся. Люди из села и из других мест, может быть, даже из правительства. Вчера я встретился с твоей сестрой, с братом, если так тебе понятнее. Не знаю почему, но она – он, господи, как это все нелепо, – так вот, она мне очень понравилась. Мне хотелось подготовить вас к их приходу. И помочь вам немножко, если получится, в меру моих возможностей. Ты понимаешь, положение складывается достаточно сложное. Я был у священника и просматривал с ним книгу записей актов крещения. Ты понимаешь, о чем я говорю? Там сказано, что были две девочки‑ двойняшки. Одну из них я вчера видел. А где вторая? Что с другой случилось? И с матерью твоей? Они и теперь здесь с тобой живут?
Я чуть приоткрыла дверцу дровяного сарая, и раздавшийся скрип привлек внимание инспектора, на что я, надо сказать, и рассчитывала. Я вышла на порог. И тут же инспектор повернулся в направлении маленькой козочки, как овод, летящий к единственному в саду цветку.
Братишка начал вопить, что он здесь хозяин, но, скажу я вам, никого он в этом не убедил. Ты продолжал идти в моем направлении, начисто про него позабыв. В этот момент я заметила, что нищий, застрявший в нашей земной обители, высунул свой нос в окно и пялился на тебя озабоченно и подозрительно.
– Ты почему прячешься? Брата испугалась?
Ничего ему не ответив, я скрылась в сарае. Но я помню, что, несмотря на обстоятельства, я сделала особое усилие, чтобы, когда я уходила, задница моя так вильнула на виду инспектора места рождения, чтоб он счел меня вполне приятной личностью. Я остановилась и замерла в молчании рядом со Справедливой Карой, как будто хотела позволить тебе сделать собственные выводы.
– Это еще что за склеп?
В сарае было довольно темно, он взял керосиновую лампу и подошел ко мне ближе. Я увидела, как от шеи его пошли по лицу зеленые пятна. Наверное, я запамятовала упомянуть о том, что Справедливая Кара – зрелище впечатляющее. Я стояла рядом, сложив руки на животе, как делала это, бывало, когда папа заставлял меня читать наизусть про лису, несущую золотые яйца. Я продолжала спокойно наблюдать за инспектором. Распластавшись на полу бесформенной массой, Справедливая Кара с трудом пошевелила рукой, а потом головой в жалкой попытке скрыться, или от стыда, как будто хотела взять бастион, потому что в глубине души она немного боязлива. Тем не менее этого простого движения было достаточно, чтобы с одной стороны покров ее чуть приоткрылся, – это же надо! – и я поспешила снова прикрыть ее пальцы, чтобы они вновь приняли пристойный вид, а потом снова встала в строгую свою позу, скрестив руки на животе. Наш инспектирующий место рождения поэт изумился до невозможности! Теперь мы уже совсем не были такими прохиндеями лукавыми. Он так глаза выпучил, что они стали размером с блюдечки. У Справедливой Кары, обернутой в ее серые покровы с головы до пят, мимика такая, как у мумий на иллюстрациях в моих словарях, и вообще она на них очень смахивает. На лице ее видны только зубы, потому что Справедливая даже не знает о том, что такое губы, а еще розовый кончик ее языка, когда она ест, и кроткие глаза, цвет которых так поразительно напоминает мои собственные, что вы бы сказали, они похожи на мои как две капли воды. Болезненно опершись на руки, обмотанные лохмотьями, Справедливая попыталась чуть придвинуться к ящику, где она проводит большую часть своих дней, она ведь никогда далеко от него не отползает, чтоб нужду свою справить, вот она, бедняга, и ползла обратно, оставляя за собой влажный след и все такое. В любом случае, далеко она отползти не могла, потому что была прикована за шею цепью, вмурованной в стену. Да, чуть не забыла вам сказать, что у нее к низу живота еще такой мешок специальный подвешен на тот случай, если ей понадобится испражниться.
Инспектор вновь обрел дар речи, хотя, когда он заговорил, голос у него был очень тихий и все время срывался.
– Это ужасно… это омерзительно… это… это твоя сестра? Твоя сестра‑ близнец?
Я слегка пожала плечами и закатила глаза, как будто хотела ему сказать, господи, ты, боже мой, какой же ты, братец, болван!
– А это? – снова спросил этот рыцарь без страха и упрека, потому что еще не видел главного своего сюрприза.
Он поднес лампу ближе к стеклянному ящику. Платье, как иногда говорят, уже было за гранью реальности, потому что оно скорее походило на слой ссохшейся грязи, покрывавший, должна вас предупредить, то, что осталось от костей, вам надо это знать, чтобы потом не вопить от удивления, что это еще здесь такое. Но череп пока держался, он, если можно так выразиться, был от мира сего. Кое‑ что осталось и от зубов, и от глазниц тоже, от тех впадин, в которых в незапамятные времена жили своей зрячей жизнью глаза.
– А это что такое? Это, должно быть, ваша мать?
Мне нравится писать слова, вылетающие из твоих уст, даже если то, что ты говоришь – полная чепуха, мне кажется, я сжимаю их бедрами, прижимаю к сердцу своему, к твоим губам. Мне нравится говорить о тебе и во втором лице, и в третьем, порхая с одного на другое, как подруга моя стрекоза с крыльями изумрудного цвета летом перелетает с куста на бледно‑ желтый нарцисс. Если я правильно уловила, ты в приступе раздражения выразил недовольство создателем всего сущего, который в беспредельной власти своей с тонким знанием дела творит несправедливость, обожая слушать скорбные стоны рыдающих матерей. Ты кругами ходил вокруг ящика и кощунственно богохульствовал сквозь сжатые зубы.
– Господи, боже мой, что же это за ужас такой беспросветный, что же это за страсти такие беспредельные…
Инспектору нужно было опереться о стену, голова его поникла, как у Справедливой. Потом, наконец, он поднял ее и долго смотрел на меня пристальным взглядом, а я по выражению его глаз могла сказать, что думал он о том, насколько же наша вселенная несовершенна, и еще о том, какая мне в ней была уготована жалкая участь. Уже настало самое время, чтобы кто‑ то под твердью небесной обратил на это внимание. И потому я попыталась ему объяснить, что она крест мой, судьба моя и ныне и присно и во веки веков:
– Мне кажется, у нее под покровами совсем не осталось кожи. Как‑ то случился пожар, и все у нее внутри выгорело. Я говорю у нее, но можно говорить и у него. Мы говорим о Справедливой Каре и как о ней, и как о нем, потому что в тех очень редких случаях, когда папа заводил о ней речь, он всегда путал род местоимений, чаще называя ее она, и нам передал эту свою манеру.
Иногда Справедливая тихо‑ тихо стонет, но услышать ее стон можно только в гробовой тишине, и поскольку именно такая тишина воцарилась в склепе, до слуха нашего донесся ее еле слышный стон. Я придвинула к ней поближе чашку с застоявшейся водой, но ее левое веко медленно опустилось, будто глаз ей залила черная патока. Поймите ее правильно, она не обладает даром речи, и потому вот так прикрывает левый глаз, когда хочет сказать нет, это же так естественно. Я отодвинула чашку с не очень свежей водой от ее рта.
Инспектор настороженно и опасливо склонился над Справедливой, но как только она пошевелила мизинчиком, он отпрянул назад, как брат мой – кретин дергается на рассвете, когда ударяется в панику от того, что летучие мыши возвращаются к себе в гнезда над нашими головами, хоть они могут быть вполне дружелюбно настроены.
– Она не может встать, – продолжила я свой рассказ, натянув на нее край покрова, – ноги к ней приделаны вроде как в шутку. Но иногда я ложусь рядом, и мы с ней играем: я снимаю с нее все покровы, и становится видно все ее тело, которое точно такого же размера, как мое собственное. Когда папа изредка заводил о ней речь, толком ничего нельзя было понять, всегда надо было что‑ то за него додумывать, складывая кусочки оброненных им фраз, но я все‑ таки поняла, что Справедливая сожгла то мертвое тело, которое лежит слева от меня в стеклянном ящике, и случилось это, должно быть, еще до того, как мы с братом появились на земле, потому что я ровным счетом ничего не помню об этом событии, даже если оно и в самом деле когда‑ то произошло. Я так полагаю, что они, то есть покойник этот и Справедливая, тут находятся со дня сотворения мира, а теперь, когда папа отправился в небытие и даже не предупредил нас об этом заранее, приходится довольствоваться лишь моими объяснениями, проливающими свет на это явление.
Я положила руку ей на голову и улыбнулась, давая ей понять, что зла я на нее не держу.
Потом снова стала рассказывать инспектору:
– Ее зовут Справедливая Кара. Без нее, я думаю, мы бы даже не знали, как пользоваться словами. Эта мысль пришла мне однажды в голову, когда я об этом размышляла. Наверное, все молчание, которое наполняет жизнь Справедливой, позволяет нам с братом быть на короткой ноге с даром речи, особенно мне. То есть, Справедливая как бы взяла на себя все молчание, чтобы освободить нас от него и дать нам возможность говорить, потому что, чем бы я была без слов, спрашиваю я тебя. Да здравствует Справедливая, она прекрасно справилась со своей работой. Разве ты не видишь? Ты бы вполне мог сказать, что в эти покровы обернуто страдание в его первозданном облике. Она как боль, которая никому не принадлежит. Мы не знаем, есть ли у нее в голове хоть намек на то, что она что‑ то понимает. Правда, мне лично кажется, что есть, хоть самую малость, но есть.
Инспектор места рождения вроде как вошел в раж, он бросился к стене, схватился за цепь, которой была прикована Справедливая, и стал изо всех сил дергать тот ее конец, который был вмурован в стену, как будто хотел ее оттуда выдернуть, но вы не волнуйтесь, она была прочно приделана. Кара съежилась еще сильнее, должно быть, в глубине души она была сильно напугана. А я тем временем продолжала разговор, машинально смахивая соринки со стеклянного ящика.
– Братишка мой сюда никогда не заглядывает, потому что Справедливая пугает его до смерти. А мы с папой, наоборот, проводили с ней, бывало, ночами долгие часы. Он упирался лбом в стекло ящика и доводил себя до слез. А я, можешь мне поверить, никогда не плакала, ни здесь, ни где бы то ни было в другом месте за всю мою жизнь распропащую, как будто во мне слезы не вырабатываются. Папа, когда плакал, держал свою руку в моей, синтаксис дан с любезного разрешения де Сен‑ Симона. А потом, сама не знаю почему, все это прошло, и папа больше не хотел сюда приходить, теперь я должна была себе узелки на память завязывать, чтобы не забыть накормить Кару, которая ничего кроме овсяной каши не ест, пыль с нее стирать, время от времени покровы ее менять, как папа меня учил, потому что так уж жизнь устроена, они понемногу гниют, от них всякими снадобьями попахивает. В конце своей земной жизни папа вообще ничего о Справедливой больше слышать не хотел. Если я хоть словечко о ней осмеливалась вымолвить, он мне тут же влеплял затрещину, если тебе ясно, что я имею в виду. А я так и продолжала сюда ходить в одиночестве, особенно когда мне грустно становилось или тоска накатывала. Мне казалось, что в этом склепе любви больше, чем во всех остальных наших владениях, потому что когда‑ то мы с папой здесь проводили долгие часы, когда я держала его руку в своей.
Конечно, я немного приврала инспектирующему меня поэту, когда сказала ему, что никогда в жизни своей распропащей не плакала, потому что мне, конечно, доводилось реветь, когда папа заставлял нас себя на двери в портретной галерее в цепи заковывать и требовал, чтобы я его мокрой тряпкой стегала, и когда я ногами воздух в орган качала, точнее говоря, когда меня захватывала музыка, но я ничего не стала говорить об этом инспектору, чтобы показать ему, какая я независимая, и прозрачно ему намекнуть на чувство собственного достоинства, надеясь тем самым его очаровать и продемонстрировать ему свою неотразимую привлекательность.
Инспектор прикрыл глаза и покачал головой с таким видом, будто ему от чего‑ то больно, и чувствует он себя подавленно. Когда он снова открыл глаза и заговорил так тихо, что я с трудом его слышала, у меня возникло такое чувство, что ты говорил со мной теперь как‑ то по‑ другому, совсем не так беззаботно, как говорил с маленькой козочкой раньше:
– А это что такое? Кто это с тобой сделал? Твой брат?..
Свитер, в котором я ходила, был мне велик, поэтому вам трудно было бы себе представить размеры моего живота, но вчера, обняв меня и прижав к себе, инспектор места рождения не мог их не ощутить.
– Да, я знаю, живот у меня раздуло.
И чем больше его раздувает за последние два времени года, тем лучше, мне кажется, заживают рубцы на том месте, где раньше висели причиндалы, по крайней мере в теле моем, если не в душе, которая отличает меня от бедных солдат моего брата, потому что теперь из меня кровь уже не течет, вот уже больше, чем два времени года, у меня не было кровотечений. Но живот мой раздувается, и – странное дело – у меня возникает такое ощущение, что внутри меня живет кто‑ то еще, как будто я начинаю становиться чем‑ то с половинкой. Вот здесь, в животе у меня сейчас вроде как что‑ то шевелится, тут потрогай.
Мне пришлось твою руку чуть не силой тянуть, потому что ты все время хотел ее отдернуть, рука твоя была теплой, и в конце концов мне удалось ее приложить к моему животу с сюрпризами.
– Сначала это там себе спокойно не то жужжало, не то гудело, как маленькая пчелка, будто она в животе моем справа налево путешествовала, будто линии проводила, мягко так, очень нежно, я‑ то знаю, какие пчелы бывают со шмелями, когда они еще маленькие. Чувствуешь, как оно сейчас внутри меня движется? А теперь как будто кто‑ то начинает постукивать, как будто нежненько ударяет меня изнутри, живет себе, поживает, угнездившись в животе моем. Каждый раз, когда это случается, неважно, где я, на какой странице, в каком предложении, я пишу одно слово в книгу заклятий: хватит, и все тут. Мне гораздо больше нравится такое постукивание жизни, которое я чувствую внутри себя, хватит, хватит, чем когда кровь из меня вытекает, скажу я тебе, или чем затрещины папы моего покойного.
И снова я все это так ему высказала, что вы бы подумали, какая я милая и очаровательная, что я кого угодно могу свести с ума, но инспектор смотрел на меня, как будто не мог понять, как это я в такой момент могу улыбаться. А что тут особенного было в этом самом моменте? Почему, интересно, мы сейчас должны себе все больше помалкивать? Я же ведь только краешком губ улыбнулась, понимаете, совсем не так, как братец мой, как пчелка улыбается маленькая, самое безобидное существо на земле, потому что это движение, внутри меня шевелящееся, навевает мне в голову сладкие мысли, а если учесть, сколько всего сладких мыслей выпадает на мою долю на этой планете проклятой, я вовсе не собираюсь плевать на них от сглаза.
– Вчера, я так поняла, ты меня от себя оттолкнул, потому что понял, что мне весь живот раздуло. Ты даже прочь отскочил и закричал: «Мы не можем! Мы не можем! ».
Раздался выстрел. Окно сарая разлетелось вдребезги, и над нашими головами прогудел противный свистящий звук.
– Это чудовище в нас стреляет!
Прозвучал второй выстрел. На этот раз пуля, должно быть, попала в каменную стену снаружи. Справедливая с тихим выдохом, похожим на стон, еще больше съежилась, скрыв голову под крылом, прямо как куропатка. Инспектор встал на колени и, собравшись с духом, выглянул в разбитое вдребезги окно. Даже сказать тебе не могу, какое чувство у меня возникло, когда я увидела тебя стоящим так на коленях, а из окна на лицо твое падал свет дня, я думала, как ты величественен и все такое, как жанна д’арк, осененная благодатью святого духа в голове ее, когда сидела она в застенках мрачного своего подземелья. Потом ты схватил меня и шепотом, звучавшим как крик, произнес:
– Мне кажется, у него кончились боеприпасы. Он пошел за ними в дом. Поторапливайся! Тебе нельзя здесь оставаться. Ты уедешь отсюда вместе со мной на мотоцикле!
Мы улепетывали оттуда во все лопатки. Я упала в грязь, когда бежала к мотоциклу, потому что книга заклятий очень громоздкая, а мне, как вы прекрасно понимаете, не хотелось там ее оставлять. Но ты поднял меня, мой принц, ты поднял меня с земли. Ты прижал меня к себе, прямо к животу своему, чтоб спасти меня от пищали брата, и мне сразу стало тепло между ног, там все затрепетало, и так мне стало хорошо, а когда твой боевой конь изрыгнул гром и пламя, у меня возникло такое чувство, будто меня смыло восхитительным пьянящим порывом, и настежь распахнулись ворота, ведущие в царство твое.
Глава 4
Если память мне не изменяет, прогрохотали еще два взрыва, которые мы едва расслышали сквозь громовой рокот твоего скакуна, потом раздался третий и последний, и после этого даже толком не могу описать, как я поняла, что произошло, потому что все случилось мгновенно, ты поднес руку к шее, будто тебя ужалил слепень, конь твой потерял голову, все вдруг волчком завертелось, и я стукнулась бестолковкой о землю, не спрашивайте меня как. Когда в конце концов я очнулась, колеса мотоцикла продолжали вращаться в воздухе сами по себе, потому что он лежал на боку, а шум, который от него исходил, вы бы, наверное, приняли за вопль отчаяния. И я увидела рядом на земле тебя, рука твоя сжимала горло, я смотрела на то, как кровь ритмично пульсирует меж твоих пальцев, не знаю, сколько времени прошло перед тем, как взор твой угас, ты не смотрел на меня больше удивленно и с мольбой взглядом существа, сбитого нежданным ударом, взгляд твой остекленел, глаза стали пустыми провалами, я склонила голову тебе на грудь и так горько заплакала, что ни в сказке сказать ни пером описать.
Должна вам сказать, что, когда я в конце концов подняла голову, скакун перестал завывать, а я как бы заново стала обретать представление о том, что творится вокруг. Мне стало ясно, что мечты наши были явью только для того, чтобы дать нам понять, насколько они мимолетны, и оставить на языке привкус сгустка крови, и потому прямо посреди поля я взяла в руки свою книгу заклятий и карандаш, бывший при ней неизменно, как нитка при иголке, потому что настоящий секретариус никогда не уклоняется от обязанности называть вещи своими именами, в этом и состоит его роль, и подумалось мне, что жизнь меня уже достаточно наказывала, не хочу я больше ничего лишаться, как францисканцы или мулы с подернутыми поволокой глазами, и доходить до того, чтоб лишать себя своих кукол из праха, я имею в виду слова, потому что мы лишены всего, что не можем выразить словами, как могла бы сказать Справедливая Кара, если б только она могла говорить, и это сущая правда.
Что же до братца моего, надо отдать ему должное, он продолжал суетиться, будто все шло своим чередом, будто все еще имело какой‑ то смысл, это, я думаю, из‑ за его причиндалов. Вот невидаль! Время от времени я бросала на него взгляд, не презрительно, а, жалея его за то, что он повредился головой, опаленной безумием и густо нашпигованной религией. Он недавно отправился копать яму у сосновой рощи, и теперь она уже была вырыта. Потом брат вернулся и стал беспрестанно рыскать по дому. Он взял нож и отрезал кусок веревки, подпругой обмотанной вокруг лошади, чтобы привязать мешок с папиным трупом, голову вам даю на отсечение. И тут я вдруг заметила первые клубы дыма, поднимавшиеся от библиотеки, куда братец ходил минут двадцать тому назад, уж не знаю зачем. Я склонила голову, продолжая писать. О том, что с нами происходит в настоящий момент на земле этой грешной.
Спустя буквально несколько мгновений я увидела, что он снова приближается, но на этот раз он шел в моем направлении. Не скажу вам, что я и вправду испугалась, потому что теперь мало что удерживало меня на планете этой окаянной, где, по сути дела, все нас цепями сковывает, а когда мы эти цепи теряем, сущее уже не имеет больше особого значения. Справедливая не стала бы со мной в этом вопросе спорить. Если у меня самой еще и были хоть какие‑ то оковы, то только те, что таились внутри меня, то есть, те, которые вот уже скоро на протяжении двух времен года связывали меня с моим животом. И я сказала себе: пока так оно и будет…
Что же до того, что мой братец мог теперь и со мной сотворить, ну, что ж, я так на него взглянула взглядом своим, в котором молнии сверкнули, что мало не покажется. Он махнул на меня рукой, как будто послал меня к черту или куда подальше, потом вынул из кармана маленький кусочек вселенной, дряблый и склизкий, и швырнул мне его в лицо. Я бросила взгляд на траву, хотела посмотреть, какой подарочек он мне на этот раз угото‑ вил. О, господи! Даже нашу единственную игрушку лягушку он перевел в состояние бренных останков. Брат тем временем пошел прочь в направлении папиного трупа. Он с трудом потащил его к яме, потому что, если в теле уже никого нет, оно становится очень тяжелым, и, как давеча мне обещал, бросил он папино тело на дно ямы, которую только что выкопал, а потом сверху водрузил крест, смастеренный мною вчера утром. Такие вот дела. На всем, можно сказать, крест поставил.
Или так мне тогда подумалось. И кого же это, скажите на милость, я тут увидела, появившегося ниоткуда возьмись и огревшего меня клюкой своей по хребтине? Правильно вы решили – то был нищий. Надо же такому случиться! С глумливой усмешкой своей похотливой он повизгивал, как собака от радости, это у него, как мы знаем, была такая манера самовыражения. Я так и не отрывалась все это время от книги заклятий, лежавшей рядом с останками моего суженного, глаза которого глядели пустыми провалами, а нищий тем временем стал щекотать мне ребра концом своей палки поганой, чтоб ей пусто было. В чем провинилась я пред отцом нашим небесным и пресвятой богородицей? Он повалился на меня и прижал к земле всем своим весом, с места мне не сойти. Рыло свое мерзкое все норовил мне к лицу прижать, невыносимо воняя гнилой дрянью, которую сожрал намедни, волокна тухлого мяса смердели у него в зубах. Он корчил рожи и все норовил мне веки вывернуть и губы, как папа заставлял нас то же самое делать с ним самим, когда был еще жив, можно было даже подумать, что он специально надо мной измывается, чтобы отыграться за то, что мы с ним раньше вытворяли. В конце концов он задрал мне юбку и стал на мне елозить и корячиться, как брат со своими причиндалами, я даже закричала не своим голосом, стала брата звать на помощь, но, вы сами понимаете, что из этого вышло. Братишка вернулся и подошел к лошади, я хорошо его видела и скажу вам по совести, гореть братцу моему в геенне огненной ясным пламенем, если он еще не там до сих пор, потому что только послушайте, что он вытворил. Он поднял свое ружье, упер дуло в челюсть лошади, которая и без того уже обессиленная, так согнула передние ноги, что почти на земле лежала, и выстрелил, просто ужас! На какой‑ то краткий миг вокруг него взметнулся столб желто‑ красно‑ синеватого дыма, и звук донесся такой, будто градины скопом посыпались. Лошадь обмякла, как мешок. Именно в этот момент на дороге у самой рощи появились лукавые прохиндеи, плотно сбитая кучка ближних, которые шли к нам напрямки от самого села. Ничего другого от них и ждать было нельзя.
Братец ударился в такую панику, что пальнул в них из ружья. Потом, бросив пищаль на бренные останки нашей лошади, он с головокружительной скоростью покинул поле боя, и хватит. А нищий встал с меня, натянул штаны, не причинив мне, к счастью, никакого ущерба, да прославится имя твое во веки веков за ниспосланную мне милость, и захромал от меня прочь на культе своей деревянной в их направлении, махая руками лукавым прохиндеям, как будто он невинен, как агнец божий, и так рад их появлению, что его прямо до трясучки проняло, шакала этого позорного. А я тем временем, улучив момент, воспользовалась ситуацией и со всех ног поспешила укрыться в склепе вместе со Справедливой.
До сознания которой, казалось, доходило, что с нами приключились все эти несчастья: я говорила уже вам, что в голове у нее еще теплился разум. Она была в себе, то есть она очень‑ очень медленно поворачивала свою тяжелую голову направо и налево, издавая долгий, жалобный, монотонный, непрерывный стон – аааааааааа‑ ааааах, который еле‑ еле доносился из ее горла. Только раз я раньше видела ее в таком состоянии, и мне тогда было совсем не до смеха, потому что произошло это тогда, когда папа срезал с нее покровы, ножницы у него вдруг соскользнули и поранили ей кожу, которой на теле почти не осталось, и она так же начала голову от боли поворачивать направо и налево, и так же заунывно и тихо тянула свое ааааааааааааааах, а папа плакал, потому что его терзали угрызения совести, а потом минуты две он нежно и бережно покрывал поцелуями лоб Справедливой Кары. Я смотрела в окно на лукавых прохиндеев и на нищего, затесавшегося к ним в самую середину, он оживленно подпрыгивал на своей деревяшке, корча из себя героя. Их, должно быть, там с дюжину собралось, мне их даже пересчитывать было противно, вот так. Одному, если я правильно уловила суть дела, ляжку зацепила ружейная пуля, выпущенная братом, и он тоже из себя героя разыгрывал, демонстрируя ляжку всем остальным. Они смотрели в сторону избы‑ читальни, как мы ласково называли библиотеку вашей покорной слуги, напряженно соображая, что им делать с пламенем, полыхавшим все сильнее и сильнее, и густыми клубами валившего оттуда красновато‑ бурого дыма. Беспорядочные метания ближних по кругу выдавали охватывавшую их панику. С ними был и священник, тот самый святоша, который влепил мне вчера пощечины, он делал вид, что молится за упокой души останков того, кто еще совсем недавно был рыцарем в кожаных доспехах и самой большой моей в жизни любовью, и при мысли об этом я сжала зубы и насупила брови, так мне захотелось дать хорошего пинка этим опухолям в сутане. В конце концов братишка сам к ним вернулся по собственной воле, скажу я вам, чтобы признать свою безоговорочную капитуляцию. Упав перед соседями на колени, чуть ли не упершись плечами в землю, так что задница его отклячилась, зависнув в воздухе, он прикрывал затылок обеими руками и трясся, как мятное желе, которым мы, бывало, сдабривали овсяную кашу Справедливой, я знаю, о чем говорю. Полицейский давешний, с пистолетом огромных размеров, как мне показалось, мягко заговорил с братом, чтобы у того совсем с испуга крыша не поехала, он сказал ему подняться с земли, но, как вы сами понимаете, братишка так и стоял на коленях с откляченной задницей, прикрывая себе затылок руками, и сдвинуть его с места не было никакой возможности. Им самим пришлось встать на колени, чтобы защелкнуть ему наручники. Так‑ то оно лучше, если хотите знать мое мнение.
Ничто не вечно под луной, таков закон вселенной, взять хотя бы эту книгу заклятий, осталось всего несколько страниц до главной жертвы. Времени у меня совсем в обрез, я даже рассказать обо всем не успею, вы сами видите, какая меня охватила растерянность. Вдобавок ко всем моим невзгодам я вот что хотела бы еще присовокупить: я на минуточку задумалась обо всем, что с нами приключилось со вчерашнего утра, обо всех неудачах, ярости, панике и унижениях, которые, как нам казалось, вообще‑ то, как говорится, не имели к папе нашему никакого отношения, так вот, на самом деле все было именно так, как хотелось бы папе. Мне показалось, что сами мы ничего и не делали, а только продолжали ему подчиняться, даже не подозревая об этом, потому что ничего другого не знали и не умели, нас двоих захлестнула исходившая от него фатальная волна, которая и сейчас продолжает нас тащить, и всегда будет нести туда, куда ее его воля направит. Я так это говорю, как думаю. Может быть, мы вообще никогда не переставали быть его куклами, сотворенными из праха. Я хочу сказать, что даже из бездонной пучины кончины своей он все еще продолжал играть нами, дурача наши ангельские головки теми самыми страхами и опасениями, которые я сама выражаю с помощью слов. Отец был не из тех людей, чья власть проходит так быстро. Может статься, и его собственные бренные останки были какой‑ то игрой, призванной ввести в заблуждение и нас, и всю вселенную в ее печальной совокупности. Я подумала об этом, глядя на яму у сосновой рощи, где брат захоронил впечатляющие папины останки, и сказала себе, что если когда‑ нибудь люди начнут поговаривать, что под этим безымянным крестом без даты снова что‑ то со скрытой издевкой станет шевелить землю, каким бы слабым ни было это шевеление, я, как вы сами понимаете, совсем этому не удивлюсь. То есть я хочу сказать, что наши ближние в силу их человеческой природы склонны удивляться, столкнувшись с чем‑ то, что исчезло неведомо куда, и это наводит их на мысль о царстве мертвых, будоражит их воображение. Потому‑ то первый признак любой религии, если я не ошибаюсь, всегда состоит в том, что труп начинает шевелиться.
С меня довольно, премного вам благодарна. Нет у меня никакого интереса к спектаклю, который разыгрывают лукавые прохиндеи, я начала паковать вещи, пожитки мои немудреные, по склепу разбросанные, и прежде всего взяла деревянную дощечку, о которой я обязательно вам дальше расскажу, как только выдастся свободная секундочка, появится у меня еще такая возможность обязательно, пока все слова не прольются дождиком. Еще я взяла картинку своего любимого прекрасного рыцаря и засунула ее себе на живот под юбкой, и ветхий словарь воспоминаний де Сен‑ Симона, распадающийся на избранные разделы. По выражению Справедливой Кары, пристально следившей за тем, что я делала, нетрудно было себе представить, что она что‑ то понимала, потому что она перестала медленно мотать головой направо и налево и пристально за мной наблюдала, пока я укладывала свои вещи, и глаза ее при этом как бы подернула поволока утраты. Но, в конце‑ то концов, разве мы здесь находимся, я имею в виду землю эту треклятую, чтобы разговоры задушевные разговаривать?
Я подошла к ней поближе и присела перед ней на корточки, чтобы можно было ее достать рукой и ртом. Улыбнулась ей, череп ее поглаживая, и показала на цепь, вмурованную в стену, печально пожала плечами, как бы объясняя ей, что при сложившихся обстоятельствах я бы и хотела забрать ее отсюда с собой, да ничего не могу сделать, потому что это просто невозможно. Я даже сказала ей, что все кончится хорошо, потому что ближние наши ее найдут и тогда, может быть, у нее начнется новая жизнь, полная солнца за пределами ее мрачного узилища. Бедная Справедливая Кара, как же она на меня смотрела. И в самом деле, клянусь вам, глаза ее были похожи на мои как две капли воды, как будто я летом гляделась в колодезное ведро. Она вновь затянула свой заунывный, протяжный, нескончаемый стон, но я нежно положила ей на зубы ладонь, улыбнулась ей и посмотрела на нее взглядом, который на этот раз был полон не сверкающих молний, а соленой воды, что должно было ее хоть немножечко успокоить, по крайней мере, об этом я молила небеса, если они вообще существуют. Что же касается стеклянного ящика, я сказала себе, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов, и хватит, прошмыгнула наружу с черного хода и была такова. Лукавые прохиндеи меня даже не заметили.
В глубине души, если быть честной до конца, я всегда в каком‑ то смысле ощущала себя шлюхой, мне не надо было дожидаться, пока прекрасный рыцарь назовет меня маленькой дикой козочкой, чтобы заронить во мне такое подозрение. Но отец обращался со мной как с сыном, и это, образно выражаясь, вставлял мне палку промеж ног. Я хочу сказать, что мне было запрещено оставаться самой собой, я была загнана в угол, мне воздуха не хватало, я сама не могла спокойно доходить до своей немудреной истины, и все потому, что у меня не было причиндалов, как сами знаете, у кого, и от этого меня не покидало такое чувство, что не все будет в порядке с моими бренными останками, и с головушкой моей бедной тоже не все в порядке. К тому же еще эта история с сестричкой, всему же должны быть пределы, да и та дощечка маленькая, о которой я вам все собираюсь рассказать. Что же до братца моего, вы бы могли подумать, что он первый человек, у которого причиндалы выросли, и каждое утро, дарованное нам господом, он будто впервые с удивлением выяснял, что они у него есть, но до него так никогда и не дошло, для чего у него причиндалы болтаются, у юпитера нашего младшего. Вы понимаете, есть такие вещи, которые он вообще никогда не брал в толк, я почти наверняка уверена в том, что он был вполне искренним, когда давеча решил залезть пальцем в папино чувствительное отверстие, чтобы выяснить, могли ли мы с ним оттуда появиться, и даже когда он увидел, как привстала сосиска, набухшая колдовской силой, братец мой очень удивился, он и отдаленного представления не имел, что такое может произойти с бренными останками усопшего. Я тоже долгое время думала, что папа вылепил нас из грязи, как гласит религия. Но то, во что мы верим, потому что так гласит религия, и то, во что мы верим, и точка, – это вовсе не одно и то же, и когда я еще была от горшка два вершка, я видела, как и откуда появляются телята с поросятами, и никогда при этом не считала себя исключением из правила. Все дело в том, что братец мой, конечно, тоже был прекрасно осведомлен о том, как все происходит у этих печальных созданий, но, даже не знаю почему, он никогда не мог увязать одно с другим. Что тут скажешь, сообразительность, она как опухоли, по своему хотенью, по щучьему веленью ее не получишь. Как бы то ни было, все эти мысли вертелись в моей бестолковке, пока я шла себе неторопливо к бальному залу моих грез, где жили мои любимые приведения.
Было б у меня время, я бы рассказала вам вкратце о том, как выглядели свиньи в своей луже, это просто ужас! Кожа да кости, и это еще мягко сказано. Они все дрожали, морды были перемазаны какой‑ то зеленоватой жижей, капавшей на землю, а еще там были коровы с овцами, если так их можно было назвать. Все равно, должна признаться, мы о них слегка подзабыли. И за это, боюсь, где‑ нибудь, когда‑ нибудь будем гореть ясным пламенем, а когда такие мысли приходят мне в голову, скажу вам прямо, этика спинозы для меня становится как прошлогодний снег. Здесь на ее помощь рассчитывать не приходится, и хватит об этом. А что касается конюшни, вам пушка понадобится, чтоб туда двери открыть. Тсс. Просто жуть берет. Не говоря уже о курах.
И вот вошла я в бальный зал и поднялась по ступеням, как по каменным облакам, потому что сложены они были из мрамора. Я неслась к застекленным стенным шкафам, как стрекоза к единственному в саду цветку, чтобы порадоваться по пути буйству света. Стоя на худеньких ножках, маленькими своими ручонками я распахнула высокие тяжелые стеклянные дверцы, отражающиеся под разными углами в зеркальных стенах, и смотрела на переливчатые блики света, потому что, вы мне даже не поверите, но все было залито солнцем! Потоки солнечного света ворвались в наши владения сквозь просвет в облаках. Я долго купалась в них, чтоб утешить сердце мое. Здесь берут начало горы, уходящие за горизонт, пологие склоны их местами обрывисты, тут истоки бурных стремнин, то спокойно журчащих, то с грохотом обрушивающихся водопадами. Именно в том направлении папа наш стрелял из пушки в те дни, когда приходил козел. Шпинат в лесах неспешно желтеет, а острый перец краснеет, когда подкрадывается осень. Это вам не ели с соснами, прохиндейки лукавые, им ведь даже невдомек, что такое времена года. Они не как другие деревья, которые здесь тоже растут, – одни взъерошенные, щетинящиеся листвой, другие круглые, как грибы. И спросила я себя, что же мы со всем этим сотворили, думая как о себе, так и о ближних своих во всей их печальной совокупности. Порой может показаться, что одна я на этой грешной земле осталась, кто еще это любит, то есть жизнь, я хочу сказать.
Но если стремишься к любви, все становится страшно запутанным, потому что не у многих людей в головах такие же представления, как и у тебя. Если б на земле хватило места, чтоб каждый из нас взял маленький белый камешек и отметил им каждое свое разочарование в любви, горы этих камешков, скажу я вам, были бы видны даже с луны вместе с потрескавшейся стеной. Возьмите хотя бы братца моего. Я понятия не имею, что для него значит любовь, если не брать в расчет того, как он елозит на мне и корячится, что приводило меня в ярость и отчаяние, но когда тебе голову накрывают подушкой и вертят задницей маленькой козочки, как хотят, ничего другого не остается, как только терпеть, терпеть, пока в конце концов сосиска его не обмякнет и не отвиснет, и тогда я снова могу дышать полной грудью. Когда я стану бренными останками, мне из‑ за этого, может быть, придется жариться на раскаленных углях, но здесь я со всей откровенностью и прямотой пишу, что мне кажется, я больше совсем брата своего не люблю. Тем хуже. Он слишком сильно меня расстраивал, слишком часто. То мне обещал, это сулил – и ноги мыть, и вино перестать пить тайком. А папа мой, что мне вам про него сказать, он ведь долгие часы проводил в склепе, а я его руку в своих держала, пока он там плакал… По крайней мере, он на мне никогда не корячился, что делает ему честь, заявляю это пред лицом творца всего сущего без всякого срама и жалости. Справедливую я тоже очень любила, но по‑ другому… За ее молчание, которое наделило меня даром речи. Как бы то ни было, теперь я стояла в зеркальном зале, порывы ветра доносили до меня запах гари, потому что, как я уже вам говорила, библиотека горела ясным пламенем, все там смешалось в дыму и огне. Тем хуже для портретной галереи. Краем глаза я заметила в отдалении ближнего или двух, которые с этого расстояния могли показаться просто мухами на навозной куче, да и цена им была, должно быть, не многим большая, если только я вправе об этом судить. Мне кажется, они таскали ведра с водой или что‑ то в этом духе, какие же они все‑ таки бестолковые, с таким же успехом могли бы тушить такой пожарище плевками, – это бы все равно ничегошеньки не изменило, если хотите знать мое мнение. Что же касается кухни нашей мирской обители, бог знает почему, но мне наплевать на нее было с высокого дерева. Мне хочется, пока ярко светит солнышко, нацарапать своими каракулями на бумаге все, что наболело на сердце, ветер дует в мои паруса, нос корабля моего уперся в горизонт, страница бумажная плывет белой каравеллой, я положила маленькую деревянную дощечку под книгу заклятий, потому что мне очень хочется как‑ то соединить их друг с другом. То есть я очень хотела рассказать об этой дощечке в книге заклятий, потому что у меня такое желание, если можно так выразиться, обвенчать их друг с другом для великой жертвы, которую я вознамерилась воздать.
Я говорю о той дощечке, которую помню с тех пор, когда еще не знала затрещин, а, может быть, даже еще раньше, когда солнце сияло весь день напролет, а рядом со мной был херувимчик, похожий на меня как две капли воды. Папа, колдовской силой поймавший освещавшие землю солнечные лучи в увеличительное стекло, написал на дощечке огненными буквами те слова, которые там и сейчас выжжены, и хоть на первый взгляд может показаться, что они ничего не значат, в голове у меня они постоянно звучат как клятва: Ариана и Алиса, 3 года. Под ними черным, обугленным контуром нарисовано сердце, оно еще пробито грозным ударом молнии, и даже когда секретариус просто пишет об этом, у нее создается такое впечатление, что за спиной слышится голос той шлюхи, от которой так приятно пахло чистотой и свежестью, той светской дамы, как сказал бы граф де Сен‑ Симон, он же еще разговорным языком писал, и в памяти моей смех этой светской дамы отражается, как свет звезды от водной глади.
Исписав предыдущие каравеллы, я снова пошла в бальный зал. Там я закрыла крыло большого верблюда, если можно его так назвать, и положила на него книгу заклятий вместе с маленькой деревянной дощечкой, а потом стала расставлять рядами на полу свою утварь в сиянии канделябров, блестевших на солнце, как цуляля, потому что мелочи жизни не должны сбивать человека с панталыку и я снова была готова танцевать, пусть скорее грянет музыка!..
Но тут вдруг живот у меня так скрутило, что я повалилась на колени, как подкошенная, оглушенная и ослепленная внезапным приступом боли. У меня возникло такое чувство, как будто кто‑ то мне все нутро на части рвал как тряпку. И вся юбка моя, да что же это такое, господи? Лужа омерзительного желе, в котором проблескивала вода, только не спрашивайте меня, из какой дырки все это вытекло. Спокойствие, Алиса, только спокойствие. Я с трудом поднялась. Пошла как цапля на нетвердых своих ногах, согнувшись в три погибели, положив руки на живот с сюрпризами с заботливой нежностью, которой никто меня не учил, но я в себе уже была не одна, кто‑ то был там такой, к кому у меня возникла нежность. Потому что теперь до меня стало доходить, что со мной должно произойти, вы понимаете, мне для этого не надо было лезть в словари или снова смотреть на телят с поросятами. Это хочет выйти из меня наружу, но я никогда не думала, что оно решит вылезать так скоро. Я ведь полагалась на те знания, которые по крупицам собирала то тут, то там, читая про всякую всячину, и рассчитывала я на три времени года, хотя, черт побери, я к такому сроку и приближаюсь, потому что кровотечения у меня кончились, когда еще зимний снег не сошел, так мне, по крайней мере, память моя подсказывает. И живот мой еще совсем не такой большой, вот что меня беспокоит. Все в творениях природы сбивает нас с толку, можно подумать, что создатель всего сущего обожает такие игры разыгрывать.
И вот, в таких страшных муках дотащилась я до большого верблюда, на крышку которого положила свою книгу заклятий. Я так и стояла на ногах, потому что если б я решила просто согнуть их, чтобы сесть, боль в нутре моем меня бы просто доконала. Но мне дела до этого нет, буду писать дальше стоя. Впрочем, через несколько минут боль стихла, но маленькая козочка была совершенно уверена в том, что этим дело не кончится, что боль вернется, причем не одна. А пока что мне бы с писаниной моей совладать, руку свою взять в руки. От себя не спрячешься, в каком бы смысле это ни понимать, даже в страхе выхода не найти. Потому что радость, именно радость, прежде всего, вселяет в меня страх перед самой собой, уж не знаю, понятно ли я выражаю свою мысль, и пока я жду, когда из тела моего вырвется жизнь, когда все нутро у меня по‑ настоящему начнет раздираться на части и дитя мое воплем заявит права на свою долю этой планеты пропащей, я по привычке ищу прибежища в карандаше. Что же еще в этой жизни остается делать, как ни писать, бог знает ради чего? Ну ладно, ладно, я же сама говорила: «Слова: куклы из пепла», но это тоже сбивает нас с толка, потому что некоторые из них, когда они хорошо составлены в предложениях, могут вызвать настоящее потрясение, когда их прочитаешь, как будто коснешься ладонью грозовой тучи, которая вот‑ вот разразится громом. Это единственное, что мне помогает. Каждый утешается как умеет.
Вот уже около половины оборота часов я пишу стоя, сгорбившись над крылом большого верблюда. Последние лучи заходящего солнца играют на плитах пола у меня под ногами, на которые стекли у меня по ногам теплые лужицы, и мне кажется, что я стою по колено в бурном потоке, залитом солнечным светом. Говоря, что я приближаюсь к концу, я имею в виду, что хочу наконец закончить это свое треклятое завещание. А потом, если только мне с моими водами совсем плохо не станет, я сделаю все возможное, чтобы сжечь эти страницы в том же огне, что и маленькую деревянную дощечку, вот и все. Нутро верблюда будет топкой, я просто сгораю от нетерпения услышать музыку, которая оттуда донесется. Я зажгу огонь теми спичками, которые захватила в склепе, папа там всегда их оставлял, и они валялись, где попало, но, конечно, так, чтобы Кара до них не могла дотянуться, то есть чтобы она видела их как символ и постоянно о них помнила, извлекая для себя из этого урок, и мучалась угрызениями совести. А если какой‑ нибудь лукавый прохиндей наткнется на эту книгу заклятий, он в ней все равно ничегошеньки не поймет, потому что я пишу только одну букву букву л курсивом, так это называется, я этой буквой исписываю страницу за страницей, каравеллу за каравеллой, без остановки. В итоге я стала делать так же, как и мой брат, а что мне еще оставалось, я переняла его метод небрежной скорописи, так и писать быстрее, и в этом заключается настоящая причина того, что я не в состоянии перечитать то, что сама написала. Но, все равно, когда я исписываю эти строчки л курсивом, в бестолковке моей звучит каждое слово, и этого мне вполне хватает, получается совсем не хуже, чем когда я сама с собой разговариваю. Что, в конце концов, это может изменить?
Так вот, я решила принести в жертву свою книгу заклятий, точно так же, как папа приносил в жертву козла, отмечая приход весны. И снова у меня перед глазами все мы вместе втроем со свирелью, флейтой‑ флажолетом и бубном. Каждый раз с наступлением весны, когда папа карал иисуса за то, что он снова навсегда умер, мы забивали козла, папа по крайней мере, и они с братом даже напивались чудесным вином, пили его из козлиных рогов, брр. А я пила прямо из бутылки, жалея бедного зверя, у самой его расчлененной туши, с которой вся кожа была содрана до самых потрохов и раскрыта, как словарь, а эти двое с жадностью жрали его недоваренную плоть. Мы напивались так, что крыша начинала ехать, и из бутылок, и из фляжек, начиная с меня самой, потому что так было надо, и лошадь наша тоже. Папа, вдрызг надравшись, начинал шататься, как чокнутый монах, затыкал себе флейту в задницу, это же надо до такого дойти, и всю дорогу давился от смеха, он хватал брата за ногу и силой волок его в склеп. Братишка истошно вопил и орал, чтобы папа его немедленно отпустил, а Справедливую, как вы сами понимаете, это приводило в кошмарное состояние. Братец мой распсиховался, стал изнутри в дверь колотить, ей‑ богу, можете себе представить, какое смятение его охватило и паника, такое впечатление сложилось, что это птичка, вымазанцая скипидаром, сама я так смеялась, потому что нам вино в голову ударило, а мы против него бессильны. Но в сердце моем, хоть я этого и не показывала, меня душили рыдания из‑ за Справедливой.
Как бы то ни было, моим собственным жертвенным козлом станет это евангелие преисподней моей, которое я сожгу вместе с маленькой деревянной дощечкой, и эта моя жертва тем будет хороша, что ни одному зверю не причинит вреда, потому что звери невинны, как облака, которые по самой сути своей не могут быть порочными. Я ведь тоже мечтаю об обновлении. Я понимаю, что новое мое существование, весна в разгар осени, может быть, и у меня вот‑ вот начнется, и мне бы совсем не надо думать о том, чтобы уйти, потому что мечты опасны для уверенности моей в себе, которая и без того стала очень хрупкой. Мне кажется, я могла бы жить здесь с младенцем, который через несколько часов появится из недр тела моего. Стоит мне только захотеть, я закрою глаза, такие же, как у Справедливой, и увижу все так же отчетливо, как вижу с раскрытыми глазами свою пишущую руку. Наша семья была бы большой, хоть нас в ней было бы только двое. Мы жили бы душа в душу, были бы так близки друг с другом, что, скажем, улыбка, слетевшая с моих губ, играла бы на ее устах. Я бы расчесывала ее маленькие крылышки, пока пора линьки не наступила. Я пеленала бы ее в крылья бабочек на подушках нежности с такой любовью, которой никто меня не одаривал, как и того козла, забитого камнем, вокруг которого я плясала и била в бубен, и никто не удосужился ткнуть нам в нос его грязные лапы с причиндалами, потому что никакого дела нам до него не было. Мы пили бы козье молоко, ели бы овощи с травами, которые как мир на земле, или знакомые мне грибы, мы не тратили бы времени на убийство животных, чтоб жрать их мясо на их трупах, когда сами они не сделали нам ничего плохого.
И жили бы мы здесь, в бальном зале, а еще в башнях и во всех других постройках, которые пришлись бы нам по сердцу, потому что, скажите мне на милость, какое право кто‑ то имеет отнимать у графини де суассон эту землю, которая до последнего закоулка принадлежит ей точно так же, как извивы ее собственной пылкой плоти?.. Я вроде как облака ложкой перемешиваю, я знаю. Но нельзя же всю вину валить на невозможное. Она научится со мной читать. Словари, которые мы завтра найдем в остатках сгоревшей библиотеки, некоторые из них, надеюсь, уцелеют – вы даже представить себе не можете, какими прочными бывают словари, они наделены спокойным упорством дерева, из которого рождены, деревья не могли сделать нам лучшего дара. И мы будем читать, зачитываться будем! Пока не свалимся в упоении на землю, потому что какая, в конце концов, разница, правду пишут в тех историях или нет, если они лучатся сиянием, если они звездочками светят в головках детей, упавших с луны и лежащих рядом друг с другом вдвоем, – ее и моей? Мне кажется, у меня жар, виски горят и пульсируют, как бока бассета, бьющегося в агонии, если мое мнение вас все еще интересует.
Да, я говорю она, потому что херувимчик будет как две капли воды похож на меня и доказательством тому служит уверенность, которую я чувствую в собственном животе. Она вырастет, понятия не имея о том, что такое затрещины, как цветы, которые не надо обижать, чтоб они выросли во всей своей красе. Она будет заботлива и внимательна ко всем животным, она не бросит их на произвол судьбы, не оставит их голодать, как кое‑ кто, кому, как это ни печально, уготовано жариться в геенне огненной. Я научу ее как огня бояться соблазнительных и разрушительных бликов и кукол, потому что они опасны своей красотой, потому что, если верить присказкам папы моего, именно в четыре года слишком любят играть со спичками, и назову я ее Арианой в память о Каре…
Трепетная белая нить треугольным парусом рассекает великолепие осеннего неба и неспешно плывет над рекой, как будто бумажный змей размером с церковь, это летят дикие арктические гуси. У меня как‑ то был бумажный змей в форме рыбы с золотыми плавниками, я ухаживала за ним, потому что он был моим облаком, но однажды он выскользнул у меня из пальцев и улетел вверх, я смотрела потом на его обломки на вершине высокого дерева все лето, это случилось еще тогда, когда у меня стали набухать опухоли на груди, беда никогда не приходит одна. А что до арктических гусей, так мы каждый год поднимались на крышу моей избы‑ читальни смотреть, как они улетают, папа и я. Этой осенью они, вроде, рановато отправились в путь, я в этом вижу предзнаменование. Они как слишком сладкие чудесные грезы, которые чересчур хороши, чтоб хранить их и пестовать в теплой груди в ожидании долгих зимних месяцев, нужно смириться с тем, что однажды они все скопом покинут нас в одночасье, как те мысли, которые меня тешат, когда я думаю о благословенном плоде чрева моего, те грезы, что пленяют мне сердце и пугают радостью, которую я должна гнать из души моей, потому что нет больше времени мечтать о рае, я чувствую себя плотиной, готовой прорваться скорыми родами, я знаю по опыту, что грезы мои, по сути дела, никогда не приносили мне ничего хорошего, как и мои воспоминания, и теперь мне меньше, чем когда бы то ни было, хочется сойти с ума, как объятой пламенем куропатке, клюнувшей меня в голову, всю залитую кровью их религии, и кончить мученицей надежды, разоренной и ограбленной от слишком долгого ожидания на земле этой грешной, как случается иногда даже в самых добропорядочных семьях.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|