
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Мариэтта Сергеевна Шагинян. Билет по истории. Семья Ульяновых – 3. БИЛЕТ ПО ИСТОРИИ. Эскиз романа
Мариэтта Сергеевна Шагинян
Билет по истории
Семья Ульяновых – 3
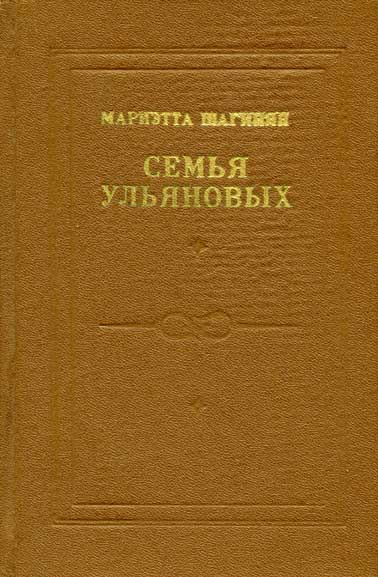
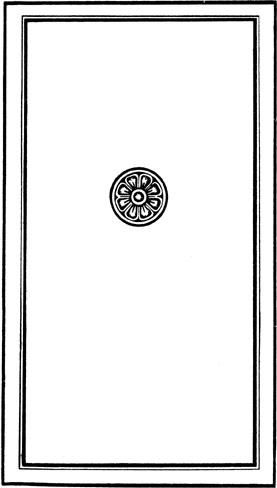
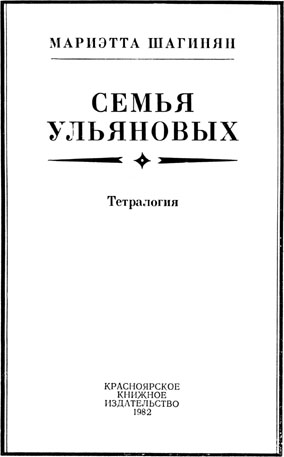
III
БИЛЕТ ПО ИСТОРИИ
Эскиз романа
Ильич вышел на историческую сцену еще совсем молодым человеком. Но этот молодой человек, почти юноша, с первых шагов своей деятельности показал себя уже созревшим человеком, тем самым Ильичей, каким запомнили его современники.
Самая ранняя, написанная в 1893 году, работа Ильича, разбор книги Постникова о южно‑ русском крестьянском хозяйстве, – это уже зрелый Ленин, его мастерской анализ, безошибочность его выводов, страстная сила убеждения. Никак нельзя назвать эту работу словом «юношеская», потому что обычно в юношеских вещах автор еще только формируется, ищет себя, не устоялся, дает смесь верного и неверного, а тут перед нами взрослый человек во всей законченной ясности его политической позиции.
Но людей, рождающихся готовыми, нет. И самая трудная, самая интересная работа для романиста – это разгадка того, как формировался характер Ильича и складывались его убеждения.
Разумеется, решающим в этом процессе было влияние самой эпохи, когда передовое русское общество еще жило традициями шестидесятых годов и было охвачено революционными настроениями семидесятых. Огромно было и влияние семьи, общение со старшим братом – вся чистая атмосфера настоящего демократизма, высокой нравственной требовательности и большой культуры, окружавшая его с детства.
Но как образовалась индивидуальность Ленина, какими внутренними бурями и переживаниями из четвертого[1] ребенка многодетной семьи директора народных училищ Ульянова вырос на все века и народы гений революции, совершенный по своей цельности и Типичности характер большевика?
И как раз для этого периода ленинской биографии меньше всего сохранилось и материалов и воспоминаний.
Старшая сестра Ильича, главный биограф его детства, рассказала о маленьком Володе очень подробно, а гимназиста Володю она в своих воспоминаниях почти не дала: потому что в решающие годы его развития она, учительницей, а потом курсистской, жила большей частью вне дома и внимание ее в эти годы было направлено скорее на старшего брата, нежели на среднего.
Что до самых младших членов семьи, то они начали помнить и понимать среднего брата, когда основной юношеский перелом в нем уже свершился, и рассказы их относятся главным образом к периоду казанского студенчества, первой ссылке и юридической практике Ильича в Самаре. Та, кто могла бы полнее и ярче всех знать о нем, близкая ему по возрасту сестра Ольга, умерла молодой девушкой.
Остаются гимназические товарищи. Но и тут любопытная подробность – главный спутник школьных лет Ильича Михаил Федорович Кузнецов, бывший педагог, живший в Ульяновске на пенсии, хоть и учился с Володей Ульяновым от первого и до последнего класса, вплоть до выпускного экзамена, однако хорошо знал только «маленького» гимназиста, а начиная с пятого класса похвастаться интимностью с Ильичом уже не может. Он объяснил отхождение от своего прежнего товарища тем, что Володя Ульянов далеко ушел вперед по развитию и вообще в старших классах как‑ то не имел близких друзей, и хотя отношения с классом у него были простые и теплые, но со всеми «ровные».
Михаила Федоровича, подвижного и словоохотливого старика с мелкими детскими чертами лица, я застала в Ульяновске в тридцатых годах еще живым. Он ютился в комнате без света, обходясь керосиновой «молнией». Мне удалось помочь ему провести у себя электричество, и под этой скромной десятисвечовой лампочкой, которую он любовно называл «лампочкой Ильича», Михаил Федорович охотно делился со мной воспоминаниями. К сожалению, их было мало. Так, почти каждое воскресенье заходя к Ульяновым во время утреннего чая, чтоб Володя помог ему сделать латинский урок, он запомнил только утренний завтрак семьи: ситный хлеб и неизменный «зеленый сыр», самый дешевый сыр в то время, да и сейчас. Дети любили щедро намазывать его на ломти ситного.
Больше, чем личная память, говорили сохраненные Кузнецовым документы: школьные ведомости, названия сочинений, задававшихся ученикам, его собственные тетрадки по математике и латыни, подробное содержание билетов на экзаменах, выпавших ему и другим одноклассникам. Так был сохранен и знаменитый «билет по истории», доставшийся на выпускном экзамене Ильичу.
Но как бы то ни было, свидетельства Кузнецова совпадают с теми скупыми сведениями, какие мы имеем от членов семьи Ульяновых: по‑ видимому, переломные годы Ильича, когда из мальчика формировался будущий человек, прошли во многом незамеченными ни для товарищей, ни для школьной среды. Не было таких друзей, которым Ильич с душой нараспашку рассказывал бы о своих переживаниях. И романисту нужно искать не только людских свидетельств, а главным образом таких узловых фактов в жизни семьи, где скрытые процессы формирования личности вышли бы неожиданно наружу в каком‑ нибудь ярком поступке или слове, и уже по этому поступку или слову делать заключение и о скрытых его переживаниях.
Такой путь тем более правилен, что мы знаем замечательный случай из раннего детства Ильича, показывающий, как глубоко и медленно, непримеченными снаружи происходили в нем, еще ребенке, образования основных нравственных рефлексов и понятий. Маленьким мальчиком Володя Ульянов попал как‑ то – проездом из Симбирска в Кокушкино – в большую казанскую квартиру одной из своих теток. Дети, двоюродные братья и сестры, разные по возрасту, сидели в комнате без взрослого. Все шалили, и ульяновский малыш, всегда со сверстниками шумный и непоседа, разбил графин.
Входит тетка, начинаются допросы от одного к другому:
«Дети, кто разбил графин, ты? Или ты? »
Один отвечает «нет», другой отвечает «не я». Очередь доходит до Володи Ульянова. Он тоже отвечает «не я».
Так это дело и оставили, хотя, конечно, и дети и тетка знали, кто разбил.
Володя Ульянов уехал домой. Прошло много времени. Мария Александровна каждый вечер сама укладывала спать своих детей, целовала их на ночь и говорила им «спокойной ночи». Как‑ то, когда мать нагнулась к Володе, чтоб поцеловать его, мальчик вдруг расплакался. Было это совершенно неожиданно для матери. Она стала его расспрашивать, в чем дело, что такое случилось с ним.
Мальчик ответил: «Мама, я тетю Аню обманул. Я сказал, что не я разбил графин, аведь это я его разбил».
Вот такой неожиданно простой и сильный взрыв созревших уже чувств и мыслей, показывающий, что в маленьком Ильиче происходил сложный процесс образования глубокой нравственной реакции на свой детский поступок, очень типичен для всего склада развития Владимира Ильича. Характер его формируется где‑ то глубоко, глубоко, почти невидимо и незаметно для окружающих, пока не дает понять взрывами о том, что уже созрело в нем. Малыш привез с собой чувство стыда за ложь. Эта ложь прошла безнаказанной, в собственной семье о ней никто как будто не знает, знает только один ребенок в доме, тот, кто солгал. Но стыд не рассасывается, а накапливается внутри. Каждый день мать говорит своим детям «спокойной ночи», дети радуются ее поцелую, засыпают спокойные, но маленькому Ильичу с каждым разом все меньше спокойной ночи, все больше накопленного внутри беспокойства. Он не смог вынести чувства вины, оно прорывается бурной реакцией плача, но замечательно, что в самом признании нет ничего ни стихийного, ни жалобного, ни бессознательного, малыш точно и ясно дает нравственную оценку своему поступку.
Этот случай из детства Ленина очень показателен не только для ребенка, но и для юноши Ильича. Многое из того, что кажется в юности Ленина мгновенным, непроизвольным и случайным, на самом деле тоже есть выход наружу очень большого, иногда очень давнего, но оставшегося незамеченным для окружающих переживания.
Есть картина, изображающая университетскую сходку в Казани.
Тридцать пять лет до этой сходки в Казанском университете кончал ученье отец Ленина, и в те времена и дух в университете, и преподавание, и быт студентов были куда вольнее, шире и свободней. А в конце 1887 года, когда истекал первый осенний семестр учебы Ильича на юридическом факультете, уже действовал новый университетский устав, оскорбительный для студентов. Были приставлены к молодежи своего рода «надсмотрщики» – педеля; установлен мундир с высоким воротничком, и от студента требовалось носить его аккуратно и «на все пуговицы», как если б вольные коридоры университета были приравнены к кадетским корпусам. Недоставало еще становиться во фрунт и педелям честь отдавать! Волнения в Казанском университете и вылились в ярый протест студентов против всех этих нововведений.
Картина изображает, кажется, ту минуту сходки, когда группа студентов, взбешенная закрытой дверью аудитории, бежит по лестнице. Впереди несется юноша Ильич. Он растрепан, лицо его горит, глаза сверкают, движения бурны и непроизвольны.
По каким же рассказам художник создал этот образ, так непохожий на всегда уравновешенного, спокойного и немного насмешливого юношу Ильича? Главным летописцем этой знаменитой сцены был не кто иной, как царская полиция. Сухое полицейское перо, мертвым трафаретом заполнявшее этот отчет, вдруг расцветилось и загорелось, дойдя до описания студента Ульянова, о котором так и сказано в протоколе, что он буйствовал, стремительно мчался, размахивал руками и был красен лицом.
Внезапное исступление обычно спокойного и сдержанного юноши было, значит, настолько велико и до того бросалось в глаза, что даже полицейское перо не смогло этого не запечатлеть необычным для себя языком.
Но революционная вспышка не была в молодом Ильиче случайной и внезапной, вызванной общим волнением студенчества. Корни ее лежат глубоко, и подготовлялась она задолго, так что не с казанской истории Владимир Ильич стал революционером, а казанская история только дала исход накопившемуся в нем душевному протесту.
Как же и по какому поводу копился этот протест, что пережил и передумал мальчик Володя Ульянов, предоставленный самому себе как раз в самые важные для него годы, когда его высокий голос перебивался низкими мужскими нотами, а коренастая детская фигурка становилась юношески сильной и крепкой?
В декабре 1885 года Илья Николаевич Ульянов объезжал Сызранский уезд. Но этот был уже не прежний словоохотливый Илья Николаевич, и учителя заметили в нем что‑ то молчаливо подавленное, и сам он был словно нездоров, зяб в своем зимнем кожухе, кутал горло в шарф, говорил с хрипотцой. Дочь Анна, ехавшая на рождественские каникулы домой из Петербурга, встретила его в пути и едва узнала отца, до того он изменился.
Анна Ильинична и сама, как она говорила про себя, «психовала» весь этот год. Ей казалось, что любимый брат, Александр, обращает на нее в Петербурге меньше внимания, чем раньше, малыши, по которым она всегда тосковала, реже ее вспоминают, мать надрывается через силу по хозяйству, – и в таком мрачном настроении дочь с отцом ехали под одной полостью почтовой кибитки по заснеженной столбовой дороге, скрипучей от крепкого мороза, в унылые декабрьские сумерки.
Отец необычно для него говорил с ней о своих делах горько, даже, как ей показалось, безнадежным тоном, ругнул под ямщицкий бубенец бездарную политику правительства, закрывавшего земские школы. Про старшего сына он не спрашивал, а она не догадывалась, что отец знает про Александра больше, чем знала она сама. И ей и ему казалось, что под полостью они везут только свое, личное настроение, свои неважные домашние дела, свою частную судьбу семьи Ульяновых, – но с ними ехала и завывала в ветре, мелькала в скудных придорожных хатенках, свистела в ямщицком кнуте, горбилась в согнутой спине ямщика судьба всего русского общества этой поры «безвременья», самой тяжелой, мрачной и как будто не имевшей просвета реакционной поры восьмидесятых годов.
Все лучшее в судьбе поколения было как будто уже пережито и лежало позади, а идти, казалось, некуда и лучшего ждать не от чего.
Не было и прежнего чувства уюта по приезде домой. Симбирские знакомые поредели вокруг, давно нет старого друга семьи Арсения Федоровича Белокрысенко, крестного отца Володи. Нет доктора Кадьяна, когда‑ то сосланного в Симбирск по старому делу демонстрантов на Казанской площади и своими глазами видевшего в доме предварительного заключения сцену расправы над студентом Боголюбовым. Нет других привычных людей вокруг.
Праздники прошли тихо, отец прихворнул. Как‑ то с утра он пожаловался матери на озноб. К обеду не вышел, только появился на пороге, оглядел их всех – любимую большую семью в любимой большой комнате, столовой, со швейной машинкой матери в уголку, с географическими картами на стене, с висячими старыми часами, знакомо постукивающими под карнизом, словно и они живой член семейства, – почти все были тут в сборе, кроме старшего сына Александра, и она, верная спутница его трудовой жизни, все еще стройная, прямая, как девушка. Илья Николаевич обвел их взглядом, «точно проститься приходил», – и унес это последнее видение жизни в своих зрачках. Когда мать с одеялом вошла в кабинет прикрыть лежащего Илью Николаевича, он уже был в беспамятстве.
Смерть Ульянова произвела страшное впечатление и в семье и в городе. Прошел было слух, что в этой смерти что‑ то «не так», уж не расстался ли Илья Николаевич сам с жизнью, до того внезапно и неожиданно он умер. Спустя год, когда все стало известно про Александра, стали говорить, что директор народных училищ и сам знал про замысел сына и что это будто бы и свалило его.
Первое большое горе застало Владимира Ильича семиклассником, неполных шестнадцати лет от роду. Он всегда шел в гимназии блестяще, опережая самых первых учеников. Учители спрашивали его только тогда, когда в классе никто не мог ответить, или же для того, чтобы он объяснил классу урок вместо них. Но в седьмом классе первенство Ильича было особенно явно. Во второе полугодие подводились итоги всему пройденному курсу. Гимназисты зубрили старое, давно забытое, а Володя Ульянов помнил весь курс, словно вчера его слушал. Память свою он воспитал не глазами, а на слух – он имел привычку внимательно усваивать весь урок во время объяснений учителя, и что раз услышит, того уже дома учить ему было незачем.
Володя Ульянов никогда не жаловался на гимназию, как это делали и Александр и Анна, и без натяжки можно сказать, что он любил гимназию. Ему не мешала забавная галерея чудаков‑ учителей – она, кстати, сохранилась полностью в рассказах и Кузнецова, и доктора Сурова, и других современников гимназиста Ильича. Не мешал ему и так сильно опороченный впоследствии классицизм, – больше того, латынь и греческий были его любимыми предметами.
Греческий тогда преподавали по хрестоматиям, составленным сумбурнейшим образом. Тут были и отрывки из мифологии, и всякие античные анекдоты без начала и без конца, и смешные рассказы из истории, похожие на пародии Козьмы Пруткова.
Помните пресловутый «Спор древних греческих философов об изящном» Козьмы Пруткова? Два злобных спорщика, Клефистон и Стиф, бросают друг другу бессвязные восклицания и заканчивают спор:
Клефистон (разгорячась):
Барсову кожу я гладить люблю!
Стиф (с самодовольством):
Нюхать янтарные токи!
Клефистон (со злобой):
Ем виноград!
Стиф (с гордостью):
Я же охотно треплю
Отрока полные щеки
Клефистон (самоуверенно):
Свесть не могу очаровательных глаз
С формы изящной котурна.
Стиф (со спокойным торжеством и сознанием достоинства):
После прогулок моих утомясь,
Я опираюсь на урну. [2]
Жемчужников и Толстой явно издевались в этой пародии над ненавистным в те годы школьным классицизмом и бессмыслицей школьных хрестоматий. Для гимназистов, выискивавших в их сумбуре подчас и какую‑ нибудь мифологическую «непристойность», греческие уроки были нескончаемым источником проказ и разных смешных сценок.
Но Володя Ульянов, приходивший в класс за полчаса до занятий, чтоб успеть объяснить урок тем, кто его не приготовил, как‑ то ухитрялся проливать «свет разума» на любой греческий сумбур. Судя по тем замечаниям, какие он делал иной раз, объясняя урок товарищам, Ильич подметил в древнем греке уже и тогда отличительную его особенность, ту, что и сейчас при внимательном чтении хрестоматии бросается в глаза: какой, в сущности, крепкий член общества, член своего времени и среды, какой политик был этот древний грек при всей его «мифологичности», и до чего пороки и достоинства его были общественными пороками и достоинствами, а не только личными, а высшей похвалы удостаивался он лишь тогда, когда делал что‑ либо для общего блага.
Еще сильнее было это свойство в римлянах. Как‑ то, декламируя перед товарищами плавную речь Цицерона против Катилины, Володя Ульянов воскликнул: «Вот здорово! » Что представил он себе, воскликнув? Заседание сената, вокруг мужи, стоит преступник Катилина, всегда затевавший на свой страх и риск разные сомнительные против общего блага авантюры, стоит и слушает, как Цицерон медленно громит его с трибуны всеми фигурами риторики. Сила точного слова, острое, разящее, как пуля, не оставляющее выхода противнику искусство словесного боя, древняя полемика прирожденных политиков, латинян, пленяла Ильича настолько, что он никогда не скучал над уроками древних языков. Сестра Анна вспоминает, как по‑ взрослому, интересно и увлекательно преподавал он ей латынь, будучи мальчиком, и в аттестате его напечатано, что именно в латыни и греческом он достиг наибольших успехов.
Смерть отца была первым большим горем Володи Ульянова. Отец любил его успехи, гордился ими, мальчик еще с детства привык, проходя из передней мимо кабинета отца, когда возвращался домой из гимназии, весело, на ходу рапортовать ему красными от мороза губами: по латыни пять, по алгебре пять… И нет отца.
Но перед юношей вся жизнь, полнота бытия захватывает его, рыжеватый пух вылезает на подбородке, он не умеет соразмерить голос – говорит громче, чем раньше, стучит каблуками сильнее, чем раньше, хохот вырывается у него по‑ отцовски – резко, внезапно, чуть не до колик, он вырос из детской, из игр с малышами, а малыши еще тянут его к себе за пояс, и Володя грубит, огрызается.
Дома все чаще и чаще слышно: «Володя, не груби. Тише, Володя».
Значит ли это, что Володя меньше других страдал в этот год? Брат Саша, приехавший к лету, на вопрос Анны: «Как тебе нравится наш Володя? » – ответил уклончиво и неодобрительно, сделал Володе замечание за нечуткое отношение к матери. Но брат Саша был поглощен в это время своим личным внутренним миром и мог проглядеть душу мальчика, проглядеть то, что творилось в его младшем брате.
Подросток мужал, чувствовал свою силу. Он начинал переоценку вещей. Именно в эту пору Ильич перестал верить в бога, а Надежда Константиновна рассказывает со слов Ильича о том, как, перестав верить, он однажды сорвал с себя шейный крестик.
Последний, восьмой, класс гимназии, или, как пишут в школьных ведомостях, учебный год 1886/87, принес Володе Ульянову второй душевный удар. К самой весне, когда нужно было сдавать экзамены, пришло известие об аресте Александра Ильича.
После смерти Ильи Николаевича положение семьи Ульяновых в городе изменилось. Стало, во‑ первых, труднее жить: пенсия – это не жалованье; и дети вдовы – это не дети крупного в городе должностного лица. И во‑ вторых, жить стало ответственней. Старшие уже наполовину устроены, но Владимир еще только выпускник, а за ним Ольга и двое младших. Приходилось, оканчивая, думать не только о себе и своем будущем.
Пришел снежный, вьюжный симбирский февраль, уже началась первая лихорадка перед экзаменом, поиски нужных книг и учебников, записи в местной Карамзинской библиотеке на ходкую книгу. Семья Ульяновых имела в библиотеке многолетние три абонемента на имя отца, с залогом в пятнадцать рублей. Володя Ульянов много читал в эту зиму, имел и урок. Он был готов хоть сейчас держать экзамен.
Его сестра Ольга тоже шла первой ученицей. Но известие об аресте брата тяжко обрушилось на брата и сестру.
Мария Александровна тотчас уложилась и уехала в Петербург. Няни Варвары Григорьевны – дородной старухи, сильно привязанной к семье и особенно к первому своему питомцу, Володе, которого она и до юношеских лет не переставала нежно кликать «ах ты, алмазный мой», – в доме не было: она гостила у себя на родине, в Пензенской губернии.
Старшие дети, оставшись одни, почувствовали себя как‑ то взрослее и тише. Нужно было держаться, держаться изо всех сил и виду не подать перед малышами, что в семью пришла новая беда, по пословице – пришла беда, отворяй ворота.
Дом Ульяновых на Московской, которому раньше так сильно завидовали, всему завидовали – и умению Марии Александровны вести хозяйство, и воспитанию детей, и успехам их в ученье, и тому, что в доме нет ничего показного и никаких неполадок и не о чем пошушукать да посплетничать, – этот особенный дом знакомые стали обходить.
Ольга, гордая девушка с открытым, привлекательным лицом, глубокими черными глазами, похожими на глаза старшего брата, ходила на экзамены как ни в чем не бывало, в самом нарядном своем фартуке. А на город шла весна, а в город с весной доходили ужасные вести из Петербурга. Положение арестованного брата Саши было очень тяжелое. Он обвинялся в покушении на цареубийство. В семье даже дети знали, что это такое, у всех в памяти были март 1881 года и казнь первомартовцев. Но Саша казался таким близким, молодым, полным жизни, в его комнатке наверху, в антресолях, рядом с Володиной, еще сохранились, будто полные теплоты от прикосновения пальцев его, аккуратные стеклянные пробирки; чистое полотенце, ожидая хозяина, висело на крючке, полка с книгами еще перебиралась, и Володя вынимал Сашиного «Дрэпера». В столовой хлеб подавался на деревянной, вырезанной Сашей в подарок матери, красивой подставке со словом «Brot» (хлеб) посредине, – было чудовищно представить брата под арестом.
Владимир Ильич знал, что для Саши «дело может окончиться очень серьезно». Маняша плакала по ночам, просыпаясь, и звала «маму». Но нервы надо было держать в кулаке. Надо было идти по улице гордо, отвечать на вопросы спокойно, пренебрегать намеками и уколами. И Ольга с Владимиром словно условились, словно вся честь их семьи в том и была, – оба поражали своих одноклассников удивительной выдержкой и спокойствием.
Экзамены проходили прекрасно. Шел май, в городе запахло липой, зацветал клен на кладбище отца, набухла сирень в карамзинском сквере. Как и во все эти годы, Володя Ульянов, серьезный и чуть принахмуренный, с пухлыми большими детскими губами, рыжеватый и головастый, шел по Московской в гимназию, миновал каланчу и только по‑ новому взглянул на решетчатое окно участка с бледными сквозь решетки лицами арестованных; мимо немецкой кирки, каретного заведения купца Шестерикова, мимо дома одного, другого, третьего товарища.
В нежном майском воздухе, полном весеннего благоухания, звонко пробили над городом восемь ударов знаменитые симбирские часы, подаренные Симбирску старым графом Орловым‑ Давыдовым. Как раз в это время Володя Ульянов проходил мимо дома графов Толстых, и Петя Толстой, одноклассник, обычно присоединялся к нему, если шел в гимназию пешком. Но сейчас он не показался, а другой одноклассник, увидя Ульянова, быстро обогнул монастырскую стену, только уши у него вспыхнули под гимназической фуражкой.
В актовом зале гимназии был сегодня очень трудный экзамен – история. Учитель истории был придира и составил билеты заковыристо. Многие его вопросы – Карл IV, например, – никак не решались по Иловайскому, а нужно было помнить, что говорил учитель, или искать самому в словарях да пособиях. Многим страх как хотелось заранее все расспросить у Володи Ульянова, который всегда и все знает, но на этот раз даже расспрашивать его не стали. Только опять он почувствовал на себе прилипчивые, настойчивые, ощутимые, как ползучее насекомое, длинные, косые взгляды.
Володя Ульянов пришел, развязал ремешок от книг и свернул его вокруг пальца, как делал всегда. Сел, как всегда. Правда, Ульянов был очень бледен. В городе узнали, что брат его Александр повешен.
Узнали также, что пришло об этом письмо другу семейства Ульяновых, учительнице Кашкадамовой, и Володя уже все знает. Кое‑ кто даже слышал про слова, будто бы сказанные Володей, когда он прочел известие: «Нет, не таким путем надо идти»… Куда идти? Каким таким путем?
В маленьких городках всегда все знают о других людях. Пока Володя чувствовал на себе взгляды товарищей, в другой, женской, гимназии на экзамене французского языка бледная как смерть Ольга чеканным, твердым голосом отвечала на вопросы. Но девочки хоть и любопытней, а добрее мальчиков, и подруги еще недавно веселой, остроумной, обожаемой в классе Ольги сейчас старались тихонько пожать руку этой холодной и бледной, точно выросшей на голову девочке, ставшей вдруг словно чужой в классе.
Перед Ульяновым подошел к экзаменационному столу Толстой. Его пальцы вытянули билет не без дрожи. Ответ был посредственный, запинающийся, на тройку. Вслед за Толстым к столу подошел Владимир Ульянов.
Мне уж много раз приходилось рассказывать, какой замечательный билет вытащил на экзамене Ильич. По странному капризу судьбы заковыристый историк составил один такой билет, где, словно с умыслом, по всей мировой истории проходят вопросы, касающиеся узловых точек революции и классовой борьбы. Первый вопрос в билете – об ушедших на гору римских пролетариях, боровшихся за свои права с гордыми римскими патрициями. И Карл IV, наводивший ужас на весь класс, тоже оказался в этом билете.
Ульянов знал, что он держит не просто экзамен. Он держал перед этим синклитом сосредоточенных и насупленных лиц, перед любопытно‑ испуганными глазами своих товарищей, перед всем старым и сонным дворянским городом Симбирском экзамен на право дальнейшей своей жизни, на право образования, поступления в университет.
Он был как пролетарий: один на горе, над Римом; еще вчера такой, как и все в классе, а сейчас – брат повешенного, один, выключенный, как зачумленный, из круга, впервые остро почувствовавший, насколько реален этот круг, эти перегородки…
Брат хотел смести перегородки, сделать людей равными. Но разве один брат этого хотел? Он прочитал вытянутый билет – борьба плебеев с патрициями, реформация, Богдан Хмельницкий, – хотел не один брат, вся история мира полна борьбы. Но не в одиночку, не так, не таким путем. Владимир Ильич стал отвечать по билету. Он говорил своим полудетским, картавым голосом – звонко, ясно, глубоко, спокойно. Учитель, бессознательно чертивший что‑ то в бумагах, кивал и кивал головой, экзаменаторы переглянулись – ученик отвечал так блестяще, что придраться не к чему. Постаревший и отяжелевший директор гимназии Керенский, сын которого, будущий Александр Федорович, готовился сейчас с домашним репетитором в первый класс той же гимназии, мысленно тоже кивнул Ульянову: хоть и рискованно, а делать нечего, золотую медаль придется присудить, нельзя не присудить, Ульянов на голову выше класса.
О чем думал в эту минуту юноша Ленин? Перед его глазами уже успели пройти две большие жизни, две символические жизни, характерные для русского общества.
Путем мирной культурной работы, отдачи всего себя просвещению народа шел любимый отец, никогда не помышлявший о революции. И он еще при жизни увидел свои идеалы попранными; созданные усилием многих лет школы – закрытыми; над слабым светом, зажженным в глухих и нищих деревнях, – опять опускающуюся мглу. Путь отца привел к тупику.
Путем террора, путем борьбы один на один с царизмом пошел его любимый брат, и этот путь привел его к бесплодной гибели.
Нет, не этими путями можно добиться человеческой жизни для народа!
Никто, ни в семье, ни среди товарищей, не видел и не оставил свидетельства о том – плакал или нет Володя Ульянов о брате, которого самозабвенно любил с детства… Но страшная сила выдержки, с какой он сдал выпускные экзамены, невольно приходит в голову, когда читаешь сухой полицейский отчет о том, как прорвалась эта выдержка Ильича на казанской сходке, и о том, как он мчался в исступлении по университетским коридорам, красный лицом, размахивая руками и бессвязно крича. Гений революции опьяняюще коснулся его, как только студент Владимир Ульянов почувствовал себя в закипевшей огнем, взволнованной человеческой массе.
1937
[1] Между старшими, Анной и Александром, и Владимиром Ильичом был третий ребенок – Ольга, умершая в грудном возрасте. Следующая за Владимиром Ильичом дочь была также названа Ольгой.
[2] Козьма Прутков. Полн. собр. соч., «Советский писатель». М. ‑ Л., 1965, с. 249. (Библиотека поэта. )
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|