
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Поезд №75/76». ОНИ ПРИШЛИ С КАЙЛАША!
II
Золотой сентябрь пляшет на крылечке октября,
Море бьёт собою в камни, скалы...
Я не знаю, я не знаю никого кроме тебя,
Ветер одичалый
III
И море в дымке вдалеке почти такое же как летом,
Но что-то поменялось
«В просторе этом
Я потерялась!»
Сказала мне моя душа
И с ветром, ветром
Ветром, ветром, ветром
Она смеялась
IV
Я бежал и — с ветром в рюкзаке —
Уплетал любовь за обе щёки
Я купался в удивительной реке —
Чистом, освежающем потоке
Мир восходит, словно дикая звезда —
Провозвестником чудесного начала
Мы расходимся как в море поезда:
От причала, от причала, от причала...

15.09.20 Крым, Форос, последний день на Диком Пляже
***
«Поезд №75/76»
1
Лёгкая изморозь на пожухлых травах
Светом наполнены листья, напоминающие янтарь
В конечном счёте, ни виноватых ни правых
Не оставит нам календарь
Всё уже было прожито: листья обратно к веткам
Не прикрепить, увы
В кукольном театре осени, на верёвке ветра
Пляшут марионетки
Травы
Что-то свершается,
Это таинство умирания
Таинство перехода в иной
Мир, измерение, не-существование
Теряние головы
Природа в предсмертном убранстве
Одинокий столб без проводов замер в пространстве
Тыквы на чёрной земле желтеют как будто китайцы;
Их фонари.
Гори,
Осень! И она горит, пламенея, горит без остатка
Листья срываются вниз как перчатки
С узловатых кистей
Ветвей
Желтей,
Красней
Всё желтей, всё красней, всё прекрасней
Природа в последнем вальсе
В кататоническом трансе
Поёт заупокойную песню
Из поднебесья
Себе самой
Пой
Пой
Пой

***
ОНИ ПРИШЛИ С КАЙЛАША!
Санёчку, золотому дружочку
По крайней мере, так сказал мне Рома, протягивая банку пива Крым откуда-то с небес.
Точнее, протягивал её Женёк, но, в паре с Ромой, они являли из себя нечто неразделимое и четырёхрукое, нависающее над лавкой на которой я лежал, кутаясь в спальник, как Фестивальный Бомж; нечто божественное.
Ялтинские МЧСники вычислили Сёму по модной кепке, болтающейся в корнях городской магнолии как златая цепь на пресловутом дубу, воспетом нашим всем. Кто он: учёный кот, русалка или зверь неведомый, уснувший в перепое на своей любимой магнолии в центре Ялты?
Я сижу на пляже, смотрю на пластиковый стаканчик; я тридцатичетырехлетний человек, отметивший своё день рождения праздничным блёвом в собственную панамку... Разве я не очаровашка?
Разве все мы не прелестны — такие разные долбоёбы?
Вчера ночью, во время первого осеннего шторма — ливня хлещущего со всех сторон — ко мне в палатку ворвались Женчик и Денчик: как Йожин с Важин, как Чук и Гек, как некие новые персонажи неизданных чешских мультфильмов времён совка.
Они принесли травы. Целый мешок.
Я люблю долбить пока меня не зашатает — натурально, как бомжиху — разве я не душка, не милашка? Разве все мы — пыхтящие, льющие, жрущие что попало — не чудесные зефирные облачка, спустившиеся на землю, обретшие земную форму --воплотившиеся на земле воплощения любви, воплотившие на земле неземную любовь во плоти?

Мы собрали водный, мы долбим шмаль. Море бушует в ночи всем своим бесконечным, тёмным ночным простором. Я уже ничего не понимаю: два часа ночи, меня шатает как бомжиху — цель достигнута! Грааль найден! — я еле дохожу до палатки; мрак погружает меня в слияние с нашим общим небытием... но тьма не в силах объять свет вечной жизни!
Чук и Гек в нирване после вчерашних Трёх топоров идут ко мне по галечному пляжу, как святые, сияющие в золотом ореоле зачинающегося дня.
Мы радуемся новой травке почти карикатурно, как чатлане найденной гравицапе. Не хватает только мне одеть оранжевые штаны Женька, чтобы стать до конца похожим на прокопчённого жизнью ЗЕКа-насильника с какой-то другой планеты.
Кю, пацаки! — и я в говно, в беспамятстве лежу в палатке, не понимая куда, как и чьи голоса удаляются... 20 минут. После встречи с апостолами гравицапы прошло 20 минут.
Мрак.

-- А не явить ли нам Сударя этому бренному, грешному миру? — говорит Санёк, глядя живыми, полуслепыми глазами в мутную пустоту перед собой.
-- Блядь, а не явить ли?! — говорю я, и мы собираем водный.
Море плещет волной. Хлещет, бьёт через край камней почти невесомыми фонтанами брызг и пены. На секунду они замирают в высшей точке полёта, чтобы ринуться вниз — обратно, в породившую их пучину.
Мрак накатывается со всех сторон, как ещё одно Чёрное море, только на сей раз и правда бескрайнее, бездонное, (не)гостеприимное.
Бесконечное чёрное море крымской ночи качает меня на нежных ладонях как собственного ребёнка, убаюкивая в колыбели ночных вод, волн, воздуха, гор — в колыбели жизни, дарованной нам по праву рождения на Земле.

Рассвет.
Обнажённый он стоит на камне в море. Он плыл как Зевс, похитивший Европу. Его тёмный силуэт бесподобен на фоне светлеющего неба. Жилистой, загорелой рукой молодого мужчины в расцвете лет он (а это я, кстати, о себе) сжимает 0,375 вина игристого розового с защищённым географическим указанием "КРЫМ" Балаклава BRUT ROSE RESERVE с почти монаршьим аппломбом.
Ночная гонка за Дженьчиком (пусть это уже будет одно существо) по садам Массандры, где на портвейнных деревьях растёт Белый Сурож и красная, с оттенками ёбаного мёда Мадера, окончилась в необъятных подземельях кизлярских коньячных подвалов — моей безоговорочной победой — полным беспамятством, забвением себя и потерей любых остатков контроля.
Теперь Шумахер (это я, кстати, о себе) разорвавший в алкогольном делирии палатку и обрыгавший собственную обувь может открыть причитающуюся по праву чемпионства 0,375 вина игристого розового с защищенным географическим указанием "КРЫМ" Балаклава BRUT ROSE RESERVE, стоя на камне в лазоревой воде утреннего Чёрного моря, такого спокойного, что видны любые движения света в толще волн.
Авторская ремарка: "Ну что же ты, пидор мой сизокрылый?" — говорю я блудному, пёстрому голубю и возвращаюсь к письму.
Итак, пилот-победитель уверенными движениями открывает заветную бутыль и делает жадные глотки BRUT ROSE RESERVE и т.д.
Шампанское — великолепно. Остывшее за ночь на холодных камнях пляжа — оно превосходно.
Но после первых уверенных глотков, чемпиона (и это я о себе) начинает страшно тошнить.

И вот я блюю розовой пеной BRUT ROSE RESERVE в лазурную прозрачную воду Чёрного моря, и думаю: ну ведь эта жизнь, живая мною — с этим долбоебизмом беспамятства, порванных палаток, цветной пены на чистой воде — она священна. Ибо жива, ибо вплетена неотъемлимо в общую канву, в общую тесьму миропорядка из которой не вытянуть ни одной нити.
Я есть.
И этот факт запечатлён, по крайней мере, богугодной (ибо она есть) блевотной пеной BRUT ROSE RESERVE на глади тихой воды. И эти пузыри и брызги — великолепны. И бакланы — плавают, плавают, плавают...
Что вообще такое эта жизнь? Думаю я, блюя.
Запреты? Разрешения? Табу? Пот-а? Пары противоположностей? Необходимый побочный продукт высшего Бытия? Вопросы? Ответы? Экстравагантный эксперимент над Самим Собою, Самим же Собою и учинённый? Есть ли мы все на самом деле или (с точки зрения Вечности) все мы — не более, чем розовая пена BRUT ROSE RESERVE на глади незамутнённых вод неделимого океана Сознания; на глади Чёрного моря сознания?
Вечность — это сейчас, мой милый (думаю я, блюя), вечность — это сейчас. И нет ничего за его пределами, ибо у него нет пределов. Так пусть же жизнь искрится, лопается и пузырится (О! эти мультивселенные BRUT ROSE RESERVE!) — ирреальная как иллюзия разделённости и движения времени, как сказка мира следствий и причин — как розовая пена на лазурной воде!
О, несомненно, мы — есть одно!
ОМ! ОМ! ОМ!
Бакланы плывут, как какое-то ожившее водоплавающее совершенство, их перья блестят от солёной влаги в рассеянном свете утра на Диком пляже; я всё не унимаюсь и стругаю прямо с камня на глазах у всех бакланов и думаю: ну ведь почему-то я жив?! почему-то нужен мой силуэт на древнем камне — дебила, блюющего шампанским на рассвете.
Ух! Бух! Да я, блядь, как брандсбойт! Остановите меня, бакланы! Да я единорог и вот она — моя радуга Скиттлз!
Почему нужен Вселенной (рачительно берегущей свою драгоценную энергию) испытатель данного "здесь и сейчас"?
Что же такое жизнь, для чего она нам дана?
Не для жизни ли?
Есть ли я отдельно ото всего? Думаю я, блюя. Кто я? Почему эта ёбаная пена кажется мне такой красивой — это же блевотина?!
Кто я?
Мэ Коун Хум!
Светает.
Первые люди просыпаются, охуевая от красоты видимой ими картины.

Недавно на том самом камне с которого я царил в утренний простор я нашёл проржавевшую авторучку. Камень метрах в пятнадцати от берега, так что положить её туда мог только сам Посейдон.
Я счёл это знаком небес к тому чтобы продолжить писать эту странную вещицу, которая и мне самому кажется сбивчивой, но тем не менее странно притягательной.
Да! Странная крымская вещица.
Кстати, когда Женёк нёс меня, ополоумевшего от конины и портвейна на пляж, я орал с горы со всей хуйни: Я в ка-а-а-а-ал!
Чисто чтобы все знали, что папа в здании.
Вот как воспеть это в стихах?
Не-воз-мож-но.
От невозможности этой, думаю, и пишется эта вещица.
Короче, время рассказать про "Димкин Антисептик".

Ну не было у ребят покурить! А портвейн уже давил на клапана.
-- А давай водный замоем? — прозвучало из Космоса
Ну, конечно! Затируха классическая! И сколько раз спасала она меня от тоски бесконечных отходняков. Но Дима подошёл к вопросу с пристрастием — пили-то 777 — курнуть хотелось пиздец!
Пацаны живут "на поляне" — на склоне холма, спускающегося к пляжу. Кривые дубки, можжевельники — благодать. И своя атмосфера, не такая как на пляже: сверчки гасят круглосуточно.
Так вот: мрак, сверчки; Рома, Дима и некий неизвестный имя которого я забыл, готовятся дать лютой затирухи смытой ни чем иным как — антисептиком! — который Диме дала мама в путешествие для защиты от КОВИДА.
-- Отличное приминение, сынок! — вижу как она говорит.
Некий неизвестный имя которого я забыл каким-то чудом вывозит коляску.
Рома делает хапку, бледнеет и остается сидеть с закрытыми глазами на корточках перед водным до утра. Только по обильно проступающему на лбу поту можно понять, что метаболизм ушедшего в самадхи всё ещё идёт.
Видя это — нееее долго думая! — Дима приколачивает себе поплотнее.
"Захотелось узнать, что мы там замыли!" — говорит Дима рассказывая мне эту историю вчера на пляже под необъятным ночным звёздным крымским небом, по которому течёт Млечный путь как: О, я часть этой вселенной, мама! О все мы — неотъемлимые части в совокупности являющие из себя неделимое чудо существования.
Дима даёт колпачанского и улетает в астрал.
Пот катится градом по лицу, судороги конечностей заставляют Диму ненадолго предположить, что началось землетрясение.
Мрак с дубками и цикадами шатается, мать его будто вот-вот лопнет!
Так срывается покров Изиды.
Ромаха сидит. Ромаха держит йогическую позу. Ромаха пришёл с Кайлаша. Ромахе похую.

Рядом со мною какое-то время жил Паха — тип потешный до невозможности, ставший еще более смешным после того как врачи обязали его носить противоварикозные гетры.
И он мне рассказал вот какую приколюху: оказывается, в России в 90-е годы существовало некое подпольное общественное движение, потрясающее парадоксальной несовместимостью поставленных целей и употребляемых средств любого здравомыслящего человека.
Называлось оно "Русская сансара".
Суть практики адептов сводилась к достижению крайних стадий алкогольного опьянения, посредством чего предполагалось пережить погружение в Нирвану.
Для этого они собирались в лесах и допивались до белой горячки. Всё просто — зачем выдумывать?
Бегали по лесу, общались с Лешим, гоняли бесов, если повезло — возвращались поменянными. Не такая уж и бесполезная практика, если подумать, эндемичная уж точно.
Так вот, если верить доктрине "Русской сансары", то вчера — вырывая дверь палатки — я почти достиг просветления, был явно на грани оного.
И встал вопрос: а надо ли оно мне, ваше просветление? И куда — по каком лесу и от каких волков — я собрался бежать, раз "Сансара — та же Нирвана", как говорил один наследный принц, разочаровавшийся в мирском и преходящем, давший ушам болтаться.

Бражник зависает над моими яркими самодельными сандалиями, думая что это цветок; мимо летит белая, невесомая как мгновение, крымская бабочка.
Я стою у решётки Форосского парка и не могу спуститься к пляжу. Наверное, я должен дописать вещицу здесь и сейчас: в плавках на 10-летнего ребёнка, положив красивые драгоценные веточки туи и можжевельника на парапет забора, рядом со столь необходимым мне кусочком аллюминиевой проволоки, найденным на дороге.
Я бы хотел рассказать много забавных крымских историй, хотя бы про того же Паху: и как он жил месяц во дворе в Харькове, обжираясь барбитуратами, и как он пришёл ко мне в ночи в говно и орал 8 раз подряд: "Человек человеку — товарищ, друг и брат, а кто скажет иначе, того мы, как хворост — об колено! — и в топку пожара мировой революции!"; и как он научил меня вываривать розмарин так что я всё на свете перепутал... но блокнот кончается и я уже заколебался стоять на дороге — проходящие мимо подъебывают меня за недавнее исполнение с розовой пеной... и вообще я заебал стоять на дороге.
Невозможно! описать ту невыносимую лёгкость бытия (аминь, Ремарк! или кто это там был), что ощутима въяви в этом дивном месте и вместо 1000 чужих историй про Крым, лучше бы тебе приехать сюда "на диком" и написать свою собственную.
Ибо (и вот это уже и правда будет последним — осталась 1 страница) как сказал мне Серёга — полубезумный и полугениальный математик, работающий криптографом в Церне, залетевший на пляж на несколько дней (мы тусили и всё-такое, помните эпизод с панамкой?)
Точнее, я грю ему:
-- Серый, ну это же Крым Шрёдингера, он находится в суперпозиции "Наш-Не-наш". Ни операторы не работают, ни банков наших нет.
-- А вот и нихуя! — резонно возражает мне математик, демонстрируя приятное понимание законов квантовой физики — мы его пронаблюдали, а значит, он — наш!
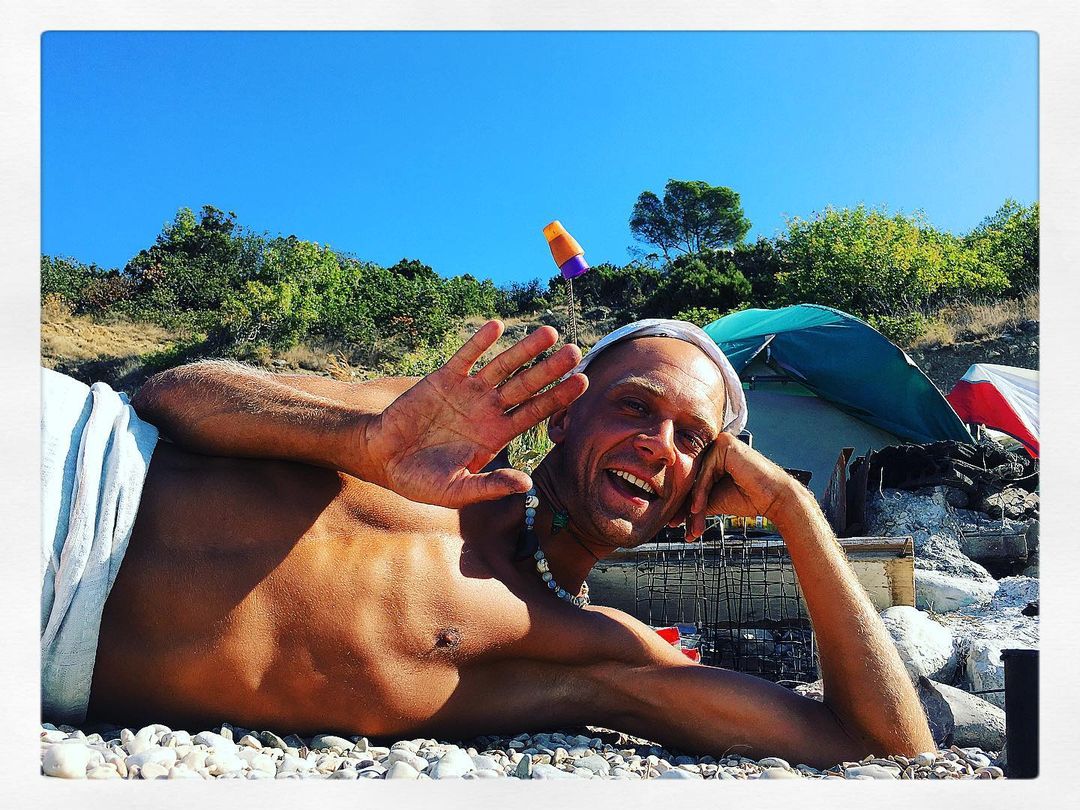
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|