
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Содержание. Annotation
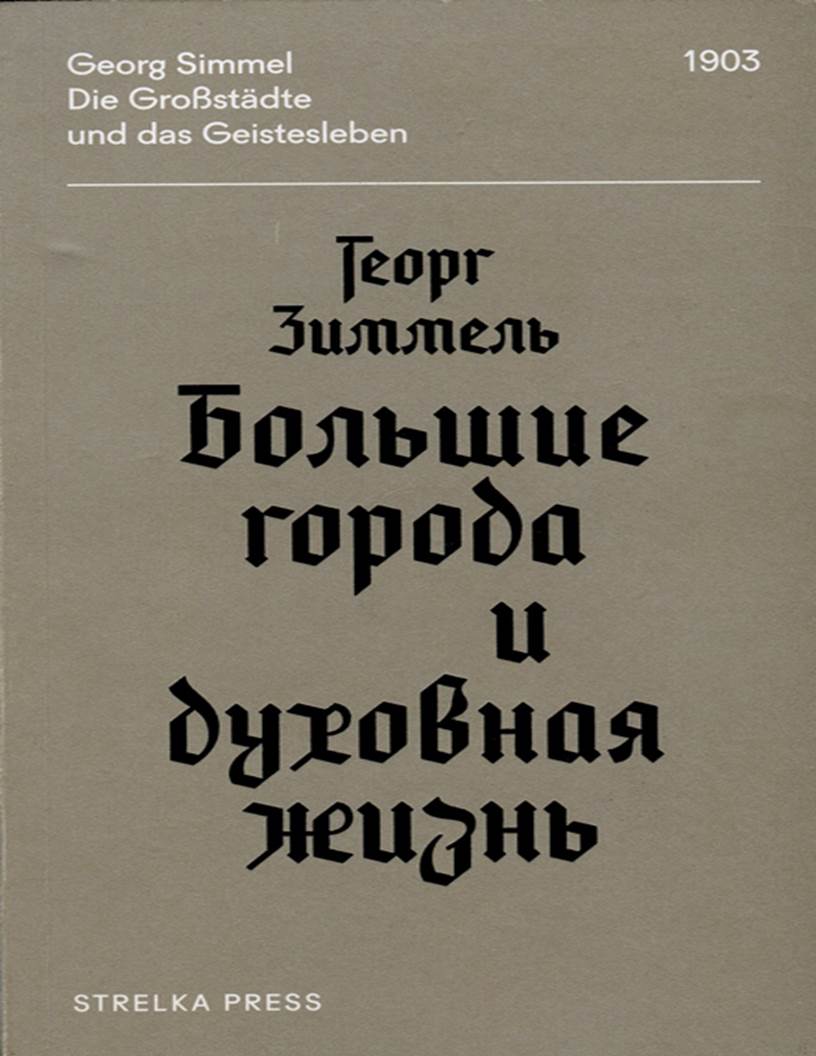
Содержание
Кое-что о проституции в настоящем и будущем
Infelices possidentes![4]
Поездки в Альпы
Берлинская промышленная выставка
Большие города и духовная жизнь
Примечания
Annotation
Именно Георг Зиммель превратил социологию в "науку о сегодня" и сделал фактом науки об обществе внутреннюю жизнь человека: его интересовал дух времени, и он пытался описать его, рассматривая повседневное человеческое существование. Он был первым социологом, который стал думать о потреблении и деньгах, о моде и туризме, о любовных переживаниях и восприятии времени - и о большом городе, ставшем для Зиммеля квинтэссенцией современной жизни.
· Кое-что о проституции в настоящем и будущем
o
· Infelices possidentes![4]
o
· Поездки в Альпы
o
· Берлинская промышленная выставка
o
· Большие города и духовная жизнь
o
· notes
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
o 6
o 7
o 8
o 9
o 10
o 11
o 12
o 13
o 14
o 15
Кое-что о проституции в настоящем и будущем
Моральное негодование, которое «добропорядочное общество» демонстрирует по отношению к проституции, вызывает только изумление, причем сразу по нескольким причинам. Как будто проституция не есть неизбежное следствие тех условий, которые это самое «добропорядочное» общество навязывает народу в целом! Как будто девушки занимаются проституцией совершенно добровольно, как будто это удовольствие! Конечно, между первым разом, когда нужда или беспомощное одиночество, или недостаток какого бы то ни было прививающего нравственность воспитания, или дурной пример из окружения девушки побуждает ее к тому, чтобы отдаться за деньги, и тем неописуемо бедственным состоянием, которым обыкновенно заканчивается ее карьера, — между этими границами в большинстве случаев бывает время удовольствия, беззаботной жизни. Но как дорого оно оплачивается и как оно кратко! Нет ничего более ошибочного, чем когда этих жалких созданий называют «веселыми девицами», подразумевая, что их жизнь посвящена веселью; может быть, веселью других, но уж точно не их собственному. Или, может быть, те, кто их так зовет, полагают, что есть некое наслаждение в том, чтобы вечер за вечером, в жару ли, в дождь ли, или в мороз, выходить на улицу на охоту, где добыча — послужить какому-нибудь мужчине — любому, может быть и отвратительному, — механизмом для эякуляции? Неужели кто-то в самом деле полагает, будто эту жизнь, которой угрожают, с одной стороны, самые омерзительные болезни, с другой — нужда и голод, с третьей — полиция, — что эту жизнь выбирают с той добровольностью, которая только и могла бы оправдать нравственное негодование?
Конечно, нельзя не признать, что проституция более высокая, неконтролируемая, обеспечивает лучшую жизнь на более долгое время: если девушка хороша собой и владеет искусством отказа, а тем более если служит в театре, то у нее есть выбор кандидатов, а может быть даже и бриллиантовых браслетов. Однако тем более глубоким оказывается обычно ее падение потом, когда она лишится тех прелестей, которыми она покупала себе жизнь in dulci jubilo[1]. На ту, более утонченную проституцию, которая в самом деле обеспечивает жизнь лучше, чем уличная или бордельная, общество, как ни странно, взирает гораздо снисходительнее, чем на совсем низменную, которая, однако, если уж говорить о грехе, воистину наказывается жалким убожеством своего существования гораздо суровее, чем та.
Артистку, которая ничуть не нравственнее уличной девки, а даже, может быть, гораздо расчетливее и алчнее ее, принимают в салонах, из которых уличную проститутку выгнали бы взашей. Кому повезло — тот и прав; суровей всех блюдет жестокий закон «у кого есть, тому дают, а у кого ничего нет — у того отбирают» именно «добропорядочное» общество. Как оно повсюду вешает только мелких воришек, так оно изливает все свое добродетельное негодование на несчастных уличных девок, а чем более высокое социальное и имущественное положение занимает проститутка, тем сдержаннее общество в своем негодовании в ее адрес. Ведь общество видит своего врага именно в том, кто несчастен, кому по его собственной вине или без таковой дано меньше, чем другим, кто по справедливому или несправедливому приговору исторгнут из общественного целого, тот возложит на это целое ответственность за то, что ему не досталось в нем места получше. Он будет ненавидеть это общество, а оно будет ненавидеть его в ответ и сталкивать его все ниже и ниже. Тот, кто обладает собственностью и счастьем, помимо непосредственных счастливых последствий своего положения, получает еще и дополнительное, премиальное счастье, заключающееся в том, что общество его почитает, ценит и наделяет всяческими привилегиями. А того, кто несчастен, общество за его несчастье еще и наказывает, обращаясь с ним как со своим прирожденным врагом. Каждый день можно наблюдать, как состоятельный человек прогоняет нищего с гневом, словно быть бедным — это нарушение законов морали, дающее право на моральное негодование. Угрызения совести, которые ощущает богатый по отношению к бедному, здесь прячутся, как это часто бывает, за маской моральной правоты, причем настолько полно и с такими непробиваемыми псевдоаргументами, что богатый в конце концов сам начинает в них верить. То, как по-разному оно с ними обходится, есть один из самых блестящих — или, вернее, самых мрачных — примеров справедливости общества, которое несчастного делает все более несчастным, преследуя его за его несчастье, словно за прегрешение, которое он против этого общества совершил. — или, возможно, скорее даже из смутного предчувствия, что у несчастного по крайней мере есть очень большое желание совершить против общества какое-нибудь прегрешение.
В силу этого положения вещей проституция, которая так же стара, как сама история культуры, в своем нынешнем естестве все же может быть названа продуктом именно наших общественных условий. Более низкие культуры не находят в проституции ничего зазорного — и это очень понятно, потому что она не обладает для них той социальной опасностью, которую обнаруживает в более высокоразвитых странах. Геродот рассказывает о древних лидийцах, что девушки у них отдавались за деньги, дабы скопить себе приданое. В некоторых районах Африки и по сей день действует тот же обычай, но он не мешает уважать девушек — среди которых зачастую бывают и дочери царей, — и не мешает им выходить замуж и становиться вполне добропорядочными женами. Как остаток прежних, неупорядоченных сексуальных отношений мы обнаруживаем представление, согласно которому каждая женщина на самом деле принадлежит всему племени как целому, а вступая в брак с одним мужчиной, она в некотором смысле уклоняется от некоего социального долга; по крайней мере, до вступления в брак она должна этот долг выполнять, отдаваясь любому. И это представление настолько глубоко проникает в сферу морали, что неоднократно даже встречается культовая проституция: плата, за которую отдается женщина, поступает в сокровищницу храма, как, например, сообщает Страбон о вавилонских девушках.
Все это возможно только там, где еще не существует полностью денежной экономики. Ибо где деньги стали мерилом стоимости всего, где бесконечное количество самых разнообразных предметов можно за них получить, — там они приобретает такую бесцветность и бескачественность, которая все, чему они служат эквивалентом, в определенном смысле обесценивает. Деньги — самое безличное, что есть в практической жизни[2], и потому они совершенно не годятся для того, чтобы служить средством обмена применительно к ценности столь личной, как согласие женщины отдаться. Если же подобное все-таки происходит, то деньги опускают все индивидуальное и своеобычно ценное, что в этом акте есть, на свой уровень, и женщина доказывает этим, что самое свое, самое личное, чем она обладает, она ставит не выше, чем это средство обмена, ценность которого равна ценности тысячи совершенно бросовых вещей.
Где деньги еще не стали мерилом почти всех ценностей жизни в такой степени, как у нас, где они еще представляют собой нечто более редкое, менее затертое, там и отдавать нечто личное за них еще не так унизительно. Кроме того, чем ниже положение женщины, чем в больше мере она является пленницей типа, тем в меньшей степени проявляется эта несоразмерность товара и цены. В более примитивных культурах, где особенно женщины еще мало индивидуализированы, человеческое достоинство не в столь высокой степени страдает от того, что готовность отдаться приравнивается к такой лишенной индивидуальности ценности, как деньги. В наших же, более развитых культурах, где все больше вещей можно купить за деньги, последние становятся все более безличными, а люди, наоборот, все более индивидуализированными, и тут покупка самого личного, что есть у человека, за деньги становится все более недостойным делом и превращается в одну из главных причин высокомерия капиталистов и резкости того перепада, что разделяет обладание и предложение. Надо, чтобы самое свое, самое святое, что есть у человека, можно было приобрести лишь за счет того, что вожделеющий, со своей стороны, давал бы за это собственную личность и ее самые сокровенные ценности, — что и происходит в правильном браке. А где человек знает, что ему, чтобы этим наслаждаться, достаточно отдать всего лишь деньги, там, вполне понятным образом, по отношению к неимущим, которые так дешево отдают свое все, не могут не воцариться то презрение и то игнорирование ценности личности, наивность которых нас столь часто удивляет — или, вернее, не удивляет — в представителях наших высших слоев. Разрыв между теми, кто высоко, и теми, кто внизу, очень часто не просто опускает последних все ниже и ниже, но и для первых оборачивается моральным падением: так, рабство унижает не только раба, но и рабовладельца. И подобно этому несоразмерность товара и цены, заключенная в сегодняшней проституции, тоже означает моральное разложение не только тех, кто отдается, но и тех, кто этим пользуется. Каждый раз, когда мужчина за деньги покупает себе женщину, утрачивается часть уважения к званию человека, и в состоятельных слоях общества, где такое практикуется изо дня в день, это является, бесспорно, мощным рычагом, поднимающим самомнение тех, у кого появляются деньги, и ввергающим их в смертельных самообман, который заставляет их высокомерно полагать, будто благодаря обладанию деньгами личность как таковая приобретает какую-то ценность или внутреннее значение. Это полное извращение ценностей, все углубляющее и расширяющее пропасть между человеком, обладающим деньгами, и человеком, который вынужден продавать себя ему, — это моральный сифилис, вызываемый проституцией и, подобно физиологическому сифилису, в конце концов поражающий даже тех, кто не имел отношения к непосредственной причине его возникновения.
Все сказанное подводит нас к той единственной точке зрения, с которой мы можем правильно оценить значение проституции для современности и для будущего: мы должны рассматривать ее во взаимосвязи со всей совокупностью социальных и культурных отношений. Если мы будем рассматривать проституцию изолированно и не проследим ее происхождение до самых ее корней, простирающихся подо всей той почвой, на которой стоит общество, есть риск, что мы будем мерить ее аршином «абсолютной морали» и, не поняв ее, станем судить либо поверхностно, либо несправедливо. В высших культурах необходимость проституции основывается на том, что наступление половой зрелости мужчины и его умственной, экономической зрелости, зрелости характера не совпадают по времени. Последней общество по праву требует от него прежде, чем разрешить ему создать собственное домохозяйство. Но обострившаяся борьба за существование отодвигает экономическую самостоятельность все дальше; сложные требования, которые предъявляют к мужчине техника работы и искусство жизни, приводят к тому, что умственное его образование достигает своей полноты все позже; характеру приходится пробираться свой постоянно нарастающую трудность ситуаций, искушений, опыта, чтобы ему можно было доверить ответственность за другие жизни, за воспитание детей.
Таким образом, тот момент, когда мужчина может легитимно владеть женщиной, отодвигается все дальше, а поскольку телесная конституция к этим условиям еще не приспособилась и пробуждает половое влечение почти так же рано, как прежде, то с ростом культуры неизбежно растет потребность в проститутках. Мы можем здесь оставить полностью без рассмотрения вопрос, не способна ли возросшая нравственность подавить добрачные влечения, так как нам известно, что пока этого не происходит, а мы здесь хотим учитывать только то, что фактически имеет место. Хотя общества защиты нравственности утверждают, что такое подавление не только возможно, но даже желательно в интересах здоровья, все же природа едва ли будет настолько снисходительна, чтобы оставить без наказания пренебрежение столь сильным влечением лишь на том основании, что случайно сложившиеся культурные условия не допускают легитимного его удовлетворения.
Короче говоря, потребность в лицах, которые это влечение удовлетворяют, в обществе имеется. С другой стороны, это общество все же отдает себе отчет в том, как много оно теряет из-за погубленных таким образом жизней этих лиц и что эти девушки идут на заклание просто в качестве жертв чужих влечений. Прекрасно, что «добропорядочное» общество это так воспринимает; но как странно, что оно именно в этом пункте столь чутко и обладает столь чувствительно совестью по отношению к жертвам, которых требует его сохранение! Оно ведь спокойно посылает тысячи рабочих в шахты, обрекая их на жизнь, в которой почти не бывает солнца и которая — изо дня в день, из года в год — представляет собой принесение жертв во имя общества; это только кажется, что жертвуется лишь некоторая деятельность, на самом деле — вся жизнь, потому что в данном случае точно таким же образом (хотя и с абсолютно иным содержанием), как в случае с проститутками, эта деятельность определяет уровень всей остальной жизни, и всем ее прелестям и свободам она ставит самые узкие границы. Как техническую или научную деятельность нельзя сводить к тому, каких моментальных усилий она стоит исполняющему ее работнику, а надо учитывать, что в ней имплицитно заключена вся его предшествующая профессиональная подготовка, все его прошлое, — точно так же в деятельности бесчисленных рабочих и в деятельности проституток заключены все ее последствия, все связи, весь уклад жизни, все будущее совершающих ее людей, которое так же неразрывно связано с этой деятельностью, как в случае с проституткой ее прошлое. Тот же самый ложный индивидуализм, который вычленяет индивида из сетей социальных уз, чтобы его рассматривать чисто «самого по себе», — он же изолирует и его деятельность от тех связей, которые соединяют ее со всей остальной жизнью этого человека, и не замечает того, что общество, с виду требующее себе в жертву всего лишь некие отдельные акты деятельности, на самом деле претендует на то, чтобы человек, работающий в угольной шахте, и бесчисленные другие пожертвовали ему свои жизни целиком. Люди, работающие на добыче мышьяка или на заводе, выпускающем амальгаму для зеркал, на всех тех предприятиях, где они подвергаются непосредственной опасности или медленному отравлению, — разве все они не жертвы, которые общество ради своего существования взимает с других, или, если угодно, с самого себя? И оно их требует или приносит, не особенно по этому поводу горячась. Так почему же оно не хочет пожертвовать пару тысяч девушек для того, чтобы обеспечить неженатым мужчинам возможность нормальной половой жизни и защитить целомудрие других женщин и девушек? Разве необходимость или влечение к обладанию зеркалами более настоятельны и важны, чем сексуальная потребность? Я считаю, что это прекрасно и нравственно, если человек не взирает хладнокровно на то, как столь великое множество девушек сталкивают в пропасть, во внешнюю и внутреннюю погибель, но тогда уж надо быть достаточно последовательным, чтобы возмущаться и по поводу тех, других жертв, чья участь столь часто бывает еще гораздо более жестока. Но тут мерят поразительно неравной мерой, причем не трудно отыскать и причину этого: она заключается, с одной стороны, в том, что необходимость проституции при нынешнем положении вещей не любят признавать открыто; с другой же стороны, оно точно так же не хочет видеть в жизни этих рабочих жертву, приносимую в среде общества и ради него. В силу этих двух тенденций и в силу того, что очень трудно разглядеть идентичность формы за огромной содержательной и этической различностью этих случаев, идентичность отношения общества к обеим категориям жертв оказывается не видна.
Не следует предаваться иллюзиям: покуда существует брак, будет и проституция. Только в условиях полностью свободной любви, когда противопоставление законнорожденных и незаконнорожденных детей утратить всякий смысл, отпадет и потребность в особых лицах, предназначением которых является сексуальное удовлетворение мужского пола. Чтобы в моногамный брак с обязательством (хотя бы в отношении себя) хранить верность люди не вступали легкомысленно и чтобы он не вел к пагубным для обоих супругов последствиям, его будут разрешать только через несколько лет после возникновения у человека полового влечения. Правда, в социалистическом обществе минимальный возраст вступления в брак будет снижаться за счет того, что индивид будет освобожден от необходимости лично заботиться об экономическом обеспечении жены и ребенка; но это значит, что тем большее внимание надо будет уделять зрелости иного свойства, дабы это внешнее облегчение не приводило к слишком поспешно и легкомысленно заключаемым союзам. И хотя, с одной стороны, улучшенное воспитание ускоряет достижение этой зрелости, с другой стороны, облагораживание рас во всей природе и равным образом у людей ведет к тому, что достижение индивидом полного развития задерживается, а дети, оба родителя которых еще слишком молоды, как показывает опыт, оказываются слабыми или дегенератами. Раз уж полигамные импульсы заложены в мужской природе, для моногамного брака — даже после того как все экономические трудности отпадут и даже если рассматривать брак лишь как эротически-нравственный институт, — будет нужен мужчина, который уже имел возможность испытать и познать самого себя, а не желторотый юнец, в котором, однако, чувственные влечения уже дают о себе знать в полную силу. Если этому последнему нельзя позволить привязывать к себе женщину на всю жизнь, то нельзя ему, с другой стороны, и запрещать проявление этих естественных влечений.
Но как же ему их удовлетворять? Остается всего два способа. Либо тот, который мы обнаруживаем у многих грубых народов, где девушки до брака пользуются полной свободой выбора в любви и это ни внешне, ни внутренне не препятствует им впоследствии вступать в моногамный брак; либо проституция, которая полностью посвящает этой цели определенных лиц, чтобы освободить от нее всех остальных. В возможность первого способа я поверить не могу. Чем более развитым и благородным становится человечество, тем индивидуальнее становятся отношения между мужчиной и женщиной; именно тогда, когда брак более не будет делом купли-продажи и принуждения, а будет основываться на чисто внутренней симпатии, предшествующая разнузданность не будет годиться в качестве той почвы, с которой он сможет подняться ввысь. В более грубых культурах, где высшие психические взаимоотношения между полами еще вообще не существуют, — там для брака может быть безразлично, как жила женщина до него; но чем более задушевным и личным становится брак, тем менее возможным делается скачок от полиандрии к нему. Хотя то же самое представляется справедливым и применительно к мужчине, это, однако, не удержит его от добрачного удовлетворения физических влечений в той же мере, как женщину, поэтому что последняя в силу физико-психического характера своего пола раньше созревает для брака, нежели мужчина, и потому раньше может выходить замуж; экономические соображения этому уже не будут препятствовать, как сейчас, и весь вопрос для нее будет более или менее исчерпан.
Таким образом, если свободная любовь не будет всеобщей, то потребуется какое-то количество девушке, которые будут выполнять задачи нынешних проституток. То возражение, что не найдется девушек, желающих этим заниматься, если нужда больше не будет их к этому толкать, сразу приходит в голову, но оно может быть опровергнуто. Дело в том, что сильные общественные потребности сами, какой угодно ценой, создают себе тех, кто будет их удовлетворять. Социальная целесообразность выращивает себе те органы, которые ей нужны, не только за счет того, что ломает индивидуальное сопротивление извне, но и за счет того, что преодолевает его у людей изнутри. Но, разумеется, необходимой предпосылкой, без которой проституция не может существовать в подлинно гуманном обществе, будет повышение статуса проститутки. Если мы, с одной стороны, не отказываемся от института брака, а с другой признаем, что заключать его можно лишь долгое время спустя после наступления у мужчин половой зрелости, и наконец, если мы не хотим ни подавлять добрачные влечения (уже хотя бы потому, что это невозможно), ни ставить им на службу всех девушек без исключения, то из этого вытекает, что некое проституционное заведение потребуется и что было бы совершенно несправедливо девушек, подчиняющихся данному требованию общества, за это наказывать. Нынешнее же буржуазное общество делает это весьма основательно: проститутки — это козлы отпущения, которых карают за грехи, совершаемые мужчинами из «общества». Происходит своеобразный этический сдвиг: общество очищает свою нечистую совесть посредством того, что жертв своих грехов гонит все дальше прочь от себя и тем самым все глубже в пропасть морального разложения, и таким образом обеспечивает себе право обращаться с ними как с преступниками.
У нашего общества есть такая сущностная черта: самые высокие требования в том, что касается твердости характера и устойчивости к соблазнам, оно предъявляет именно к тем людям, которых оно самым основательным образом лишает условий для соблюдения нравственности. Оно требует от голодающего пролетария большего уважения к чужой собственности, чем от биржевого дельца или голубокровного мошенника; от рабочего оно требует величайшей скромности и непритязательности, а само ежедневно соблазняет его зрелищем роскоши, в которой купаются те, кого он сделал богатыми; оно больше возмущается преступностью среди проституток, нежели среди представителей какого-либо иного класса, не задумываясь при этом, насколько отверженному труднее преодолевать соблазн совершить нечто противозаконное, чем человеку, который в тепле и уюте пребывает в лоне общества. Короче говоря, оно требует выполнения долга тем строже, чем сильнее оно само же его затрудняет.
Более нравственный общественный строй изменит это положение дел. Он осознает, что никому нельзя подавать повода чувствовать себя врагом общества; он поймет, что в бесчисленном количестве случаев не наказание следовало за преступлением, а, наоборот, общество несправедливо наказывало и тем самым провоцировало преступление; и если этот строй вообще признает, что при нем существует такая вещь, как проституция, — а без нее не обойтись, не отказавшись от моногамного брака, — то ему придется повысить социальный статус проституток и тем самым устранить то, что, собственно, и образует пагубную природу этого явления. Ибо как проституция являет собой зло вторичное, так и вторичные явления, проистекающие из нее, являют собой наихудшее зло: моральное разложение, в целом порочный образ мыслей, криминальность проституток — все это явления, которые сами по себе, как таковые, не обязательно связаны с проституцией и на сегодняшний день проистекают лишь из ее исключительного социального положения, виной которому — природа исключительно денежных отношений, высокомерие possidentes[3] по отношению к тем, кто предлагает сексуальные услуги, и фарисейство нашего общества. Когда этим жертвам социальных условий не надо будет больше расплачиваться за чужие грехи, у них пропадет и соблазн как бы задним числом заслуживать это наказание собственными грехами.
Конструирование будущего как в этом, так и в любом другом отношении очень сильно затрудняется тем обстоятельством, что исходить мы можем только из нынешней психологической конституции человечества. Та мера радости и страдания, вообще любых душевных реакций, которую должны будут породить будущие условия и которой мы будем мерить их ценность, станет нам понятна, только если мы представим себе воздействие этих условий на нас самих, а мы являемся продуктами того, что происходило до сих пор, и все наше восприятие определяется обстоятельствами, которые впоследствии полностью переменятся. Статус проституции зависит от социальных чувств, которые она вызывает, и мы не можем знать, как они сместятся, когда будут устранены капитализм и его последствия. Хотя можно с уверенностью полагать, что нынешнее презрение к падшей девушке, ее отвержение, которое путем кошмарного взаимоусиления ведет к ее все большему и большему моральному разложению, прекратится, и все же, вероятно, пока будет существовать единобрачие, моногамно живущая женщина будет возбуждать чувство более высокой ценности своей личности, нежели та, которая отдается многим и пока брак будет высшей целью отношений между полами, проституция будет по-прежнему восприниматься лишь как неизбежное зло. Это следствие противоречия между требованием половой зрелости и требованием готовности к браку — следствие, трагичность которого может быть не снята, а лишь смягчена за счет того, что жертв ее станут рассматривать не как субъектов индивидуальной вины, а как объектов вины социальной.
Далее, все эти воззрения изменятся, если поменяется еще одна предпосылка, достающаяся будущему с наследством нынешних условий. Мы предположили, что и впредь женщины будут созревать для брака в более юном возрасте, чем мужчины, так что для них не будут существовать все те трудности, которые для мужчин вытекают из более позднего наступления этого срока. Но что, если это более раннее индивидуальное развитие окажется лишь следствием неразвитости женского пола? Во всей природе мы наблюдаем, что существа развиваются тем дольше, достигают высшей точки своего формирования тем позже, чем они благороднее и совершеннее, чем выше та ступень, на которой они стоят; низшие животные полностью формируются быстрее всех. Не исключено, что угнетенное положение женщины, в силу которого она на протяжении тысячелетий выглядела более низко стоящим существом, привело к такому следствию; чем меньше требований предъявляется к организму, тем проще те функции, для выполнения которых ему нужно сформироваться, тем раньше он это сделает. А когда этот гнет с женщин спадет, когда они из своего неполноправного состояния будут призваны к проявлению своих подлинных сил, к развитию самых разнообразных своих задатков — может быть, тогда и это их отличие от мужчин исчезнет и срок индивидуального созревания будет наступать у них так же поздно, как и у тех; формирование ума и характера, которых требует брак, будет и у них занимать гораздо более длительное время, нежели формирование физиологических функций и влечений. А если последние начнут пробиваться наружу, то и женщины окажутся перед альтернативой: аскеза или добрачное физическое удовлетворение. Последствия такого равенства условий для обоих полов представить себе невозможно, не заблудившись в дебрях фантастически комбинаций; мы слишком плохо можем предвидеть одновременное изменение во всех прочих точках общественного устройства, имеющих не менее важное значение для отношений полов. В качестве идеальной высшей цели всего этого процесса развития следует рассматривать такую гармоничную согласованность физически-чувственного и умственно-характерологического формирования, при которой они будут происходить без временно/го разрыва. Если в самых низших культурах созревание в обоих смыслах действительно наступает одновременно и потому регулирование отношений между полами в них не представляет сложности, то с ростом культуры эти два созревания оказались разорваны и этим были порождены существующие трудности. Одной из задач, которые призвана решить все повышающаяся целесообразность нашей организации, будет задача снова совместить их на более высоком уровне, согласно великим правилам развития, которое столь часто формы, существовавшие на его зародышевом, первом этапе, воспроизводят на своей вершине в более одухотворенном, более совершенном, более чистом виде.
Infelices possidentes![4]
На стенах увеселительных заведений Берлина начертаны слова «Мене, мене, текел»[5]; мрамор и живопись, золото и атлас, которыми убраны эти стены, напрасно тщатся закрыть эту надпись — она проступает сквозь их испуганное великолепие, как будущее проступает сквозь настоящее, и нынешним мудрецам понятно, что она значит. Словно бы обратилось вспять развитие рода человеческого, приведшее его от чувственности к разуму: ни одно наслаждение не прельщает его ныне больше, нежели щекотание нервов и опьянение чувств. Кому еще сегодня нужно серьезное тихое искусство, которое требует душевного поиска, которым, прежде чем обладать и наслаждаться, надо овладеть? Сегодня востребованы удовольствия, которые сами навязываются нашим нервам, как навязывается уличная девка, тем самым карикатурно переворачивающая естественные здоровые отношения полов; востребован блеск для глаза, и увеселительные заведения предлагают его, отчаянно соревнуясь друг с другом, пока буржуа удобно усаживается, как зритель на гладиаторских боях или владелец гарема, и ждет, который из рабов, развлекающих его, сделает это самым забавным и одновременно самым удобным для него образом; востребовано выхолащивание всякого более или менее глубокого содержания, дабы ни в коем случае не потребовали от души, чтобы она сама проделала какой-то путь, сама раскусила какую-то скорлупу, добираясь до ядрышка. Поэтому предлагать можно только то, что доступно на поверхности; поэтому вместо смысла царят ощущения.
И все же трагедия наступает не после сатировской драмы, а уже до нее. То, что страшно и серьезно, не придет после этого жгучего опьянения, а уже пришло; оно не только будет его следствием — точно так же оно и его причина. Здоровый счастливый человек пьянству не предается — его ищут бедные и несчастные. И как следует остерегаться того, чтобы с суровым моральным негодованием осуждать опустившегося пьяницу, который, загнав свое горе в бутылку, достиг блаженного забвения, так и современный Иеремия сам остался бы на поверхности, если бы лишь расточал брань и проклятия по поводу царящих ныне поверхностности и чувственного дурмана, не видя, какая нужда и мука толкают душу народа в это опьянение, заставляют ее убегать на более высоко лежащие уровни душевной жизни, потому что на более глубоких царит ужас.
Были в прошлом такие времена, когда отношения между действительностью и игрой можно было описать безобидным противопоставлением: жизнь серьезна, а искусство радостно. Но нарастающее развитие повсюду заставляет нарастать противоречия и все более враждебно заставляет разойтись в разные стороны то, что прежде, в зародышевом состоянии, было собрано вместе; так же и жизнь стала страшной, пугающей, трагичной, и лишь дополнением ней — неизбежной ее оборотной стороной — является то, что отдых, игра превращаются в подобие чувственно-хмельной оргии сатиров.
Одним из шедевров Вагнера было то, что он создал Байройт, в котором люди, приехавшие наслаждаться его искусством, проводили день без всякого занятия или, во всяком случае, отрешившись от трудов и страхов реальной жизни; Вагнер понял, что современная жизнь — не та точка, с которой можно понять и по достоинству оценить тяжелое и глубокое искусство. Поэтому он описал свой идеал, вывернув наизнанку слова Шиллера: пусть жизнь будет радостной, а искусство серьезным[6]. Чем спокойнее и удовлетвореннее серьезная сторона жизни, тем больше сил и возможности углубления остается для игры.
А сейчас жизнь — лихорадочно возбужденная, она до предела напрягает все нервные силы — мы не только тратим всю силу, которая у нас есть, но живем как бы в долг, расходуем на сиюминутные нужды то, чего должно было бы хватить нам еще и на будущее; отсюда тысячи людей, у которых больше не остается уже никаких сил, — они обанкротились. Современный человек мечется между страстным желанием все приобрести и страхом все потерять; конкуренция между индивидами, расами и сословиями порождает лихорадочную гонку ежедневной работы и вовлекает даже того, кто не работает в безостановочный ритм, в выжимание из себя последних соков, в страх — смутный или отчетливый, — что те, чьим трудом он живет, не вечно будут готовы обменивать свой пот на его купоны.
Если так выглядит день, то каков же может быть облик вечера? Какие душевные силы еще останутся после того, как день поглотил всю активность, напряжение и сосредоточенность, какие имелись у человека? Театры «Ронахер» и «Аполлон» дают ответ на вопрос, на что способен еще, придя в театральный зал, житель крупного города в наше время[7]. Поскольку жизнь полностью поглощает его силу, ему для отдыха можно предлагать только то, что он может переварить, не затрачивая вовсе никаких сил; его нервы, измотанные спешкой и заботами дня, уже не реагируют ни на какие раздражители, кроме тех, которые имеют, так сказать, непосредственно физиологическую природу, то есть на которые организм еще отвечает даже тогда, когда все более утонченные реакции притупляются: это такие раздражители, как свет и разноцветный блеск, легкая музыка и — последнее и главное — возбуждение сексуальных чувств.
Как кто-то сказал, история женщин имеет ту особенность, что она есть история не женщин, а мужчин; точно так же можно сказать, что история отдыха, игры, увеселении при ближайшем рассмотрении есть история труда и дел сугубо серьезных. В былые времена могло быть так, что после спокойных дневных трудов тот, кто вообще ходил в театр, наслаждался там Гёте и Шекспиром; а та экономическая и социальная жизнь на износ, в которой существуем мы и которая даже в личные отношения привносит свое беспокойство, свое вытягивание всех сил, свою страстность, уже не оставляет нам столько сил для отдыха; нам нужно, чтобы нам сделали удобно.
Ведь тем и страшно и трагично такое господство мелкого и пошлого, что оно захватывает не только натуры дурные, низкие, которые покоряются ему в любом случае, но и более хорошие, более возвышенные. Чем глубже их волнуют серьезные вопросы действительности, чем сильнее сотрясают их силы дня, тем легче они соскальзывают на ту же наклонную плоскость, где человек «хочет только развлечься». «Только развлечься» — вот в чем вся беда наших увеселительных заведений. То вложение благородных душевных сил при развлечении, возможность для которого оставлял образ жизни прежних времен, в наше тяжелое время отсутствует, теперь надо развлекаться по принципу экономии сил. С тех пор как верхние десять тысяч осознали бедственное положение масс, с тех пор как к тяготам собственной жизни, внешней или внутренней, добавился дополнительный груз социальных проблем, жизнь как раз более хороших, более возвышенных людей стала отягощена тем бременем, которое, с одной стороны, оставляет им для получения удовольствий лишь низшие душевные энергии, а с другой, заставляет если уж предаваться удовольствием, то искать самого бешеного угара, самых ослепительных эффектов, либо бы заглушить голос внутренних подозрений и предостережений.
Впрочем, в сознании отдельно взятого человека мы напрасно искали бы такие причины его поведения. Индивид непринужденно и довольно плывет по течению великой реки удоволь
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|