
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Анатолий Алексин. Домашний совет. Анатолий Алексин. Домашний совет
Анатолий Алексин
Домашний совет
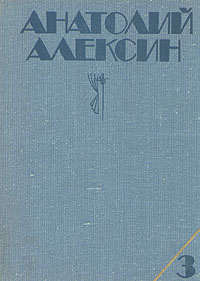
Анатолий Алексин
Домашний совет
Это заседание нашего семейного совета можно было назвать чрезвычайным. В прошлом не могло быть такого заседания. Не могло оно состояться и в будущем, потому что совет, учрежденный мамой, прекращал свое существование.
Прекращал существование… Эти два слова несли в себе трагическую определенность, но и таили неизвестность: «А что дальше?» Мне внушали, что в жизни моей ничего не изменится. Бессмысленность этих заверений лишь обостряла тревогу.
Надежду свою я, покидая последний совет, видел в Ирине. «У нас‑то с ней все прояснилось!» – думал я, вливая в себя успокоительное лекарство.
* * *
А все прояснилось в тот день, когда меня укусила ее собака по кличке Лучший друг человека. Черный пудель приревновал Ирину ко мне. Лучший друг человека обладал уникальным нюхом. К тому же у него была золотая медаль. И он имел основание поглядывать на меня свысока, поскольку я, в ту пору девятиклассник, на золотую медаль не рассчитывал.
Кличка у пуделя была чересчур длинной и потому имела сокращенный вариант: ЛДЧ. Уже при упоминании первой буквы своего имени медаленосец пружинисто делал стойку, будто перед ним возникала кошка. Такая у него была сила предвидения!
Затем Ирину приревновал я сам. К своему брату Владику… Правда, лишь ненадолго.
Мы были близнецами, но Владик появился на свет двумя минутами раньше и потому считал себя старшим братом. Я не возражал: ощущать себя старшим, или, точнее сказать, главным, было его постоянной потребностью.
Мой брат Ирину хронически раздражал:
– Он хочет соответствовать имени Владик: завладеть всем. И даже, представь себе, сердцем. К примеру, моим.
– Твоим? – растерянно переспросил я.
– Пытается завоевать… Но я презираю завоевателей. Передай ему!
Ирина, мне казалось, раз и навсегда определяла для себя, что она любит, а что или кого презирает. В этом я видел не только цельность характера, но и его опасность: безнадежно было подавать апелляцию и надеяться на пересмотр приговора.
– Передай ему: завоевателей презираю! – повторила она.
– Он со мной на эту тему не разговаривает.
– И со мной он формально беседует на другие темы. но фактически…
– А где он с тобой… беседует?
Я всегда старался защищать своего старшего брата. Но тут впервые не нашел оправдательных слов.
– Ты ревнуешь? – спросила она так прямо и просто, что я ответил:
– Ревную.
И даже расстегнул ворот рубашки, потому что трудно стало дышать.
– Так запомни! Если бы мне, Саня, предложили выбор: остаться навсегда одинокой или быть с твоим братом, я бы, не задумываясь, предпочла судьбу старой девы.
Я снова принялся защищать Владика.
После нашего почти совместного появления на свет мы с братом сразу же ощутили, что такое полное равноправие. Мама нас одинаково одевала и обувала, в одни и те же часы кормила нас и поила, мы спали в одинаковых кроватках и садились на одинаковые горшки. Но оказалось, что все это еще не делает людей одинаковыми.
«Какой рослый мальчик! Сколько ему лет? Всего‑то? Не может быть! И какой красивый: копия матери…»– упрямо восторгались мною взрослые, хотя мама взглядами и подмигиваниями умоляла их этого не делать. Случалось, что в ответ они разочарованно продолжали: «А это брат? Близнец? Что вы говорите? Ну ничего общего! В родильном доме не могли перепутать?»
Я ненавидел эти восклицания и вопросы. А Владик ненавидел меня.
Точнее было бы называть нас двойняшками, поскольку мы и правда были непохожи друг на друга. Но все называли близнецами…
Мама с пеленок внушала нам, что для мужчин («Уж поверьте мне, женщине!») внешние данные решающего значения не имеюг, что главное – это ум и душевные качества. Она сообщала, что многие выдающиеся личности были отнюдь не выдающегося телосложения. Владика она утешала, а меня воспитывала. И мы с ним хорошо понимали это.
Потом она начинала объяснять, что зависть – возбудитель чуть ли не всех пороков и низостей, и если один человек – растет, другому от этого не может быть хуже, ибо никто на свете не растет за «чужой счет». Тут уж она воспитывала старшего брата. И мы опять с ним все понимали. Мама усиленно пыталась сделать двух братьев братьями . И, руководствуясь именно этой целью, учредила семейный совет.
Его открытие состоялось у нас дома, на кухне после елочного праздника в детском саду. Мне на том празднике поручили роль «доброго молодца», который должен был не только читать стихи, но и петь, потому что у меня, как назло, еще и «голос» обнаружился. Я сказал, что отказываюсь петь и читать, если в представлении не будет участвовать Владик. Ему доверили бессловесную роль «ежа».
– Он создан для этой роли, – тихо сказала музыкальная руководительница.
Но я услышал и возмутился:
– Откуда вы знаете?!
Мой вопрос до того восхитил музыкальную руководительницу, что она произнесла перед старшей группой детсада речь на тему: «Человек человеку – брат!»
Владик после этого отказался выступать в роли «ежа».
– Заботой, Санечка, можно осчастливить человека, а можно обидеть, – сказала мама, когда мы с ней оказались вдвоем. – Громкое самопожертвование – не добро, а реклама добра!
Она разговаривала с нами как со взрослыми. И мы, стремясь оправдать доверие, должны были понимать.
Мама обожала нас купать. Она намыливала своих близнецов без мочалки, рукой, будто ласкала нас. Заодно она использовала уединение с каждым из сыновей в ванной комнате для индивидуального госпитания. Потом отец бережно, будто в простыню была завернута ценная, легко бьющаяся посуда, относил нас в наши одинаковые кроватки.
Родителям очень хотелось, чтобы мы с братом были во всем «абсолютно равны». Борьба за равенство имеет, однако, разные приемы и формы… В канун елочного праздника мой костюм «доброго молодца» был облит фиолетовыми чернилами.
– Зачем ты это сделал? – спросила Владика мама.
– Я не сделал… Это нечаянно получилось.
Все у него было узкое: лицо, губы, металлические ободки очков, которые он носил, чтобы исправить детскую дальнозоркость. Этой болезнью мой брат очень гордился: умный человек и должен быть дальнозорким.
В то время мы с братом учились писать. Освоив пять первых букв, я ждал, пока их освоит Владик. Уже тогда я начал бояться хоть в чем‑нибудь обогнать его. Он становился моим постоянным «ограничителем скорости». Позже, через многие годы, его так назвала Ирина.
– Но зачем тебе понадобилось наполнять чернильницу прямо над стулом, где висел Санин костюм?
– Пусть вешает в шкаф.
Я не знал, да и сейчас не припомню ни единого случая, когда бы Владик признал себя виноватым. Он всегда и во всем был прав. В этом тоже состоял один из е г о приемов битвы за равенство.
Я cыграл «доброго молодца» в обычном костюме.
– Его не надо гримировать, наряжать! – произнесла Свою очередную речь музыкальная руководительница. – он может играть самого себя. Потому что он добрый и потому что он молодец!
Зрители осыпали нас серпантином и аплодисментами. Не хлопал только мой старший брат. Мама наклонилась к нему и что‑то сказала. Но Владик все равно не захлопал: он боролся за равенство.
Вечером наш семейный совет собрался на первое организационное заседание. Мама сообщила, что отныне мы будем все сложные вопросы решать сообща.
– Мы будем добиваться душевного единогласия.
– Необходимо единогласие? – переспросил отец. И с грустной улыбкой добавил: – Почти как в Совете Безопасности.
– Это и будет совет безопасности… нашей семьи, – вменила мама. – Семейный или домашний. Можно и так и так…
Родители ни словом не обмолвились о причине рождения нового органа власти: ничего не сказали о моем костюме, облитом чернилами. Им не хотелось, чтобы совет начинал свою жизнь с конфликта. Деликатность в общении друг с другом и со всеми остальными людьми давно уже стала для них законом, который, как всякий настоящий закон, не был подвластен обстоятельствам.
* * *
Через десятилетие, покидая наш последний домашни и совет, я думал о том. что родители мои, по привычке мысленно сговорившись, долго проводили некий эксперимент, хотели доказать, что можно, не напрягаясь, прожить под одной крышей без ссор и скандалов.
Ко всякому дерзкому эксперименту вначале относятся подозрительно. Даже близкие друзья дома настаивали:
– Должны же вы хоть когда‑нибудь хлопать дверью, обижаться, не разговаривать!
Это было похоже на утверждение, что человек непременно должен болеть. Хоть изредка, но обязан.
– Одноименные нравственные заряды – и ни милейших отталкиваний! – изумился кто‑то из наших соседей.
– Зачем делать правила физики правилами семьи? – с грустной улыбкой ответил отец.
– И все равно… это вызывает здоровую зависть!
– Зависть не бывает здоровой, – мягко возразил отец. который редко вступал в дискуссии. – Как жестокость не может быть доброй. Зависть – это как бы «внутреннее сгорание» без двигателя.
– Интересно, – сказала мама.
– Она, зависть, никого не движет вперед, – продолжал отец. – А сгорание внутри души происходит: бессмысленное, бесцельное.
– Внутреннее сгорание может быть и благородным. не согласилась мама, – точнее сказать, горение!
– Да, да… Конечно! Только не в данном случае. Не на этом моральном топливе. Ты абсолютно права. – Отец умолк.
* * *
Мы жили в доме научных работников, на первом этаже.
– Почему мы на первом? – спросил я у отца.
– Потому что другие от него отказались.
– И комнаты смежные…
– Плохо вовсе не все, что принято считать плохим. Мы с мамой будем здесь встречать старость. Спокойней встречать ее на первом этаже: не зависишь от лифта. Смежные комнаты… Но разве мы мешаем друг другу?
Искать и находить в отрицательных явлениях плюсы, положительные оттенки – это было отцовским характером. Он отличался от маминого большим спокойствием и, я бы сказал, смирением. Отец, к примеру, не настаивал так непреклонно, как мама, на ежесекундном выполнении всех законов порядочности и равноправия.
Мы не могли сказать по телефону, что мамы нет дома, даже если она спала, – надо было сообщить, что она дома, но устала и прилегла на диван: это отвечало действительности. Нельзя было осуждать людей, которые приходили к нам в гости: зачем же их тогда приглашать?
Научную лабораторию, в которой работали мама и папа, зозглавлял член‑корреспондент Савва Георгиевич – ученый с мировым именем.
– У него и характер мировой! – сказал я однажды. – Предложил мне прокатиться на белой «Волге».
– И ты поехал? – ужаснулась мама.
– Нет… Спешил на урок.
– Молодец! – успокоенно похвалила она. У члена‑корреспондента было два прозвища: Гигант и Мамонт.
– Наш Мамонт! – называли его почти все сотрудники. А мама с папой говорили:
– Наш Гигант!
По совместительству Савва Георгиевич руководил факультетом, который я видел во сне с тех пор, как мы начали изучать физику. Владик сказал, что эта мечта настигла его значительно раньше.
…Владик был хилым ребенком. А я, к сожалению, никак не мог хоть чем‑нибудь заболеть.
В раннем детстве мы то и дело подвергались осмотру врачей.
– Чем ты болел? – спрашивали у Владика. И он долго, с гордостью излагал:
– Корью, коклюшем, краснухой, свинкой, бронхитом, воспалением легких (два раза!) и гриппом (почти каждый год!). И дальнозоркостью!
Казалось, он перечисляет свои награды.
Слово «дальнозоркость» звучало в его устах как «дальновидность».
Покидая последний домашний совет, так странно совпавший с окончанием школы и поступлением в институт, я вспомнил слова Ирины:
– Все, что принадлежит твоему родственнику, – это, по его мнению, самое лучшее: рубашка, портфель. Даже очки! Хотя они своей тонкой металлической оправой придают лицу иезуитское выражение. Или не будем в этом винить очки?
Зная, что я вступаюсь за Владика, она прищурила свои зеленые глаза, будто угрожая закрыть для меня какую‑то дорогу. «Ты согласен?» – часто спрашивала она у тех, чье согласие было ей обеспечено. Она вообще предпочитала общаться с представителями мужского пола, которые в ее присутствии замирали. С девчонками ей было так же трудно, как нелегко полководцу, привыкшему повелевать и командовать, переходить на общение со штатскими, не подчиненными ему людьми.
– Недавно у твоего родственника лопнул шнурок, – продолжала Ирина. – Он присел, склонился над своим любимым ботинком и в такой позе начал мне растолковывать: «Крепкий, новый шнурок! И порвался… С кем не случается?!» Восхитительное свойство. Ты согласен? – Зеленый свет в глазах начал исчезать. – И болезни его, ты заметил. носят изысканные имена; ал‑лерги‑я, хо‑ле‑цистит. Хочется заболеть!
– Зачем уж ты… так? – осмелился возразить я. – Раньше у него и свинка была. А сейчас… у моей болезни тоже царственное звучание.
– Какое?
– Нефрит.
* * *
На самом деле нефрит я приобрел более десяти лет назад, распрощавшись с беспечным детсадовским возрастем и готовясь вступить на пожизненный путь забот и ответственности.
Перед первым учебным годом нас обследовали, и туг опять выяснилось, что все болезни мой брат героически взял на себя.
– Хоть бы ты когда‑нибудь простудился! – сказал он по пути домой.
Я решил выполнить эту просьбу. Тем более что накануне я слышал, как он угрюмо жаловался маме:
– Зачем Саньке ходить на школьную медкомиссию?
– Сане… – поправила она.
– Здоровый… балбес!
После елочного представления в детском саду многие стали называть меня «добрым молодцом», а Владик стал называть «балбесом».
Позже я понял, что он, к сожалению, не обладал ни добротой, ни какими‑либо способностями. Но ему очень хотелось хоть чем‑то существенным обладать – и он выбрал ум, поскольку размеры его с точностью определить сложно. А рядом с мудрецом, оттеняя его достоинства, обязан находиться «балбес».
– Почему ты столь груб? – ужаснулась мама, услышав от Владика мое прозвище.
– Он же здоров как бык!
– И чем это плохо?
Она приготовилась защищать меня и воспитывать Владика (черед воспитываться как раз был его!). Но старший брат стал вдруг давиться от плача. Мама затихла.
– Здоро‑ов… Он здоров! – истерически повторял Владик.
Я уже привык подстраиваться под него, не делать того, что не умел делать он. Но изменить ради него спою внешность, укоротить рост? Это было не в моих силах.
После медкомиссии, возвращаясь домой, я придумал все‑таки, как успокоить брата.
Мы жили в новом, дальнем районе, по соседству с высокомерным зданием научно‑исследовательского института. Старожилы, с испугом и растерянностью оторвавшиеся от земли и взлетевшие из своих избушек на десятые и двенадцатые этажи, рассказывали, что когда‑то в нашем районе было много грибов и даже водились лоси.
Грибами уже не пахло, но осталось озеро, которое называли «Лесным», хотя наступали на него не березы и сосны, а кирпич и бетонные блоки.
Никто не мог припомнить такого застенчивого, короткого лета: оно началось позже обычного, а угасло раньше. В конце августа уже ходили в пальто. А я решил искупаться. Взрослые люди, глядя на меня, поеживались и надежней погружались в свои одежды. Трое мальчишек из нашего дома, решив, что вода потеплела, разделись и тоже нырнули. Но сразу, вытолкнутые холодом, в прилипших к телу трусах выскочили на берег. Они долго смотрели на меня с восторгом и дрожью.
– Рисуется! – громко, чтобы я услышал, сказал Владик, который не умел плавать и боялся глубины. Я просидел в воде минут двадцать. А вечером меня наконец‑то отправили в больницу.
– Это самоубийство! – сильно, в отчаянии прижимая уши ладонями к голове, сказала мама.
– Самоубийство… – прошевелил губами отец, не зная, как оба они были близки к истине.
Мама провела возле меня всю ночь. Я погружался в мокрую, липкую жару, терял сознание, ночувствовал, что она рядом. Плескалось «Лесное озеро», мой брат орал с берега: «Он рисуется!» Но все звуки пересиливал мамин шепот:
– Санечка, Санечка…
Вечером пришли отец с Владиком. У мамы был постоянный пропуск в мою палату, а они заходили по одному. Когда Владик уселся на стул, мама сказала:
– Видишь, Санечка, как он сочувствует тебе? Как он тебя жалеет! Я правду говорю, Владик?
– Правду, – ответил он и нервно подергал носом.
– А зачем ты стал купаться… в такую погоду? – спросила мама.
– Захотел.
– Но ты ведь должен был представить себе, что будет со мной, с отцом, с Владиком!
Она упорно хотела объединить нашу семью и даже в сочувствии ко мне сделать всех равными. «Воспаление легких! – говорили врачи. – Но в общем‑то обойдется».
Оказалось, однако, что мои почки вобрали в себя холод «Лесного озера» навсегда. Это и был нефрит.
Я пролежал в больнице три месяца. «Провалялся», как говорил об этом периоде моей жизни Владик.
Поступление в школу пришлось отложить на год.
– Это ничего, – утешала меня мама. – Максим Горький и Джек Лондон были вообще с четырехклассным образованием. Книги могут заменить все. Они не сделают тебя специалистом, но сделают человеком!
– Разве я… никогда не пойду учиться?
– Что ты? Я просто объясняю, чтобы ты не отчаивался…
Она читала вслух любимые ею с детства сказки, стихи, возвращаясь к ним, как к живым людям. Улучив момент, когда мы были вдвоем, отец спросил:
– Что тебя потянуло в воду?
– Август был. Я и подумал…
– Ты почему‑то решил заболеть? Если я, конечно, не заблуждаюсь.
– Не хотел идти в школу.
Отец потер пальцами лоб. В белом халате он был похож на врача, немного уставшего от чужих болезней.
– Я люблю тебя, Саня.
Мне казалось, он хотел добавить: «Больше, чем Владика». Но он добавил другое:
– Обещай мне не делать никогда… ничего подобного
– Обещаю.
Мама продолжала бороться за равенство братьев. Поступление в школу Владика было тоже отложено на год. Так решил наш семейный совет, выездное заседание которого состоялось в больничной палате.
– Вы должны начать свой школьный путь в один день и в один час. Сидеть на одной парте! – сказала мама.
Владика раздирали противоречивые чувства: он был не прочь продлить на год беззаботное существование, но, с другой стороны, ему очень хотелось обогнать меня хотя бы на один класс.
Он устроил в палате сцену негодования. Болезнь моя стала привычной, хронической, и он мог уже с ней не считаться.
– Я ждал! Я так ждал! У нас есть закон!.. Мама незнакомым мне, острым взглядом усадила его на стул.
– Законы, по которым живет наша семья, рождаются на семейном совете. И никогда не расходятся со справедливостью.
Владик затих: то ли ему все же не хотелось еще идти в школу, то ли он побоялся потерять своего самого надежного защитника в нашем доме.
На этом совет в больничной палате закончился. Но. какие бы потом между много и братом ни возникали конфликты, последним и главным козырем Владика всегда была фраза: «Я потерял из‑за тебя целый год жизни!»
Мы стали сидеть за одной партой, словно в одном автомобиле, водителем которого был Владик Он был облечен и непререкаемой властью ГАИ, ибо сам определял правила движения и собственной безопасности. На уроке я не смел раньше него поднять руку, даже если был в силах ответить на все учительские вопросы. Я не сдавал уже законченные и проверенные контрольные работы, пока не сдавал он. Если меня выдвигали в совет отряда, я требовал, чтобы Владика выдвинули в совет дружины.
Учителя объясняли это «удивительным братством» братьев Томилкиных. На родительском собрании было сказано, что мама и папа должны поделиться опытом воспитания такой «согласованности поступков и чувств». Но все обстояло гораздо проще: я боялся обогнать его хоть на шаг.
* * *
Покидая наш последний домашний совет, я мысленно цитировал высказывания Ирины. Очень способная к физике и математике, она всякий раз как бы доказывала, что и психология должна называться «точной наукой»: оценки людей звучали как физические и математические правила, не подлежащие обсуждению.
– У одного человека походка естественная, а у другого придуманная, им самим выработанная, – утверждала она. – И если автор такой походки имеет сильную волю, он заставляет окружающих поверить в нее и даже ей подчиниться.
Я подчинился походке Владика.
* * *
Ирина была права, когда говорила, что восторги моего брата распространялись лишь на то, что было его личной собственностью. Так как природа и люди персонально Владику не принадлежали, он имел к окружающему миру массу претензий. Чтобы заслужить его хорошее отношение, надо было поспешно стать двоечником, приобрести отталкивающую внешность и жить в тяжелых домашних условиях. Если же моего брата кто‑нибудь раздражал, значит этот человек обладал достоинствами или вещами, которых у Владика не было, но которые он хотел бы заполучить.
Когда мы были в третьем классе, его недовольство обрушилось на сидевшего впереди нас Петю Кравцова. Истинный порок Пети состоял в том, что у него была толстая многоцветная шариковая ручка, похожая на модель ракеты. Внешне она была золотой и стоила, как с придыханием сообщил Владик, очень дорого. Одна эта ручка магнитом притянула к Пете столько разных изъянов, что неясно было, как они умещались в его невместительном, хрупком теле, в его белобрысой голове с простодушным, стриженым затылком.
Владик стал самозабвенно копить деньги. Я понял, что он хочет купить ракетообразную ручку, из боеголовки которой выскакивали разноцветные стержни.
– В ларьке есть почти такая же… но дешевле, – сказал я.
– Дешевое дороже обходится! – оглядевшись по сторонам, открыл мне житейскую тайну Владик. – В магазинах надо покупать, а не в ларьках!
Источником наших нетрудовых доходов были только школьные завтраки. Владик неожиданно стал ласковым и попросил меня немного поголодать. Не в одиночестве, а на равных основаниях с ним… На равных! Мама была бы в восторге.
Пятерку мы наконец скопили. Мне, третьекласснику, она представлялась огромной суммой. Не хватало еще двух рублей.
И надо же было, чтоб как раз в это время исполнилось пятьдесят лет члену‑корреспонденту Савве Георгиевичу! Утром, в день юбилея, мама попросила меня по дороге из школы послать телеграмму на адрес научно‑исследовательского института. Там вечером устраивали торжественное чествование Саввы Георгиевича.
– Пошлем сами, – сказал отец.
– Она может прибыть первой. Это нескромно. А так придет часам к шести. В семь ее зачитают… У тебя, Санечка, хороший почерк. Напиши поясней, чтобы на почте не перепугали. Вот тебе текст и деньги.
Владик умел заискивать ровно столько времени, сколько ему нужно было для достижения цели. На первой же переменке он попросил:
– Дай два рубля… И у меня будет ручка. Сегодня! Могут расскупить. Понимаешь? – Он проглотил слюну, будто ручка была съедобной. – Для телеграммы и рубля хватит.
– Откуда тебе известно?
– Балбес ты, Санька! – нежно, так как деньги были ещее у меня, упрекнул Владик. – Разве я не знаю, сколько стоит одно простое слово и сколько одно срочное? Он всегда интересовался «что почем». Если ему приносили подарок, он даже у гостей спрашивал: «Сколько вы заплатили?» В связи с этим мама посвятила один наш семейный совет проблемам этики общения с гостями. – На рубль, знаешь, сколько можно высказать разных слов! – донимал меня Владик.
– А сдача? Он нервно подергал носом.
– Скажем, что в столовой проели. Мама будет очень вольна. Дай, а? Дай два рубля.
– А ты не ошибаешься? Правда, хватит?
– Не веришь мне?!
Я не верил ему. Но он, как говорил отец, мог и желе‑бетонный столб склонить в свою сторону. Буквы представляли для меня в ту пору такой же интерес, как руль для начинающего водителя. Я их не писал, а Именно выводил. Они получались круглыми, как затылок Пети Кравцова. На адрес и звания Саввы Георгиевича у меня ушел почти весь голубой бланк.
–Ты возьми другой бланк. И склей их… Будет телеграмма с продолжением, – посоветовала женщина, умиленно наблюдавшая, как я вырисовываю свои круглые буквы.
Я склеил.
Девушка, принимавшая телеграммы, не отвлекалась на лица, которые возникали в ее окошке. Она общалась только с чернильными строчками. Каждое слово она пронзала своей самопиской. Подведя вверху бланка какой‑то итог. она назвала сумму, которую я должен был уплатить. Нетерпеливо коснулась рукой стеклянного блюдечка и, ощутив пустоту, взглянула на меня.
Мой подбородок едва дотянулся до ее строгого взора. Девушка смягчилась и повторила сумму.
– У меня… рубль, – растерянно сообщил я. Она опять стала как бы насаживать на самописку каждое мое слово.
– На рубль можно передать только адрес, фамилию, имя, отчество… И все, что тут к ним прилагается. Чинов‑то у него на три строчки! И вот это можно… – Она подчеркнула: «Поздравляем днем рождения Томилкины».
– Как раз тридцать три слова! – сказала девушка.
– «Поздравляем днем рождения»?
– Ну да. А то, что он такой‑растакой… на это рубля не хватит.
– Может быть, адрес сократить? – предложил я.
– Не дойдет.
– А если чины?
– Не советую: может обидеться!
– Что же… теперь?
– Как говорится, подсчитали – прослезились. А родители‑то где были? – спросила она.
– Утром на работу ушли.
– Я не в том смысле. В общем, решай… Видишь, очередь!
Женщина, рекомендовавшая склеить два бланка, пожалела меня:
– Ничего, мы не торопимся.
– Что же будем делать? – Девушка за стеклом уже постукивала пальцами по моему тексту, который был весь в точках от ее подсчетов, словно засиженный мухами.
– Ты не расстраивайся, – посоветовала она, – тут всё самое важное сказано: «Поздравляем». И с чем поздравляют ясно. Давай свой рубль.
Я протянул.
– Да не волнуйся: все ясно‑понятно.
На улице у меня от чистого весеннего воздуха родилась мысль: пулей домчаться до дому, отобрать у Владика деньги и послать другую телеграмму, в два раза большую. Я стал разбрызгивать мелкие лужи, думая почему‑то о том, что вот в такой же беззлобно‑дождливый день, пятьдесят лет назад, родился Савва Георгиевич, чины и звания которого не умещаются теперь на трех строчках. Уже тогда я не упускал случая пофилософствовать о жизни и смерти.
Савва Георгиевич жил в нашем подъезде, на четвертом этаже. Мне было жаль его, всеми почитаемого и обожаемого, потому что за полгола до юбилея, прямо в лифте, умерла от инфаркта его жена. С тех пор Савва Георгиевич в лифте не ездил, а, громко дыша, отдыхая на каждой площадке, поднимался домой пешком. Говорил, что так именно надо тренировать сердце.
Жена Саввы Георгиевича в течение долгих лет предоставляла ему возможность заниматься только наукой. «Она ухаживала за ним, как за ребенком», – говорили в нашем подьезде. Он и напоминал после ее смерти заблудившегося или брошенного ребенка.
Мне казалось, что Савва Георгиевич состоял только из головы: все остальное как‑то не имело значения. Я бы даже затруднился сказать, высоким он был или нет. Только голова… Здесь уж все было значительно: глядящие не вокруг, а внутрь, в себя самого, глаза, мятежная шевелюра, в которой перемешались рыжее воспоминание о молодости и седина, лоб, который можно было изучать как географическую карту.
– Бери его голову – и на постамент! – говорил отец, который был влюблен в Савву Георгиевича. – Вполне годится для памятника под названием: «Мысль». Или: «Личность».
«Вот в такой же обыкновенный день родилась эта личность!» – думал я, разбрызгивая мелкие лужи.
Что же касается Мамонта, то после несчастья, постигшего Савву Георгиевича, это слово в доме научных работников больше не употреблялось.
Владик открыл мне дверь. Денег у него уже не было – у него была многоцветная самописка, похожая на ракету.
– А что такое? – с наивным недоумением спросил Владик.
– На телеграмму не хватило…
– Ты мог и не давать мне этих двух рублей, – сказал Владик. – Я ведь не заставлял тебя. Я попросил… И ты мне сам дал. Так что не ищи виноватого.
Он думал лишь о том, кто будет прав, а кто виноват, – до отца с мамой и до Саввы Георгиевича ему не было никакого дела.
Потом он нервно подергал носом и предложил:
– Давай ляжем пораньше. Они вернутся часов в двенадцать. А до утра уже все испарится!
Но наши родители вернулись довольно скоро.
– Вечер кончился? – спросил я.
– Для нас да, – ответила мама.
Поставила на пол в коридоре мокрый зонтик, похожий на присевшую летучую мышь. И тут же созвала внеочередной домашний совет.
– Почему ты не ограничился одним только адресом? – спросила она у меня.
– А что такое? – поинтересовался Владик. Мама как председатель обратилась к отцу:
– Ты хочешь сказать?
– Пока нет.
– Тогда я расскажу. Саня сегодня просто унизил… я бы даже сказала, опозорил нас всех. Всю нашу семью!
– Где опозорил? – продолжал недоумевать Владик.
– Перед сотнями людей. Перед всем коллективом! Владик изумился:
– Чем опозорил? Его же там не было!
– Тебе, Владик, и в голову не придет… ты не сможешь себе представить, что случилось на юбилейном вечере.
Владик подпер кулаками голову и с недоуменным любопытством приготовился слушать.
– Ты сам‑то ничего не хочешь нам объяснить? – обратилась мама ко мне, соблюдая демократические традиции и давая мне возможность стремительным, чистосердечным признанием хоть немного сгладить вину.
Я этой возможностью не воспользовался.
– Собрался весь институт, – стала излагать мама. – представители академии, министерств и даже гости из других стран. Работы Саввы Георгиевича известны за рубежом! Вступительное слово, приветствия… Ну, конечно, цветы, адреса в папках. Наконец, директор института стал зачитывать телеграммы… Одни восторгаются, другие тоже вос‑торгаются, но с чувством юмора, третьи пишут до того трогательно, что комок не покидал мое горло. И вдруг: «Поздравляем днем рождения…»
Мама не могла усидеть. Вскочила, зачем‑то зажгла плиту.
– Все знают, сколько Савва Георгиевич сделал для нас! – Она повернулась ко мне:– Хоть бы ты и фамилию нашу сократил, скрыл бы ее. Так нет, председатель на весь зал объявляет подпись: «Томилкины». Подписались под собственным позорищем. С ума можно сойти! Мама воздела руки к потолку, потом, вопрошая, протянула их в мою сторону. Владик погрузился в раздумье.
Мама вновь обратилась к отцу:
– Ты готов?
– Пока нет.
– А когда же?
– Потом.
Мама оттягивала разговор о деньгах: ей трудно было обвинить меня в воровстве. Но и избежать этой темы она не могла.
– У тебя было три рубля. Куда ты их дел? – В ее голосе зазвучали следовательские нотки.
– А Савва Георгиевич обиделся, да? – попытался увести разговор в сторону Владик.
– Я послала ему записку в президиум: «С телеграммой получилось недоразумение».
– Значит, недоразумения уже нет, – сказан отец.
– А зал? А весь институт? Люди переглянулись… – Мама встала и погасила плиту. – Вместо того чтобы успокаивать меня, ты бы лучше выяснил истину.
Это была наибольшая резкость, которую мама когда‑либо позволяла себе по отношению к отцу: значит, мой поступок потряс ее.
Домашний совет на кухне продолжался часа полтора.
После очередного маминого обращения к отцу: «Ты, Василий, ничего не хочешь сказать?» – он медленно и твердо, без своей грустной улыбки произнес:
– Я уверен, что Саня ничего дурного не мог сделать… сознательно. – Он повернулся ко мне: – Я уверен в тебе… друг мой.
Иногда отец обращался ко мне с такими словами: «друг мой». И это не звучало высокопарно.
Владик усиленно задергал носом: понимал, что надо сознаться, но не мог преодолеть себя.
В момент этой острой душевной борьбы, разряжая обстановку, подал голос звонок в коридоре.
Владик обрадовался и улизнул с кухни открывать дверь.
Мы услышали Савву Георгиевича.
– А где старшее поколение?
– На кухне, – ответил Владик.
По гусарской интонации, которой никогда прежде не было у Саввы Георгиевича, мы поняли, что член‑корреспондент выпил.
Он появился в дверях, прижимая к себе обеими руками необъятный букет, который напоминал клумбу, «скомбинированную» из разных цветов. С плаща и мятежной шевелюры стекала вода.
– На улице все еще дождь? – заботливо и тревожно спросила мама.
– Люблю грозу в конце апреля! – чужим бравым голосом ответил Савва Георгиевич. – Сделал два шага от машины до подъезда – и вот…
–А где подарки, адреса?
– Остались в кабинете. Их привезут. – Он протянул маме свою разностильную клумбу. – Это вам, Валентина Петровна.
– За жуткую телеграмму? Да что вы!
Мама спрятала руки за спину. Потом сильно, в отчаянии прижала уши ладонями к голове. Волнуясь, она обычно не знала, куда девать свои руки.
– Василий Степанович, уговорите супругу! У меня супруги уже нет и цветы нести некому. Кстати, насчет телеграммы…
Мама оставила свои уши в покое. А чтобы Савва Георгиевичу было удобнее говорить, приняла от него цветы.
– Почему вы ушли? В своем заключительном слове я, как полагается, всех поблагодарил. Но особенно вашу семью за ту добрейшую телеграмму, которую получил рано утром.
– Но мы… не посылали!
Не отвечая маме, Савва Георгиевич миновал эпизод с телеграммой, а заодно и наш коридор. Он проследовал дальше, в комнату. Там он облегченно вздохнул, чересчур ясно давая понять, что поздравления и признания в любви притомили его: в результате банкета он все делал немного «чересчур».
– А о том, что воспринимаю все как аванс на будущее, я не сказал. Во‑первых, терпеть не могу авансов: они создают фактор обязанности, который отягощает и мешает в работе. Ну а кроме того, кто знает, на какое будущее он может рассчитывать? Жена была из семьи долгожителей, и я уповал на ее гены… Что в жизни сделано, то сделано, а будущее, авансы…
– Савва Георгиевич, вам всего пятьдесят! – воскликнула мама.
– Это мало или много? Добролюбову бы показалось, что много, а Льву Николаевичу, – что мало.
– Ученые живут дольше писателей, – ответила мама. – Как правило…
– В том‑то и дело, что нету правил! Но действительно, живут дольше… Потому что рациональнее!
Наверное, Савва Георгиевич произнес слово, похожее по смыслу, но другое. Иначе бы я, третьеклассник, не понял.
– Не знаю ни одного ученого, который бы погиб на дуэли! – заявил он.
– Снимите плащ, – попросила мама. И стала помогать ему.
Он увернулся:
– Неужели вы предложите мне пить чай? Я сегодня уже напился.
Конфликт с телеграммой формально был исчерпан. Но психологически нет… Мама не могла успокоиться. Срок давности не приносил мне прощения. Когда мы оставались вдвоем, она испытывала меня долгим вопрошающим взглядом.
– А если бы Савва Георгиевич со свойственной ему тонкостью не спас репутацию нашей семьи? Ты бы тоже молчал? Его находчивость ликвидировала болезнь, но не устранила причин, от которых она возникла. И может возникнуть впредь!
Душевные качества Саввы Георгиевича противопоставлялись моим: он спасал, был благороден, а я подводил, у меня не хватало воли сознаться.
Владик давал мне советы так, будто сам уже не имел к истории с телеграммой ни малейшего отношения:
– Еще немножечко продержись. Люди все забывают. Но постепенно… Уедем в лагерь, и мама будет спрашивать только о том, как нас там кормят.
– А если она будет помнить об этом до шестидесятилетия Саввы Георгиевича?
– Какой ты балбес! Люди все забывают. Вот у нас с тобой были две бабушки, а теперь их нет. Разве мама и папа продолжают рыдатъ? А тут какая‑то телеграмма… Балбес ты, Санька!
Отец жалел меня:
– Может быть, тебе станет легче, если ты поделишься с мамой? Откроешься ей? Хотя я уверен, что ты не мо
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|