
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Эпиграф. ЗАГЛАВИЕ. ЭКЗИСТЕНЦИЯ (СТРАДАНИЯ ИВАНА). Глава I
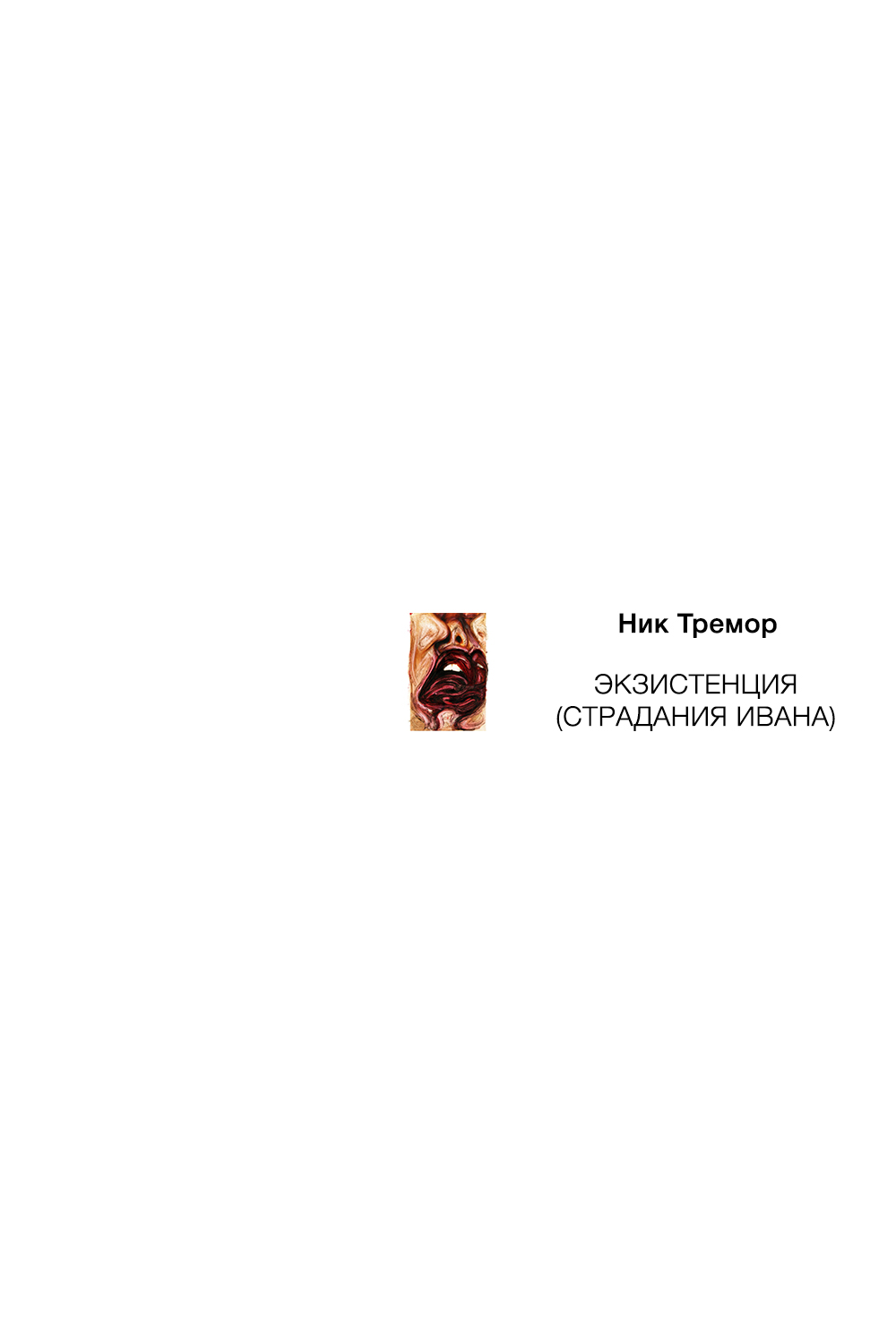
Эпиграф
Прошлое накладывается на настоящее, настоящее влияет на прошлое, видоизменяя его для того, чтобы оно лучше вставало в общую мозаику экзистенции. Вымысел, литературная фикция сливается с подлинными сопереживанием, людьми, событиями и местами. Сон становится явью, явь оборачивается сном. Смех перерастает в крик отчаяния и угасает среди скал, молчаливо омываемых морем. 40000 слов о том, как найти выход из бесконечно усложненного существования, сделавшегося в какой-то момент невыносимым; 40000 слов, которые можно объединить в один «вопль»; 40000 слов, посвященных попытке осмыслить и принять жизнь.
ЗАГЛАВИЕ
ЭКЗСИТЕНЦИЯ (СТРАДАНИЯ ИВАНА):
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
ЭКЗИСТЕНЦИЯ (СТРАДАНИЯ ИВАНА)
Все было прекрасно и ничуть не больно.
Курт Воннегут, « Бойня №5 »
Глава I
Иван сидел на стуле, приставленном к деревянному раскладному столу, чьи железные ножки салатного оттенка уходили по щиколотку в рассыпчатый пляжный песок, прогретый дневным солнцем. Он допивал полусухой шардоне, закусывая мягким, слегка горчившим сыром, и смотрел в даль пустого горизонта, ощущая некоторое напряжение, которое обычно возникает при недосказанности, хотя сказать, в то же время, ему было нечего; потягивая вязавшее рот вино, он нервозно растирал языком небо и то и дело менял положение ног, либо склонял голову, не отводя при этом взгляд от моря, сливавшегося вдалеке с небосводом. Перед ним на песке лежала Мария, обсыхая на черно-белом полотенце после купания — в свете дня ее влажная, обнаженная плоть казалась мраморной, и благородные изгибы тела выражали сходство с античной скульптурой. Он краем глаза замечал ее тело, и когда это происходило, оно становилось настолько же назойливым, как незначительная деталь, которая ни на что не влияла, однако которую нельзя было принять из-за подсознательных идеалистических установок, требовавших все или ничего. Либо смотреть на ее тело, либо не видеть его вовсе. Смотреть же на нее он не мог — ему казалось, что где-то там вдалеке, среди волн и облаков, растворились мысли, породившие в нем неуместное напряжение. Он бы почувствовал себя виноватым перед собой же, если бы отвел взгляд; ему нужно было понять, что не так. В горле пережало, он щедро отпил из бокала вина и глубоко вздохнул, пытаясь расслабиться. Все в порядке, мысленно говорил он себе, вглядываясь в горизонт. В какой-то момент шумы моря и крики чаек, летевших с запада на юго-восток, стихли, и поверх них наслоились звуки проезжавших машин, скворчавших шинами по сырому асфальту. Все тот же Лиговский проспект, он стоит возле какого-то подъезда, пытаясь прикурить сигарету, рядом с ним — Мария, она смотрит на него жалобным, ожидающим чего-то взглядом, съеживаясь от промозглого ветра в своем бежевом пальто. Отовсюду доносятся неразборчивые отголоски разговоров, рядом ходят люди, чьи лица искажаются, выплывая из-под в желтого, чахоточного света фонарей в ночной полумрак и сгорают в ярких белоснежных вспышках фар. Подавленное отчаяние, подобно глухому удару об землю, пульсировало в его висках, а сознание — мнимо стенало, кровоточа в веренице бессвязных, расплывчатых мыслей. Он отлично знал эту свинцовую тяжесть и крик, застрявший в горле, который нельзя ни выпустить, ни проглотить; приходится давиться им, пока он горечью не стечет вниз, отравляя собой все нутро. Мария мягко положила свою ладонь на его правое плечо, ее серые, выразительные глаза пробирались почти что ощутимым состраданием, Иван знал — она переживает не меньше, чем он сам, однако ему от этого не становилось легче. Лучше бы тебя здесь не было, думал он, не отрываясь от ее глаз. Лучше бы ничего и никогда не было, кроме пустоты. Боже, как же я устал. Боже. Боже. Боже. Он ощущал застывшую истерию неразорвавшегося снаряда, погруженного на треть в снег, но готового в любой момент взорваться, огненной гиеной поглотить и перемолоть — как острыми клыками — тысячами осколков все вокруг, оставив после себя лишь выжженные, опустошенные прерии, обгорелые, раздробленные в щепки стволы деревьев и выкорчеванные, ветвистые корни. Пускай. Он был готов к этому. Проблема в том, что взрыва не происходило, как и не возникало уверенности в том, что он не произойдет. В любой момент все могло закончиться, и ему хотелось, чтобы оно закончилось — взрывом или нет, неважно — но катарсиса не наступало. Ни сегодня, ни завтра. Это ожидание было хуже всего. Мария, молю, не произноси не единого слова, если ты что-то скажешь, если ты хотя бы откроешь рот, я уйду. Не надо. Нет. Ни одного звука, ничего. Он затягивался сигаретой так глубоко, как только мог, и дым обжигал его легкие. Пускай это все прекратится, я больше так не могу. Нельзя жить с чувством, что ты вот-вот слетишь с катушек. Взорвёшься. Порвешься, как перетянутая струна. Все мои чувства ударной волной направляются вовнутрь, а не вырываются наружу. Они застревают у меня в горле и мне их не вытошнить. Я кашляю, плююсь, но в пустую. Все в пустую. В этот момент — Иван особенно отчетливо это запомнил — к нему подошел мужчина и попросил сигарету. У него была короткостриженая, хорошо ухоженная борода и фиолетовые синяки, похожие на небрежные мазки, под глазами. Иван постоял несколько секунд в ступоре и затем громко, одновременно давясь собственными слезами, рассмеялся.
Этот смех еще какое-то время перекрывал звуки моря, эхом раздаваясь в голове, после чего все стихло. Теперь он снова был здесь, на пляже, кричали чайки и солнце приятно припекало его кожу. Когда долго живешь в преддверии взрыва, остается только напряжение, похожее на ноющую зубную боль, с которой свыкаешься, но о которой никогда не забываешь — она преследует тебя всегда, гудя где-то на фоне, в затылке, постепенно угнетая до полного эмоционального изнеможения, вызывая глубокую фрустрацию, а с ней — сковывающую тоску и безразличие. Все обесцвечивалось, представая в сером, пресном виде, и переставало иметь какое-либо значение. Со мной все в порядке, мысленно повторил он. Да ради же Бога, со мной все в порядке. Хватит думать об этом. Хватит. Прекрати. Такое бывало и раньше, оно всегда проходит со временем, надо просто не опускать руки и продолжать делать то, что делал всегда, даже если не видишь в этом смысла и ничего толкового не выходит. Делать, потому что, если ты перестанешь, станет еще хуже. Делать, потому что в этом твое призвание. Ты больше ни на что не годен. Тебе никто не говорил, кем стать, ты сам сделал свой выбор и тебе же теперь держать перед собой ответ. Никто не поможет, если ты сам себе не поможешь. Он невольно уронил взгляд с горизонта на Марию; она листала какой-то журнал, ее глаза скрывали квадратные солнцезащитные очки. Рядом лежала белая широкополая шляпа в синюю полоску и, погруженный подставкой в песок, стоял бокал с остатками белого вина. В последнее время она многое вынесла от него. Большинство бы уже сдалось, но не она. Если бы не ее поддержка, он бы, вполне вероятно, спился — только алкоголь позволял ему притупить экзистенциальное недомогание и забыть обо всем разом. Она же следила за тем, чтобы он много не пил. Купирование боли с помощью алкоголя — это не выход из ситуации, Иван знал это, но, тем не менее, настолько периодами уставал, что не хотел ничего чувствовать. Ни-че-го. Мертвецкий пьяный, он мог часами лежать на диване, свесив на холодный пол ноги, и вслушиваться в навязчивое гудение среди пустоты своего разума, где спиртом выжигались и мысли, и чувства, и все, все, все.
Он смотрел на нее, подмечая, как ей идет каре оттенка миндального масла с небрежной челкой, которую она сама состригла в припадке эмоций после очередной ссоры. Они часто ссорились и зачинщиком каждый раз выступал Иван — пребывая в подвешенном состоянии (он даже сумел изобразить это на холсте, нарисовав освежеванную тушу быка, подвешенную на крюк в темной скотобойне и смазанную в конвульсиях), он запросто выходил из себя, вымещая всю скопившуюся желчь на Марию. Не потому что хотел этого или она была чем-то виновата — просто Мария первой попадалась под руку, дрожавшую в исступленном раздражении, и получала свое. Первое время Иван, успокоившись, каждый раз сокрушался в извинениях и чуть ли не на коленях вымаливал прощение, но со временем извинения стали односложными, ссоры перестали восприниматься всерьез и Мария самоотверженно принимала на себя удары, зная — что бы он ни говорил, все было спесью помутившегося от отчаяния рассудка. Когда он кричал на нее и говорил ужасные вещи, она понимала — он это не искренне. Позже он придет в себя и все снова вернется на свои места. Как озлобленный тяжелой жизнью хозяин собаки, который избивал ее палкой, а потом, успокоившись и испытав муки совести, приходил с костью и добрыми словами. Собака же со временем привыкла к побоям и последующим извинениям и не воспринимала палку как угрозу, пускай удары все еще причиняли ей боль.
— Ностальгия, — отчеканил Иван, заглянув в открытый этимологический словарь, который он лениво листал правой рукой. — От греческого «возвращение» и «боль», то есть болезненное возвращение. Такое красивое и емкое слово. Кто бы мог подумать, что оно — всего лишь калька с немецкого «heimweh».
— Какие немцы сентиментальные оказывается, — усмехнулась Мария, не поднимая взгляда из журнала. Эстетика одежды в Vogue ей казалась интереснее эстетики слов. Когда живешь достаточно долго, перестаешь верить в слова. Они чахнут и вянут, как цветы, и ничего с этим не поделать — некогда благоухающие, а ныне отзывающие мертвенной тоской, они более не могли ее впечатлить.
— Слишком нежно. Ностальгия прямо-таки отдает тягучей тоской, а вот в «heimweh» я ничего такого не чувствую. А ты?
— Нет, — ответила Мария. Где-то кричали чайки.
— То, что немцы сентиментальны, это факт. Чего стоит один Шуберт, — проговорил Иван, продолжая листать словарь. — Веймарский классицизм — поздний аналог английского романтизма — полвека держал мир за мошну. Это тоже факт. И то, что они придумали сам термин «heimweh», перекованный для понимания остального мира в «nostalgie» — еще один говорящий факт. Это ведь Ницше впервые разделил греческое искусство на два начала и обнажил миру второе, трагическое, дионисийское начало. Это ведь тоже проявление чувств? Рефлексия на фиесту с целью обнародования ее мрачной, но упоительной в своей горькой грусти тени. Немцы знали толк в сантиментах.
— Ты, кажется, разбираешься в чувствах немцев лучше, чем сами немцы.
— А вообще чувства не знают нации, — улыбнулся Иван, а спустя несколько секунд его улыбка обернулась в усмешку над самим собой — столько привести доказательств, чтобы потом одним своим же антитезисом их перечеркнуть. Своеобразный полемический суицид. Сложно жить, имея больше, чем одну точку зрения; неизбежно возникают конфликты, путаница и, в конечном итоге, пустота. Как массовая драка в помещение, которое потом вычищают охранники; остается только запах пота, капли крови с помятыми салфетками и ощущение опустошенности. Мгновение назад здесь было шумно, жарко и дрались люди. Теперь — ничего.
— Вино еще осталось? — спросила Мария.
Иван молча протянул ей полупустую бутылку шардоне, предварительно отпив из горла. Он не особенно любил вино, но, находясь на пляже в Испании перед спокойным Средиземным морем и размышляя о чем-то неконкретном, нельзя было пить что-либо другое. Это сошло бы за эстетическое преступление. Хотя ему хотелось глотнуть чего-нибудь покрепче, например, коньяка. Или хотя бы херес. Херес — тоже вино, только крепленное, и эстетику момента бы не нарушило. Какая разница, впрочем. Иван усмехнулся, залпом допив остатки из своего бокала и закусил сыром. Идеальных моментов все равно не существует: если ты думаешь о нем, он перестает быть идеальным, а если вспоминаешь позже и задаешься вопросом — был ли он идеален — нет никаких достоверных оснований полагать, что ты не ошибешься. Прошлое всегда обманчиво. Оно смазано временем и сдобрено эмоциями, искажающими действительность. Иногда настолько, что создается впечатление, будто бы ты пережил то, чего никогда не было.
— Надо будет съездить в Кадакес за алкоголем, — сказал он. Ветер листал страницы за него. — Может в этот раз возьмем что-нибудь другое? Побольше сидра, например. Или крик. Я знаю, что ты пиво не любишь, но крик не похож на пиво. Я бы его даже пивом не стал называть. Он тебе понравится.
— Я пила крик на какой-то вечеринке. Он неплох.
— Или, знаешь, можно взять ячменное вино. Я видел его в Эмпуриабраве, пока ты искала свой вишневый пирог. Я спросил у консультанта на ломаном испанском: este vino? Он ответил, что vino, а я спросил, как же может быть vino cebada[1]? И он сказал мне, Esa cerveza, que es vino[2]. Мне тогда так почему-то смешно стало.
— Да. Ты рассказывал.
— Есть еще грушевый перри. Или мед, мы давно не пили мед. Я бы предложил портвейн, но портвейн ты ведь тоже не любишь?
— Не люблю. Но себе ты можешь взять что захочешь.
— Французский вермут? Мы как раз на границе с Францией.
— Мне все равно. Только не крепкое.
— Ладно, я не люблю вермут. Давай возьмём пастис, прошу тебя. Хотя бы одну бутылочку.
— Что такое пастис? — Мария все так же не поднимала глаз из глянцевого журнала.
— Анисовая водка. Она встречается почти в каждой работе Хемингуэя, а ты же знаешь, как я его люблю. Давай возьмем хотя бы на пробу. С одной бутылки ничего не будет, растянем ее на неделю.
— Нет, — с непоколебимой твердостью ответила Мария. — Никакой водки.
Он запросто мог бы ее ослушаться, но не хотел в очередной раз устраивать ссору. Не сейчас. В конечном итоге, напиться можно было чем угодно, разница лишь в необходимом количестве. Две бутылки хереса хватит, чтобы уйти в прострацию. Да, херес хороший вариант. Пройдет еще несколько дней, он, отдохнув и окончательно расслабившись, примется за работу, и все вновь станет замечательно. Иван говорил себе, что все проблемы остались там, в Петербурге, здесь же просто играло на душе их послевкусие. Но и оно должно было в скором времени окончательно сойти на нет. Да, обязано. Море, солнце, алкоголь и любящая девушка — что еще ему было нужно для счастья?
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|