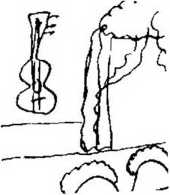- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
«Кровавая свадьба» 5 страница
Не одна Адела бросает вызов Бернарде, Мартирио тоже перестает считаться с матерью; но только первая отвергает тиранию, вторая же, пуще Бернарды лицемеря, готова тиранить других еще более жестоко.
Кровными узами связаны в драме выросшие в одной семье, долгое время дружившие, любящие одного и того же мужчину бунтарка и палач. Фигуры двух сестер постепенно разрастаются и, сталкиваясь друг с другом, обретают все большую контрастность. Конфликт, раздирающий семью Альбы, постепенно выходит за рамки дома. Мартирио готова присоединиться к погромщикам, Адела же — сразиться с ними. Как и в «Кровавой свадьбе», здесь обозначаются «два стана», вступающие во все более ожесточенную борьбу. Пламя этой борьбы, высвечивая узоры повседневности, придает им ранящую резкость — и грозит поглотить их. В «Пьесе без названия» это пламя уже бушует вовсю; здесь и речи не может быть об обыденном и повседневном: настает час решающих исторических испытаний.
* * *
Время работы над «Пьесой без названия» (она, видимо, была начата летом 1935 г. и так и не завершена; особенно интенсивно Лорка трудился над ней в 1936 г.28) — время самой большой гражданской активности поэта 29: он выступает как убежденный республиканец и антифашист. Подпись Лорки стоит первой под манифестом в поддержку Народного фронта, опубликованном 15 февраля 1936 г. в коммунистической газете «Мундо Обреро». На состоявшемся 28 марта 1936 г. в Мадриде митинге в защиту руководителя бразильской компартии Луиса Карлоса Престеса он читает «Романс об испанской жандармерии». Не принадлежа ни к какой политической партии, художник не скрывает своих симпатий к обездоленным и преследуемым и заявляет в интервью известному карикатуристу Багарии, опубликованном 10 июня в мадридской газете «Эль Соль»: «Ни один настоящий человек уже не верит в эту чепуху о чистом искусстве, об искусстве для искусства.
В эти драматические для мира дни художник должен плакать и смеяться вместе со своим народом. Надо пожертвовать букетом водяных лилий и погрузиться в грязь, чтобы помочь тем, кто собирает цветы. Что касается меня, то я испытываю неподдельную жажду общения с другими. Потому-то я и постучался в дверь театра и отдаю театру все мои силы» 30.
В интервью,опубликованном 7 апреля 1936 г. в мадридской газете «Ла Вое», Лорка говорит о своей новой пьесе: «Она будет непохожа на предыдущие. Это произведение, в которое я не могу ничего вписать, ни единой строчки, — тут вырвались на волю и витают в воздухе правда и ложь, голод и поэзия. Они сбежали с моих страниц. . . Голод стоит перед миром, голод, уничтожающий народы, Пока сохраняется экономическое неравенство, мир неспособен думать. Вот что я вижу. Идут два человека по берегу реки. Один — богач, другой — бедняк. У одного полное брюхо, а другой отравляет воздух голодными зевками. Богач говорит: «Какая красивая лодка виднеется на воде! Смотрите, смотрите, какая лилия цветет на берегу!14 А бедняк бормочет: „Я голоден, я ничего не вижу. Я голоден, очень голоден11. Естественно. В тот день, когда исчезнет голод, в мире произойдет такой взрыв духовной энергии, какого не знало Человечество. Невозможно даже представить себе радость людей в день Великой Революции. Не правда ли, я говорю как настоящий социалист?31»
«Новая пьеса», о которой упоминает Лорка, — это «Пьеса без названия». Пабло Суэро вспоминает, как он говорил Лорке, прочитавшему I акт драмы в 1936 г. в одном из мадридских кафе, что она «поразительным образом предрекла то, что происходит сейчас в Испании» 32, имея прежде всего в виду чудовищные акты насилия, совершаемые реакцией против правительства Народного фронта, победившего на выборах 16 февраля 1936 г. Друзья Федерико, знакомясь с его незаконченным произведением, не могли знать, что вскоре начнется франкистский мятеж и вся страна будет охвачена той борьбой, о которой пророчески писал поэт, но приближение грандиозных схваток чувствовали многие. Откликаясь на злобу дня, Лорка стремился проникнуть в тайну грядущего, понять, что ждет искусство, в чем предназначение и роль художника.
В «Пьесе без названия» действуют Помощник режиссера, Автор — драматург, Рабочий едены, герои шекспировского «Сна в летнюю ночь», актрисы и актеры, короче, изображен театр, который в сущности сам превращается в персонажа, в Театр с большой буквы, чье лицо открывается во взаимодействии с Обществом.
И Театр и Общество несутся навстречу неминуемым страшным потрясениям. Прелюдией служит монолог Автора, клянущего то искусство, к которому привыкла почтенная публика, — искусство, служащее лишь тому, чтобы развлекать, помочь забыть о чужих горестях, страданиях и бедах. Он хочет столкнуть публику с тем, что она не хочет видеть.
Отрекаясь от условностей, отгораживающих сцену от жизни, Автор оказывается ввергнутым в жизнь со всеми ее опасностями. 1-й Зритель прерывает вступление, бесцеремонно атакуя Автора. Автор не остается в долгу и гонит 1-го Зрителя прочь: «Дома вас ждет ложь, чай, радио и жена, которая, занимаясь с вами любовью, думает о юном футболисте, живущем в маленькой гостинице напротив». Вопреки 1-му зрителю, ни за что не желающему расставаться с ложью, Автор намерен разрушить стены театра, чтобы на подмостки хлынула правда о тех, кто плачет, о тоске и боли, о судьбе отверженных, о женщине, умершей от голода, и о ее детях, игравших руками покойной и евших сапожную ваксу 33. Тщетно Актриса в костюме шекспировской Титании в пылких и вычурных, отдающих декламационным пафосом речах пытается удержать его, вернуть к былому. В словах Актрисы слышны отголоски сюрреалистического прошлого, когда она вместе с Автором преклонялась перед главными, с точки зрения сюрреалистов, силами — эротикой («Мне хотелось, чтобы ты был серым жеребцом, рвущимся по утрам к кобылицам в стойлах») и эстетизированной жестокостью («Кровь, падающая на землю, превращается в грязь. Следовательно, что мне за дело, если солдаты умирают? Зато если кровь упадет в бокал с жасминами, она превращается в самое изысканное вино»). Но Автор ныне стремится к другому — к тому, чтобы обнародовать неприкрашенный ужас жизни.
Этот ужас стал столь вопиющим, что начинается революция. Восставший народ захватывает город, выстрелы приближаются к театру, слышны разрывы снарядов, все ближе падают бомбы. Театр погружается во тьму, а затем озаряется красным светом пожарища. «Народ сломал двери!» 34 — кричит Помощник режиссера. . .
Разбушевавшийся огонь, как надеется Автор, выжжет дотла все фальшивое в театре. Чем накаленней общественная атмосфера — а Лорка почти с физической осязаемостью передает, как повышается градус страстей, — тем очевидней становится, что сценические игры, уводящие от реальности, вовсе не безразличны по отношению к ней. Фантазии, маскирующие истинный лик правды, привлекают тех, кто со свирепой ожесточенностью защищает свои привилегии. 2-й Зритель распространяет небылицы о зверствах революционеров и застреливает в упор появившегося на сцене Рабочего, после чего требует, чтобы представление шло как ни в чем не бывало. Матерым фашистом оказывается хозяин театра, собирающийся развязать чудовищный террор: «Образуем исполинскую розу из отрубленных голов смутьянов. Украсим фасады домов, фонари и портики тысячелетних дворцов гирляндами языков тех, кто хочет разрушить устои».
С ним заодно и Лесоруб — актер из помсостава; «Я хочу лишь одного — чтобы мне дали спокойно играть мою роль». Тихий обыватель присоединяется к разнузданному палачу, защищая тот мир и то искусство, к которым привык.
Ложь стала неслыханно агрессивной, смертоносной; вправе ли театр потакать ей?
Нет сомнений, что Лорка с ненавистью отвергает неправду, которая для него неотделима от социальной несправедливости. И тут же в «Пьесе без названия» с пугающей остротой возникает вопрос: в чем же правда искусства? Не торопясь отвечать на него, драматург сталкивает нас с неожиданными ситуациями. Оказывается, что художественная правда способна воздействовать сильнее жизненной. Слугу из ближайшего ресторана, принесшего Автору кофе, ошарашивает и смущает мир театра — он столкнулся с рыбаками, на головах которых были свинцовые рыбы, а на голову ему упал тюль, про который сказал^ что это туман 3,\ Между тем у него в ресторанчике творятся чудовищные вещи: недавно напоили мальчика и индюка, мальчик бился головой об стену, индюку долго перерезали тупой бритвой шею, пьяница развлекался со скрипкой-самоделкой: распял на стиральной доске кота и водил по нему терновым прутом вместо смычка. . . «И тебе было не страшно?» — спрашивает его Автор. «Чего же бояться мальчика да индюка», — отвечает Слуга. Зато он боится сидящих за кулисами театра птиц, боится именно потому, что знает — они не настоящие. «Если б были настоящие, я бы их мигом уложил одним выстрелом».
Не только искусство, но и жизнь может убаюкать нравственное сознание. Слуга, не знающий искусства, — дремучий человек со спящей совестью. Театр же будит его от душевной спячки. Выдумка, фантазия и поэзия могут не только уводить от правды, но и открывать на нее глаза. Именно поэтому Лорка продолжал заниматься искусством, и именно поэтому искусство в «Пьесе без названия» выступает столь драматически противоречиво — то влекущее, то отталкивающее, то дешевое, то прекрасное, оно учит то равнодушию, то состраданию.
Первый — единственный сохранившийся — акт «Пьесы без названия» завершается тем, что Актриса громко, дрожащим от волнения голосом зовет Автора, рванувшегося на улицу, навстречу толпе: «Лоренцо! Лоренцо!» Она —прожженная лицедейка, порождение кулис, привыкшая фальшивить, но сейчас в ее голосе звучит неподдельная любовь и страх, будто она предвидит грозящие Автору опасности. Искусство также может замыкаться в себе и может открывать самые сокровенные истины.
«Реальность, — говорил Автор. — Вы знаете, какова эта реальность? Я скажу вам, что она из себя представляет. Уже срублены деревья для гробов всех тех, кто находится в этом зале» 36. Его пророчество непогрешимо, и беспокойство, которым охвачена Актриса, не напрасно: во II акте, который, судя по всему, был частично написан Лоркой, Автор погибает. Затем следовала, по свидетельству друзей Лорки, поразительная по величественности сцена в морге, где матери оплакивали своих детей. III акт, согласно замыслу Лорки, должен был происходить на небесах, где обитают смуглые андалусские ангелы. Можно только гадать о том, каким должно было быть его содержание. Но вряд ли Лорка собирался ставить в нем все точки над «i». У «Пьесы без названия» подчеркнуто открытый характер. Драма изображает мгновения перед взрывом и начало взрыва, чьи последствия никто точно рассчитать не в силах. Поднимаются как те, кто хотят порвать все путы, так и те, кто хотят надеть на всех еще более тяжкие кандалы. Вдохновляющие, радужные надежды, смешиваются с мрачными опасениями, Автор мечтает о новом дне Театра, но печальные феи и сильфиды проносят через сцену смертельно раненного рабочего. Мы не знаем, что за огонь пылает в конце I акта — разгорается ли революция, или контрреволюционеры подожгли театр, жаждущий стать народной школой.
* * *
Удивительна широта Лорки — он мог одновременно работать над «Пьесой без названия» и «Домом Бернарды Альбы». В «Доме. . .» он изобразил постылую, вязкую, застойную повседневность, в «Пьесе без названия» — вереницу вихрем проносящихся, полыхающих огненными красками экстраординарных образов. Трудно представить более различные произведения, и все же они проливают свет друг на друга. «Пьеса без названия» позволяет увидеть действительность во внебытовом ракурсе, открывает ее фантастически яркую, поражающую широтой охвата трагическую панораму. В «Доме Бернарды Альбы» жизнь рассмотрена изнутри быта, но это быт, взятый на излете, когда он должен перейти в иное качество; все идет по привычному кругу, но круг размыкается и между домашними образуется пропасть. Кажется, дом вот-вот вывернется наизнанку — все выплеснутся на улицу и будут подхвачены вихрем бушующих событий. В обоих произведениях ощущается приближение революции и гражданской войны, но только то, о чем в «Пьесе. . .» говорится прямо и без обиняков, в «Доме. . .» постигается косвенно, по тому прежде всего, как начинает понемногу все сдвигаться со своих мест в неподвижной среде.
«Пьеса. . .» привлекает необыкновенной живописностью, в то время как в «Доме. . .» Лорка тяготеет к «фотографичности». Однако если это фотографии, то они полны надрывной экспрессии. Творчество Лорки, постоянно меняясь, претерпевая невероятные метаморфозы, неизменно чурается безобразного и хранит веру в единство правды и красоты. «Дом Бернарды Альбы» и «Пьеса без названия» мы тоже можем понять лишь в свете идеалов красоты, свободы и справедливости и в свете зарниц надвигающейся исторической бури.
Послесловие
|
|
. . .Вначале была Природа: красота испанского юга, благодатная почва богатой андалусской долины, в которой все цветет и благоухает, земля, на которой зеленеют оливы, золотятся апельсины и наливаются кровью гранаты. . .
«Детство я провел среди природы. Как пристало ребенку, я представлял каждую вещь, предмет, дерево, камень в виде живого существа. Я с ними разговаривал и любил их. Однажды вечером мне почудилось, что тополя поют. Ветер, проносясь сквозь ветви, извлекал звуки разной высоты, которые показались мне музыкальными. И я проводил часы, подпевая песне тополей. Как-то раз я остановился как вкопанный. Кто-то произносил мое имя, разнимая его по складам: «Фе—де—ри— ко». Как ни оглядывался я вокруг, никого не было видно. И все же в ушах продолжало звучать мое имя. Через некоторое время стало ясно, в чем тут дело. Виной всему был старый тополь, его ветви, соприкасаясь друг с другом, издавали монотонный, жалобный звук. . .» 1 Лорка не раз будет вспоминать музыку деревьев и музыку воды, несущей знойной Андалусии жизнь: «Реки и каналы вошли в меня. И следовательно, Гвадалквивир или Миньо рождаются в Фуэнте Минья и впадают в Федерико Гарсиа Лорку, скромного мечтателя и сына воды»2. Первая из завершенных пьес юного Федерико — «Злые чары бабочки» (1920) — рассказ о приключениях насекомых и мотыльков, об их страстях и раздорах — свидетельство приверженности поэта природе и всему живому.
Затем был Праздник. Вместе с великой книгой природы, в которой будущий художник постиг и самые крупные знаки и самые мелкие письмена, его воспитывало искусство праздника: он не мог отвести глаз от карнавально-ярких процессий, в которых участвовали герои сказок и легенд, мифов и религиозных преданий:
Мария в бусах миндальных, как дочь алькальда, нарядна; плывет воскресное платье, блестя фольгой шоколадной.
Иосиф машет рукою, откинув плащ златотканый, а следом — Педро Домек и три восточных султана 3.
Его пленяли продавцы лубочных картинок и сами эти картинки, паяцы и зазывалы, он сообщал в письме, как «падал со смеху», вспоминая анекдоты кукольного вертепа 4. Истинное дарование Лорки-драматурга впервые проявится в «Балаганчике дона Кристобаля» (первый вариант— 1922 г.), в котором звонко и бесцеремонно раздаются голоса ярмарочной площади:
— Сеньора.
— Кабальеро бумажкин, сеньор промокашкин!
— Без шляпы — гуляшкин.
Хочу с вами поделиться. —
Я решил жениться.
— А у меня есть дочка-девица.
Сколько денег дашь?
— Золотую деньгу
из кучи, что мавр наклал на лугу. . ,в
Театр Лорки — встреча народной и профессиональной культур: «В точках встречи этих культур обычно происходит обновление старых форм искусства. Эти моменты взаимодействия чаще всего возникают в периоды значительных социальных переломов, когда оказывается разбуженной творческая энергия масс, или в эпохи переломные для истории культуры. . .»6 Мы вправе говорить о «философии праздника» и праздничном мировоззрении, присущем всем драматическим произведениям Лорки 20-х годов, о резком неприятии им бескрылого, будничного существования, о жажде предельной насыщенности бытия и «неслыханной свежести и полноты чувств» 7 и о близости ему народно-праздничной, лубочной эстетики площадного представления с его откровенной условностью, броской выразительностью жеста и слова.
Позднее русский поэт выразит ошеломляющую стихийную силу народного зрелища:
Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа Иногда суждено.
Как игралось подростку На народе простом В белом платье в полоску И с косою жгутом 8.
Театр должен играть так, как играют реки, что «впадают в Федерико Гарсиа Лорку». Играть, как реки, — играть реками. . . Праздник театра -- модель вселенского взрыва творческой энергии; в «Поэме о канте хондо» Лорка раскрывает титанические коллизии — столкновение Жизни и Тьмы, Огня и Ветра. . . Разве возможен театр, в котором могут быть показаны такие столкновения.
Оказывается, он был возможен в ауто — самом популярном театральном жанре в Испании XVI—XVII вв. — Жизнь, Тьма, Огонь, Смерть, Ветер были часто встречающимися персонажами. Ауто родилось на площади, формировалось в праздничной сутолоке, обрело благодаря Лопе де Вега, Тирсо и Кальдерону способность вбирать важнейшие проблемы бытия и, достигнув фило- софски-поэтических вершин, оставалось площадным представлением. Когда в 1932 г. Лорка создаст собственный театр «Ла Баррака», он, не мешкая, поставит ауто Кальдерона «Жизнь есть сон» (именно ауто, а не одноименную и куда болсс известную в XX в. кальде- роновекую драму!). В спектакле Лорки, по свидетельству очевидцев, особенно запоминались начальные сцены — спор четырех элементов — Земли, Воздуха, Воды и Огня, — их руки протянуты к короне, и кажется, что вся Вселенная устремилась к этой точке и что сценическая площадка стала местом столкновения мировых сил. Судьба Человека теснейше сопряжена с грандиозной борьбой Добра и Зла, чьи перипетии меняют лик планеты, то покрывающейся сплошными цветами, то содрогающейся от землетрясения и погружающейся в ужасающий мрак. . .
Зрители, собравшиеся на спектакли «Ла Ьарраки», затаив дыхание следили за сложнейшими поворотами мысли лирико-философской притчи. Они вели себя так почтительно, вспоминает один из участников труппы Луис Саэнс де ла Калсада, «как будто присутствовали на мессе» 9.
«Крестьяне, — говорил Лорка, — смотрели с таким глубоким удовольствием, с таким напряженным вниманием, что готовы были поколотить любого за малейший шум, помешавший бы им услышать хотя бы одно слово» 10. И когда ненавидимый клерикальными кругами писатель подчеркивал, что «святое богослужение мессы — это совершеннейшее театральное представление из всех доступных нам» 11, он учитывал восприятие народного зрителя, для которого церковная служба была «театром», знакомым по преимуществу, — крестьяне привыкли к праздничной торжественности, глубокой серьезности и красоте действа, в котором обыденное преображается в чудесное: ясли — в рождественский вертеп, убогий ужин — в Тайную вечерю.. .
Лорка шел навстречу такому восприятию, и ауто было для него образцом зрелища, разыгрываемого на повозках перед обступившей их со всех сторон огромной толпой. Оно как бы настежь распахивалось перед публикой и обращалось не к каждому зрителю в отдельности, а к массе, демонстрируя укрупненно, броско и доходчиво то, что было важно для всех; актеры превращались в гистрионов — священный сюжет разыгрывался так, чтобы привлечь толпу, привыкшую к ярмарочным выступлениям.
Уроки площадного театра, в котором фарсово-гинь- ольное и лирико-драматическое не только соседствуют, но и сплетаются друг с другом, плодотворно усваиваются в 20-е годы Лоркой, увлеченным новейшими художественными течениями и веяниями; стихия фольклорности столкнется с сюрреалистической установкой на стихийное, плакатность лубка—с кричащей выразительностью экспрессионизма — и это даст неожиданные плоды.
Приобщаясь к народной культуре, художник приобщается и к народной судьбе. С детства, как писал юный Федерико в своем не опубликованном до сих пор очерке «Моя деревня», он видел трагедию нищеты: «. . .я вырос среди страждущих людей. И я протестую против безразличия к участи тех, кто трудится на земле» 12. Во «Впечатлениях и пейзажах» он выскажется против «тяжкой социальной несправедливости», вспоминая о голодных детях в приюте, зависящем от муниципальных властей — от «бандитов во фраках» 13. В «Марьяне Пинеде», которая писалась осенью 1923 г.—как раз в то время, когда в Испании власть удерживала военщина 14, воспета борьба против гнета. Палачи казнят Марьяну, но она остается жить в народных песнях и в драме Лорки, из этих песен вырастающей, соединяющей эстетику неоромантизма и символизма рубежа веков с символикой фольклорного сказания. Превращение реальной жительницы Гранады в легендарный образ не случайно привлекает Федерико. В его искусстве 20-х годов предмет рассмотрения — не столько жизнь как она есть, сколько преображение жизни при помощи мечты, красоты и страсти. Кажется, что порыв к свободе, пусть и недостижимой или недостигнутой, трансформирует людей и окружающий их мир, Вера в это питает поэтический театр Лорки, когда метафора оказывается неотторжима от метаморфозы, от игры естественных сил и дерзкого полета воображения.
Апофеоз театральности — «Любовь дона Перлимп- лина» (1926—1928), игра здесь обретает небывалую власть — старому мечтателю блестяще удается роль юного любовника, но перевоплощение оказывается столь полным, что Перлимплин убивает себя, изображая гибель воображаемого персонажа. Достигнув предельных высот, игра сливается с правдой, но веселый звон шутовского бубенца обрывается трагической нотой; отныне рядом с Арлекином будет неизменно появляться Смерть. . .
Переступив порог 30-х годов, Лорка показывает в «Публике», как игра пытается подменить собой правду и терпит крах! По ту сторону реальности открывается не суть бытия, а только небытие. В «Когда пройдет пять лет», намеренно и высокомерно расходясь с правдой, игра превращается из наиболее вольного, естественного и радостного проявления жизни в ее безответственную и непоправимую растрату.
Лорка сознает необходимость пристально вглядеться в объективные законы реальности в ее самом нелицеприятном виде. В сравнительно сдержанные 20-е годы он справлял шумные театральные торжества, в «ревущие тридцатые» его искусство выглядит более сосредоточенным. В «Кровавой свадьбе» быт впервые у испанского драматурга выступает с жесткой определенностью, праздник здесь не только антипод быта, но и его продолжение, в нем прорывается то, что накапливалось в буднях,— не только потребность радости и любви, но и жажда расправы и мести.
В «Донье Росите», «Йерме» и «Доме Бернарды Альбы» рассказано о жизни, размененной на ожидание праздника или от праздника отлученной. Поражавший широтой охвата событий, драматург суживает действие почти до микроскопической точки, собираясь исследовать основополагающую клеточку действительности, отыскать корни болезни или залог здоровья.
Такая «точка» — внутренние покои дома. Эта точка тупиковая. «Йерма», «Донья Росита» и «Дом Бернарды Альбы» — драмы бесплодия, они рассказывают о жизни, которая не будет иметь продолжения, о безысходной ветви, уводящей от Великой Цепи Бытия ь\
Поэзия Лорки держала перед нашим взором эту великую цепь, и театр должен был обладать даром метафорически широкого охвата. «Театр социального действия», как подчеркивал писатель, — это театр поэтический! «Только поэтический театр выдерживает все испытания времени» |6. Поэтический способ мышления — это ассоциативный способ сопряжения всех звеньев бытия, образующих единое, неразрывное целое, даже если они очень далеко отстоят друг от друга: луна, лимон и смерть, например.
Перечисляя различные события 1910—1911 гг.— смерть Толстого, смерть Комиссаржевской, смерть Врубеля, кризис символизма, забастовки в Лондоне, увлечение французской борьбой в петербургских цирках, убийство Столыпина и многое другое, — Блок писал: «Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни,
доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор» ,7. У Лорки «единый музыкальный напор» — это поэтическая воля представить цельность мира. Сила его — сила стяжения, обнаруживающая созвучность всего на свете: <-
Застыло дыханье моря, забились бледные ветви, запели флейты ущелий.
И гонг снегов им ответил, —18
тут на каждом шагу слышна перекличка людей и природы, всех мировых явлений. Поэтическое видение — это, как писал испанский поэт и критик Карлос Боу- соньо, «космовидение» 19. Несомненно, что проза все больше проникает в его драмы 30-х годов, но это проза, увиденная глазами поэта, она обретает резкую, зловещую выразительность: домашний интерьер сродни камере смертника.
Ужас смерти в стихах Лорки страх убийства,
В произведениях 30-х годов смерть — это насилие, действующее день изо дня и словно капля за каплей выпускающее кровь у своих жертв. И героини Лорки восстают, предпочитая дерзкий бунт, отчаянную схватку без шанса на успех медленному, покорному и бесславному умиранию. В «Кровавой свадьбе», «Йерме», «Доме Бернарды Альбы» проявляется решимость идти на все, смертью смерть поправ, покончив с рабским пленом, чтобы смерть вынуждена была служить делу жизни.
И вместе с тем есть нечто ужасное в том, что порыв к счастью вызывает катастрофу, подобно тому как крик радости может вызвать в горах все погребающую на своем пути лавину.
Лорка — одно из высших художественных воплощений первой трети XX в.; в его творчестве мы видим, как в кровавых муках рождается новый век, близящийся ныне к своему концу. Если сейчас повсюду в Европе доминирует стремление к миру и согласию, то тогда многие беспокойные умы уповали на грозные потрясения, на освежительный ураган или, говоря чеховскими словами, «здоровую, сильную бурю». . .
В опубликованной в 1929 г. «Волшебной горе» Томас Манн подметил в своем герое восторженную радость «любовного прикосновения к силам, которые — в более тесном объятии —его неизбежно бы уничтожили» 20, подразумевая под этими силами стихии природы, манящие и опасные, сулящие приобщение к небывалой мощи и побуждающие того, кто чрезмерно увлекся ими, безрассудно утратить страх перед смертью. . .
Герои Лорки, очарованные стихиями, черпают в них вдохновение и находят гибель. Постепенно же в его искусстве самой притягательной стихией оказывается стихия бунта. Он был перед ней распахнут, но обнаруживал в ней не только пьянящую красоту, но и разрушительное начало. Он заглядывал далеко и был способен увидеть страшное: как желание перешагнуть все границы приводит к пренебрежению человеческой сущностью, какую угрозу таят и умерщвляющий любые вольные ростки гнет, и равнодушное в своем экстатическом угаре к отдельным судьбам насилие во имя свободы. Он тесно соприкоснулся с идейными и художественными течениями, испытавшими соблазн отречься от гуманистических заветов во имя нового, небывалого опыта, но сильнее всего в нем была любовь к вечным ценностям, и прежде всего к жизни человека, столь хрупкой и уязвимой и все же таящей в себе нечто непреходящее. Страстной его натуре не могла быть близкой покорность перед силой обстоятельств, он жалел тех, кто мирится с прозябанием, и восхищался теми, кто готов жертвовать своей жизнью, но всем своим творчеством восставал против права приносить в жертву других, с ужасом замечая, что те, кто не хочет, чтобы кровь застоялась, легко готовы проливать ее.
Предельно искренний, он творил также естественно, как жил, и его убийство стало актом трагедии, которую он предвидел. Судьба поэта неизбежно вызывала мысль о трагической силе искусства, об опасном сходстве творца с пророком, заставила еще острее звучать пронизывающие его творчество мотивы скорой беспричинной расправы, погромного побоища, вещих предчувствий и горьких прозрений, что современная цивилизация не содержит гарантии гуманности, на которую уповали в прошлом.
. . .Фашисты расстреляли Лорку ранним утром 19 августа 1936 г. неподалеку от Гранады, в оливковой роще возле дороги, ведущей от ущелья Виснар в Альфа- кар,- и зарыли в общей могиле, сравняв ее с землей, чтобы от поэта не осталось и следа. Но эта гибель несла не забвение, а бессмертие.
Идут годы, и все яснее становится масштаб дарования Лорки, обретающего все новых читателей и зрителей.
Лорка занимает особое место в театре XX в. Певец не буден, а праздника, убежденный, что жизнь должна кипеть весенним половодьем или ее вовсе не надо, он строил свои пьесы не на синтезе поэзии и прозы, а на непримиримом их конфликте.
Образ любимых чеховских героев, пишет Борис Зин- герман, «совпадает с образом родной природы, с ее плавными, округлыми линиями, размытыми переходами от одного предмета к другому, мягким очертанием тонов» 21. Лорке же свойственно нечто противоположное — не мягкость, а, говоря его собственными словами, «выжженная ясность». «Мы, андалузцы, редко замечаем средние тона. Андалузец либо шлет гордый вызов звездам, либо целует рыжую пыль своих дорог. Средние тона для него не существуют»22. Вместо полутонов у Лорки чаще всего обнаруживается контрастность, вместо акварельности — скульптурность. Фигуры не сливаются с пейзажем, а выступают на подмостках, словно на постаменте. Даже в сценах в ночном лесу в III акте «Кровавой свадьбы» леса, в сущности,не видно — видны лишь какие-то «огромные влажные стволы деревьев» 23. Когда рассветет, действие вновь будет протекать в «выбеленной комнате с толстыми стенами», куда принесут трупы Леонардо и Жениха, убивших друг друга. Эта комната предвещает «ослепительно белые» стены в «Доме Бернарды Альбы» — так продолжают жить образы, рожденные в «Поэме о канте хондо» и в «Цыганском романсеро», где пейзаж залит лунным светом и этот свет не греет и не живит, а несет беду и напасть. Но драматургия Лорки — не только суровое дыхание кровавого мифа и еще более кровавой истории, но и изящество арлекинады, и ясность лубочных красок, и карнавальная неугомонность. Новые сценические и критические интерпретации открывают все новые и новые грани его неисчерпаемого дарования. И эта книга — одна из попыток такой интерпретации. . .
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|